Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 4"
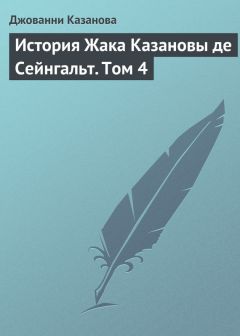
Автор книги: Джованни Казанова
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Я пошел к г-ну де Брагадин, рассказал ему все дело и потребовал отмщения. Я живо описал ему все основания, по которым моя порядочная хозяйка желала соразмерного отмщения за обиду, поскольку законы гарантируют спокойствие всей семье, к которой арестованный не имеет отношения. Высказав ему все это в присутствии двух других друзей, случившихся здесь, я увидел, что все трое задумались. Мудрый старик сказал, что ответит мне после обеда.
Во время этого обеда, на котором де ла Хайе не промолвил ни единого слова, я увидел, что все трое грустны. Я отнес это на счет той дружбы, что они питали ко мне. Связь этих трех почтенных персонажей со мной всегда служила поводом удивления для всего города. Полагали, что дело не может быть естественным и обязано своим происхождением колдовству. Они были набожны до крайности, а в Венеции не было большего вольнодумца, чем я. Добродетель может быть снисходительна к пороку, – говорили они, – но не любить его.
После обеда г-н де Брагадин принял меня в своем кабинете, вместе с двумя другими друзьями, которые никогда не бывали лишними. Он сказал мне с большим хладнокровием, что вместо того, чтобы требовать возмещения ущерба за то, что Мессер Гранде натворил в доме, где я живу, я должен думать о том, чтобы удалиться самому в безопасное место.
– Чемодан с солью, – сказал он мне, – только предлог. Это тебя они хотят и тебя собирались найти. Твой ангел сделал так, что они тебя не нашли, – спасайся. Я был восемь месяцев Государственным инквизитором, и я знаю стиль арестов, которые делаются по приказу трибунала. Не взламывают дверь для того, чтобы захватить мешок соли. Может также быть, что они ошиблись нарочно. Поверь мне, дорогой сын, беги сразу в Фюзине, оттуда уезжай на почтовых, днем и ночью, во Флоренцию, и оставайся там, пока я тебе не напишу, что ты можешь вернуться. Бери мою четырехвесельную гондолу и уезжай. Если у тебя нет денег, я дам тебе сотню цехинов на первое время. Благоразумие требует, чтобы ты уезжал.
Я ответил, что, не чувствуя себя ни в чем виноватым, я не могу бояться трибунала, и, соответственно, не могу следовать его совету, хотя и знаю, что он человек очень осмотрительный. Он ответил, что трибунал Государственных инквизиторов может признать меня виновным в преступлениях, о которых я не знаю. Он посоветовал мне спросить у моего оракула, должен ли я следовать его совету или нет, но я отказался от этого, сказав, что я спрашиваю, только когда сомневаюсь. Я сослался на последний резон, сказав, что, уехав, я покажу, что боюсь, из чего будет следовать, что я сознаю себя виновным, потому что невинный, не имея угрызений совести, не имеет основания бояться.
– Если молчание, – сказал я ему, – душа этого великого трибунала, вам будет невозможно после моего бегства выяснить, хорошо или плохо я сделал, убежав. Сама осмотрительность, которая, согласно Вашему Превосходительству, приказывает мне уехать, помешает мне и вернуться. Следует ли, таким образом, мне отдать последнее «прости» своей родине? Он попытался, наконец, убедить меня спать, по крайней мере, в эту ночь, в моих апартаментах во дворце, и я, к своему стыду, даже в этот момент отказал ему в этом удовольствии.
Полицейские не могут входить во дворец патриция, по крайней мере, если трибунал не даст им прямой приказ, но такого никогда не случалось.
Я сказал ему, что предосторожность, состоящая в том, чтобы спать в его дворце, гарантирует меня только на ночь, и что меня найдут везде в течение дня, если у них есть приказ меня арестовать.
– Они могут это сделать, – сказал я ему, – но я не должен бояться.
Добрый старик взволновал меня, сказав, что возможно мы больше не увидимся, и я попросил его, ради всего святого, не говорить о грустном. На эту просьбу он немного подумал, потом улыбнулся и обнял меня, произнеся формулу стоиков: Fata viam inveniunt.[38]38
Судьба знает, куда нас ведет. Вергилий, Энеида.
[Закрыть]
Я обнял его, проливая слезы, и вышел, но его предчувствие подтвердилось. Я больше с ним не увиделся. Он умер одиннадцать лет спустя. Я вышел из дворца, не имея в душе ни тени страха, но множество переживаний из-за моих проигрышей. Я не решался ехать в Мурано взять у М. М. пятьсот цехинов, которые должен был отдать тому, кто выиграл их у меня накануне; я предпочел пойти просить его подождать неделю. После этого я направился к себе и, выразив сочувствие хозяйке и поцеловав ее дочь, пошел спать. Это было в начале ночи 25 июля 1755 года.
На следующий день, на рассвете, Мессер Гранде вошел в мою комнату. Проснуться, увидеть его и услышать вопрос, являюсь ли я Яковом Казанова было делом мгновенным. После того, как я ответил ему, что я именно тот, кого он назвал, он приказал мне выдать все, что у меня есть написанного, мной или другими, одеться и следовать за ним. Когда я спросил, от чьего имени отдает он мне такой приказ, он ответил, что от имени трибунала.
Глава XII
В Пьомби. Землетрясение.
От слова «Трибунал» душа моя окаменела, осталась только способность повиноваться. Мой секретер был открыт; все мои бумаги лежали на столе, где я писал; я сказал, что он может их взять; он положил их в мешок, который принес ему один из его людей, и он сказал мне, что я должен также передать ему манускрипты, связанные с книгами, которые у меня должны быть; я показал ему место, где они лежали, и тем самым я ясно увидел, что плагиатор Мануцци – гнусный шпион, который донес, что у меня есть эти книги, когда уверял меня, что может способствовать выгодной покупке бриллиантов и поможет продать книги; среди них были «Клавикула Соломона», «Бен-Зохар», «Пикатрикс», пространная инструкция по счислению планетных времен, способствующих приготовлению ароматов и заклинаний, необходимых для общения с демонами всех видов. Те, кто знал, что у меня есть эти книги, считали меня колдуном, и я на это не сердился. Мессер Гранде попросил у меня также книги с моего ночного стола: Ариосто, Горация, Петрарку, «Военную философию», манускрипт, что мне дала Матильда, «Шартрский привратник», и маленькую книжку непристойных гравюр Аретино, которые также изобличали Мануцци, поскольку Мессер Гранде также их спросил у меня. Этот шпион имел вид порядочного человека – качество, необходимое при его профессии; его сын разбогател в Польше, женившись на одной из Опеска и, как говорят, убив ее, чему я не верю, не зная в точности, но допуская, что он на это способен. Когда мессер Гранде собрал мои манускрипты, книги и письма, я машинально оделся, ни быстро, ни медленно, совершил свой туалет, побрился, К. Д. меня причесала, я взял свою кружевную сорочку и красивую одежду, все – не думая, не произнося ни слова, и при том, что Мессер, не теряя меня все время из виду, не делал мне замечаний на то, что я одеваюсь, как на свадьбу.
Выходя из своей комнаты, я был поражен, увидев тридцать или сорок стражников в зале. Мне оказали честь, сочтя их необходимыми, чтобы обезопаситься от моей персоны, хотя, согласно аксиоме ne Hercules guident contra duos[39]39
Даже Геркулес не справится с двумя (равными ему) – греческая поговорка.
[Закрыть] было бы достаточно и двоих. Странно, что в Лондоне, где народ храбрый, только один мужчина достаточен, чтобы арестовать другого, а на моей дорогой родине, где все трусы, используют для этого тридцать человек. Причина, возможно, в том, что трус, вынужденный нападать, должен испытывать больший страх, чем трус, подвергшийся нападению, который по этой причине вынужден быть храбрым; и действительно, в Венеции случается видеть одного мужчину, отбивающегося от двадцати сбиров и спасающегося от них после того, как он их поколотил. Я помог в Париже одному из своих друзей ускользнуть от сорока фликов, которых мы обратили в бегство.
Мессер Гранде завел меня в гондолу, где сел рядом со мной, взяв с собой только четверых и отпустив остальных. Прибыв к себе, он запер меня в комнате, предложив сначала кофе, от которого я отказался. Я провел там четыре часа, все время в дреме, просыпаясь каждые пятнадцать минут, чтобы помочиться – феномен необычный, потому что я не страдаю повышенным мочеиспусканием, жара стояла необычайная и я не ел супу; несмотря на это, я наполнил мочой два больших горшка. У меня был как-то опыт: удивление, вызванное внезапным притеснением, произвело на меня эффект сильного наркотика, но только в этом случае оно послужило диуретиком. Я не нашел объяснения у физиков. Я очень смеялся в Праге, где опубликовал рассказ о своем бегстве из Пьомби шесть лет назад, когда узнал, что прекрасные дамы считают описание этого случая свинством, которое я мог бы и опустить. Я бы опустил его, может быть, при разговоре с дамой, но публика не дама, и я люблю поучать. Кроме того, это не свинство; в этом нет ничего грязного, ни вонючего, хотя нас всех это объединяет со свиньями, как и еда и питье, хотя эти процессы никто не называет свинством.
По-видимому, в то время, как мой пораженный разум должен был проявлять признаки утраты мыслительных способностей, мое тело должно также, как бы под прессом, выделить часть своих флюидов, которые при постоянной циркуляции приводят в действие нашу способность мыслить; и вот как ошеломляющая неожиданность может привести к внезапной смерти, и, боже нас сохрани, отправить нас в рай, потому что может залить нашу душу кровью.
При звоне колокола Терцы вошел начальник полиции и сказал, что у него приказ поместить меня в Пьомби[40]40
тюрьма в Венеции – прим. перев.
[Закрыть]. Я последовал за ним. Мы сели в другую гондолу и, после долгого кружения по малым каналам, вошли в большой и вышли на тюремную набережную. Поднявшись по нескольким лестницам, мы взошли на высокий закрытый мост[41]41
мост Вздохов — прим. перев.
[Закрыть], соединяющий тюрьмы с Палаццо Дукале[42]42
дворцом дожей
[Закрыть] поверх канала, называемого Rio di palazzo[43]43
Рио ди Палаццо
[Закрыть]. После этого моста мы прошли галерею и вошли в комнату, затем в другую, где меня представили человеку, облаченному в одежду патриция, который, посмотрев на меня, сказал ему:
– È quello; mettetelo in deposito.[44]44
– Это он, поместите его в камеру.
[Закрыть]
Этот персонаж был секретарь гг. Инквизиторов, «Благоразумный» (Circospetto) Доменико Кавалли, который, очевидно, постыдился говорить по-венециански в моем присутствии, потому что провозгласил мой арест по-тоскански. Мессер Гранде передал меня стражу Пьомби, присутствовавшему там, который держал в руках связку ключей и, в сопровождении двух стражников, поднялся со мной по двум малым лестницам, прошел по галерее, затем по другой, отделенной от первой запертой на ключ дверью, затем еще по одной, в конце которой он отворил дверь другим ключом, и я вошел в мерзкий и грязный чердак длиной в шесть туазов и шириной в два, слабо освещаемый окошком сверху. Я принял этот чердак за свою тюрьму, но я ошибся. Этот человек, который был смотритель, снял со связки большой ключ, открыл толстую обитую железом дверь, высотой в три с половиной фута, имевшую посередине круглое отверстие восьми дюймов в диаметре, и приказал мне войти туда, в то время как я внимательно разглядывал железную машину, приклепанную к мощной перегородке, имевшую форму подковы, толщиной в дюйм и диаметром в пять от одного до другого края. Я раздумывал, что бы это могло быть, когда он сказал мне, улыбаясь:
– Я вижу, месье, что вы хотели бы понять, для чего служит эта машина, и я могу вам это сказать. Когда Их превосходительства приказывают кого-то задушить, его сажают на табурет, спиной к этому ошейнику, и помещают его голову так, чтобы его половина охватывала шею. Толстый шелковый шнур, связывающий ее с другой половиной и проходящий концами через эти два отверстия, оканчивается воротом, на который он наматывается, и человек поворачивает его до тех пор, пока пациент не отдает свою душу Создателю, поскольку, слава Богу, исповедник его не покинет, пока он не умрет.
– Это очень изобретательно, и я думаю, месье, что это вы имеете честь поворачивать этот ворот.
Он мне не ответил. Мой рост был пять футов девять дюймов[45]45
187 см – прим. перев.
[Закрыть], мне пришлось сильно нагнуться, чтобы войти; и он меня запер. Он спросил через решетку, чего я хочу есть, и я ответил, что об этом еще не думал. Он ушел, закрыв все свои двери.
Подавленный и угнетенный, я положил локти на высокую подставку перед решеткой. Она опиралась на две опоры и была со всех сторон перекрещена шестью железными полосами с палец толщиной, которые образовывали шесть квадратных отверстий шириной по пять дюймов. Она образовывала камеру, довольно светлую, если бы не четырехугольная балка, игравшая роль опоры потолка, полутора футов ширины, врезанная в стену под окошком, что располагалось от меня наискосок. Балка частично заслоняла свет, попадавший в каморку. Обойдя кругом эту ужасную тюрьму и держа при этом голову наклоненной, потому что в камере было не более пяти с половиной футов высоты, я нашел, почти на ощупь, что она имеет площадь в три четверти от двух квадратных туазов. Оставшаяся четверть образовывала фактически нечто вроде алькова, способного вместить кровать, но я не нашел ни кровати, ни сиденья, ни стола и вообще никакой мебели, за исключением бака для естественных надобностей и доски, вделанной в стену, шириной в фут, приподнятой над полом на высоту в четыре фута. Я поместил на ней свое прекрасное шелковое манто, мое красивое почти новое платье и мою шляпу, обшитую галуном, как принято в Испании, с белым пером. Жара была невыносимая. К своему удивлению, единственное место, к которому привлекла меня натура, была решетка, где я смог отдохнуть, опираясь на локти; я не мог видеть окошко, но видел свет, освещавший каморку, и прогуливающихся крыс, огромных как кролики. Эти отвратительные животные, которых я ненавидел, подходили почти к самой моей решетке, не показывая ни малейших признаков страха. Я быстро закрыл внутренней задвижкой круглое отверстие в середине двери, потому что их визит леденил мне кровь. Впав в глубочайшую задумчивость, с руками поверх опоры, я провел восемь часов в неподвижности, молчании, без движения.
Когда прозвонило двадцать один час[46]46
два с половиной часа до захода солнца
[Закрыть], я начал интересоваться тем, что не вижу, чтобы кто-то пришел, никто не интересуется, хочу ли я есть, что мне не несут ни кровати, ни стула, и, по крайней мере, хлеба и воды. У меня не было аппетита, но мне казалось, что они не должны были этого знать; у меня в жизни не было так горько во рту; однако я был уверен, что до конца дня кто-то должен появиться; однако, когда я услышал, что звонит двадцать четыре часа, я стал неистово кричать, бить ногами, ругаться, сопровождая громкими выкриками производимый мной бесполезный шум. После более чем часа этих неистовых упражнений, не видя никого и не имея ни малейших признаков того, что кто-нибудь может услышать мои безумства, объятый мраком, я закрыл решетку, опасаясь, что крысы запрыгнут в камеру. Я распростерся на полу, обернув свои волосы платком. Такое безжалостное забвение казалось мне немыслимым, даже если хотели меня умертвить. Размышление над тем, что я мог сделать такого, что привело бы к подобной жестокой участи, длилось всего лишь мгновение, потому что я не мог найти оснований для своего ареста. Я не мог счесть себя виноватым в качестве великого распутника, дерзкого болтуна, человека, думающего только о наслаждениях, но, видимо, именно за это меня и осудили, и я избавляю читателя от всего того, что ярость, негодование, отчаяние заставляли меня говорить и придумывать против ужасной деспотии, угнетавшей меня. Однако, черный гнев и горе, которые меня пожирали, и твердый пол, на котором я находился, не помешали мне заснуть, моя природа нуждалась во сне, и когда существо, вмещающее ее, молодо и здорово, оно делает то, что требуется ему, без необходимости об этом думать.
Полуночный колокол меня разбудил. Ужасное пробуждение, когда чувствуешь лишь бесполезное сожаление, либо сонные видения. Я не мог поверить, что провел три часа, не чувствуя никакого горя. Не двигаясь, лежа, как и раньше, на левом боку, я протянул правую руку, чтобы взять свой платок, который, как мне помнилось, должен был находиться там. Двигая на ощупь рукой, о Боже! – я испытал шок: я обнаружил, что вторая рука холодна как лед. Ужас пронзил меня с головы до пят, и волосы встали дыбом. Никогда в жизни душа моя не испытывала такого ужаса и я не думал, что такое возможно. Три-четыре минуты я провел, не только оставаясь неподвижным, но и неспособным думать. Придя немного в себя, я смог предположить, что рука, которую я думал, что трогаю, была на самом деле не более чем объектом воображения; в этом твердом предположении я снова протягиваю руку в том направлении и натыкаюсь на ту же руку; оцепенев от ужаса, испустив пронзительный крик, я замираю, отдернув руку. Я дрожу; но, овладев собой, решаю, что пока я спал, мне подсунули труп, потому что я уверен, что когда я укладывался на пол, там ничего не было. Я представил себе тело какого-то невинного несчастного, и может быть, моего друга, которого задушили и поместили рядом, чтобы при пробуждении я увидел перед собой образчик судьбы, которую должен ожидать для себя. Эта мысль пробудила во мне ярость; я в третий раз протягиваю свою руку, я ощупываю ту руку и хочу встать, чтобы подтащить к себе труп и убедиться в чудовищной жестокости этого деяния; но, желая опереться на свой левый локоть, я чувствую, что та рука, которую я сжимаю, оживает, отодвигается, и через мгновение, с огромным удивлением, я убеждаюсь, что держу правой рукой свою же левую руку, онемевшую, парализованную, потерявшую способность двигаться, чувство и тепло – следствие нежной, мягкой и уютной кровати, на которой отдыхала моя персона.
Это приключение, хотя и комическое, меня не развеселило. Оно, наоборот, дало мне повод для самых мрачных размышлений. Я осознал, что нахожусь в месте, в котором, если воображаемое кажется действительным, реальность должна казаться сновидением; где разум должен терять половину своих возможностей, где искаженная фантазия должна заменить жертве пораженный разум или химерическую надежду, либо ужасную безнадежность. Я прежде всего предостерег себя от всех этих опасностей; И первый раз в жизни, в свои тридцать лет, призвал себе на помощь философию, начатки которой жили в моей душе, и которой до того у меня не было случая воспользоваться. Я полагаю, что большинство людей умирают, в жизни ни разу не подумав. Я просидел на своем заду почти восемь часов; поднималась заря нового дня; солнце должно было подняться в девять с четвертью; мне не терпелось увидеть этот день; внутреннее чувство, что меня сочтут безгрешным, убеждало, что меня отправят домой; я кипел от желания отомстить, которое от себя не скрывал. Я представлял себе, как стану во главе народа, чтобы прикончить врагов и истребить аристократов; все должно было быть растерто в пыль; я бы не удовольствовался тем, что скомандовал бы палачам прирезать моих притеснителей, но сам должен был произвести эту казнь. Таков человек, и он не усомнится в том, что прав, хотя этим языком в нем говорит не его разум, но его самый главный враг – гнев.
Я ожидал меньше, чем настроился ждать, и вот главная причина, что успокоился мой гнев. В восемь тридцать глубокое молчание этих мест – ад живого человечества – было прервано визгом запоров в вестибюлях и коридорах, которые вели к моему застенку. Я увидел тюремщика перед своей решеткой, который спросил меня, хватило ли у меня времени подумать, что я хочу есть. Замечательно, что дерзость мерзавца скрывается под маской иронии. Я ответил ему, что хочу супу, отварного мяса, жаркого, хлеба, воды и вина. Я увидел удивление тупицы, не слышавшего никогда о таких продуктах. Он ушел, но вернулся четверть часа спустя сказать, что удивлен, что я не сказал ему, что хочу кровать и все, что мне положено, потому что, как сказал он:
– Если вы думаете, что вас задержат здесь только на одну ночь, вы ошибаетесь.
– Тогда принесите мне все, что полагаете мне необходимым.
– Куда я должен пойти? Вот карандаш и бумага. Напишите мне все.
Я описал ему место, куда он должен был пойти, чтобы достать мне кровать, рубашки, чулки, домашнее платье, комнатные туфли, ночной колпак, кресло, стол, расчески, зеркала, бритвы, платки, книги, которые Мессер Гранде у меня забрал, чернила, перья и бумагу. С трудом прочитав все это, потому что негодяй не умел читать, он сказал вычеркнуть книги, чернила, бумагу, зеркала, бритву, поскольку все это запрещено в Пьомби правилами, и он советует, чтобы я подумал, что купить на обед. У меня было три цехина, и я дал ему один. Он вышел из помещения, и пришел через час. За этот час, как я в дальнейшем узнал, он обслужил семерых других заключенных, которые содержались наверху, в камерах, удаленных друг от друга, чтобы исключить для заключенных любое сообщение между собой.
К полудню тюремщик появился в сопровождении пяти стражников, обслуживающих государственных преступников. Он открыл камеру, чтобы внести заказанную мной мебель и мой обед. Он поместил кровать в алькове, поставил обед на маленький стол. Мой прибор состоял из деревянной ложки, которую он купил за мои деньги; вилка и нож были запрещены, как и все предметы из металла.
– Закажите, – сказал он мне, – все, что вы хотите есть завтра, потому что я могу приходить сюда только раз в день, на рассвете. Светлейший секретарь велел мне сказать, что пришлет вам разрешенные книги, потому что те, что вы заказали, являются запрещенными.
– Поблагодарите его за милость, что он мне оказывает, оставляя меня в одиночестве.
– Я выполню ваше поручение, но вы вредите себе, насмехаясь подобным образом.
– Я не насмехаюсь, потому что, как мне кажется, лучше быть в одиночестве, чем с негодяями, которые должны здесь находиться.
– Как, месье! Негодяи? Я возмущен. Здесь находятся только достойные люди, которых надо, однако, отделить от общества по соображениям, которые знают только их Превосходительства. Вас оставили в одиночестве, чтобы дополнительно наказать, а вы хотите, чтобы я благодарил за подобное отношение?
– Я этого не знал.
Этот тупица был прав, и я в этом вполне убедился несколько дней спустя. Я понял, что человек, запертый в одиночестве, лишенный возможности чем-то себя занять, в почти темном помещении, где он не видит и не может видеть, кроме как раз в день, того, кто приносит ему поесть, и где он не может ходить выпрямившись, – это несчастнейший из смертных. Он мечтает об аде, если он в него верит, чтобы оказаться в компании. Я дошел до того, что там мечтал об убийце, сумасшедшем, зловонном больном, о медведе. Одиночество в Пьомби лишает надежд; но чтобы это понять, следует попробовать. Если заключенный – человек литературный, и ему дают перо и бумагу, его несчастье уменьшается на девять десятых.
После ухода тюремщика я поставил стол около отверстия, чтобы воспользоваться капелькой света, и сел обедать при слабых отблесках света, идущего из чердачного окошка, но смог съесть только малую толику супа. Проголодав сорок восемь часов, я бы не удивился, если бы заболел. Я провел день без гнева в своем кресле, ожидая завтрашнего дня и успокаивая ум мыслями о чтении книг, которые мне милостиво обещали. Я провел ночь без сна, вслушиваясь в неприятный шум, производимый крысами в чердачном помещении, и в компании колокола Св. Марка, звон часов которого, казалось, производился в моей комнате. Род пытки, о которой мои читатели имеют лишь слабое представление, причинявшей мне невыносимые страдания, доставляли мне миллионы блох, сновавших с сердечной радостью по всему моему телу, алчущих моей крови и моей кожи, которую они дырявили с ожесточением, которого я не мог себе представить; эти проклятые насекомые доводили меня до конвульсий, до судорог и отравляли мне кровь.
На рассвете появился Лорен, – это было имя тюремщика, – чтобы заправить мне постель, подмести, прибрать, и один из его сбиров подал мне воды, чтобы умыться. Я хотел выйти в чердак, но Лорен сказал, что это не разрешается. Он дал мне две толстые книги, которые я не стал открывать, будучи не уверен, что смогу сдержать первый порыв возмущения, который они, возможно, вызвали бы во мне, и о котором шпион бы сообщил. Оставив мне мое съестное и нарезав мне два лимона, он ушел.
Съев быстро мой суп, чтобы поесть горячего, я положил книгу к свету, что пробивался из чердачного окошка в отверстие, и увидел, что легко смогу читать. Я посмотрел заглавие и увидел: «Мистический город сестры Марии де Жезус, называемой Л’Аграда». Я ничего о ней не знал. Вторая была иезуита, имя которого я забыл (на полях, рукой Казановы, – Каравита). В ней описывалось новое особое и непосредственное поклонение сердцу нашего Св. И.Хр. Из всех человеческих частей нашего божественного посредника именно этой части, согласно автору, следовало непосредственно поклоняться; странная идея сумасшедшего невежды, чтение которого меня отвратило с первой страницы, поскольку сердце мне не представлялось органом более значительным, чем легкое. Мистический город меня слегка заинтересовал.
Я прочитал все, что сумасбродство воспаленного воображения испанской девственницы, в высшей степени набожной, меланхолички, запертой в монастыре, с директрисами по существу невежественными и льстивыми, могло породить. Все ее химерические и чудовищные бредни выставлялись как ее видения; влюбленная и очень близкая подруга Святой Девы, она получила приказ самого Бога описать жизнь его божественной матери; инструкции, которые были ей необходимы, и которые она нигде не могла прочитать, ей сообщил сам Святой Дух.
Она начинала историю матери Бога не только с момента ее рождения, но с весьма непорочного зачатия в животе святой Анны. Эта сестра Мария д’Аграда была старшей монастыря Кордельеров, основанного ею самой для себя. Рассказав в деталях все, что ее великая героиня делала девять месяцев до своего рождения, она говорит, что в три года та подметала свой дом, с помощью девятисот слуг, – все ангелы, назначенные ей Богом, руководимые лично своим принцем Михаилом, который приходил и уходил от нее к Богу и от Бога к ней, с их взаимными посольствами. Что поражало в этой книге, это уверенность в том, что здравомыслящий читатель должен все это принять; более чем фанатичный автор не мог этого придумать, выдумки не могут простираться до таких пределов, все рассказывалось от чистого сердца, это были видения возвышенного мозга, который, без тени гордости, опьяненный Богом, полагает, что передает лишь то, что диктует ему Святой Дух. Эта книга была напечатана с разрешения Инквизиции. Я не мог отойти от изумления. Далекая от того, чтобы возбудить или увеличить в моем уме энтузиазм или религиозное рвение, она искушала счесть выдумкой все, что у нас есть мистического, а также и догматического.
Чтение этой книги могло повлечь за собой некие последствия. Читатель с умом более восприимчивым и более склонным, чем мой, к сверхъестественному, рисковал, читая ее, стать визионером и графоманом, как эта девственница. Необходимость чем-то заняться заставила меня провести неделю с этим шедевром экзальтированного ума, измышляющего небылицы. Я не разговаривал с тупицей тюремщиком, но большего выдержать не мог. Перед сном я занимался чумой, которую сестра д’Аграда изливала на мой ум, ослабленный меланхолией и дурным питанием. Мои причудливые сны заставляли меня смеяться, когда, при пробуждении, я их перебирал в памяти, поскольку мне пришла в голову мысль их записать, и если бы у меня было все необходимое, я выдал бы на-гора, возможно, труд еще более безумный, чем тот, что направил мне г-н Кавалли. С этих пор я увидел, как обманываются те, кто приписывают человеческому духу некую силу; она весьма относительна, и человек, хорошо изучивший себя, обнаружит в себе самом лишь слабость. Я увидел, что, хотя человек редко сходит с ума, само по себе это может случиться легко. Наш разум подобен пушечному пороху, который, хотя и очень легко загорается, сам по себе не горит, пока его не поджечь; или, как стакан, который сам по себе не разобьется, пока его не разбить. Книга этой испанки – как раз средство свести с ума человека, но для того, чтобы этот яд подействовал, человека надо поместить одного в Пьомби и лишить его всякого другого занятия. В ноябре 1767 года, когда я направлялся из Памплоны в Мадрид, Андреа Капелло, мой возчик, остановился на обед на вилле старой кастильянки; я обратил внимание на ее грустный вид и некрасивость, и он предложил мне узнать ее имя. Ох! Как я смеялся, когда он сказал, что ее зовут Аграда! Это здесь, сказал я себе, голова этой святой сумасшедшей разродилась тем шедевром, который, если бы я не имел дела с г-ном Кавалли, я бы никогда не узнал! Старый священник, внушивший мне самое высокое доверие, когда я расспросил его о существовании этой счастливой подруги матери Создателя, показал мне то место, где она писала свой труд, заверив, что отец, мать и сестра божественного биографа были также все святыми. Он сказал мне, и это правда, что Испания ходатайствовала в Рим о ее канонизации, вместе с преподобным Паллафоксом. Это, возможно, тот самый мистический город, что придал способностей отцу Малагрида описать жизнь святой Анны, что ему диктовал также Святой Дух, но бедный иезуит должен был пережить мученичество; это более сильное основание для того, чтобы добиваться его канонизации, когда Компания возродится и вернет себе прежний блеск[47]47
другое название ордена иезуитов – прим. перев.
[Закрыть].
Через восемь-десять дней у меня не осталось больше денег. Лорен спросил у меня, где он должен их взять, и я ответил лаконично: ниоткуда. Этому человеку, невежественному, жадному и болтливому, не понравилось мое молчание. На другой день он сказал, что Трибунал выделил мне пятьдесят су в день, и он будет моим кассиром, будет давать мне отчет каждый месяц и делать закупки того, что я ему укажу, на сэкономленные деньги. Я сказал ему приносить мне два раза в неделю «Лейденскую газету», но он ответил, что это не разрешено. Мне можно было иметь до семидесяти пяти книг в месяц, потому что я не мог больше есть. Меня донимала предельная жара и истощение от недостаточного питания. Это было время в разгаре лета, от палящих лучей солнца, падавших на свинцовые листы, покрывавшие крышу моей тюрьмы, я чувствовал себя как в парильне: пот, сочившийся из пор моей кожи, ручьями лился на пол с боков моего кресла, в котором я сидел голый.
В течение пятнадцати дней я не имел стула и чувствовал, что умру от болей непонятного происхождения. Они вызывались внутренними кровотечениями. Это с тех пор я получил эту жестокую болезнь, от которой не могу более излечиться; этот сувенир, напоминающий мне время от времени о причине и не дающий ее забыть. Если физика не учит нас, как избавиться от многих бед, то, по крайней мере, она учит, как их можно приобрести. Эта болезнь удостоилась, однако, от меня похвал в России; я не мог на нее пожаловаться, когда был там десять лет спустя. Со мной приключилась такая же история в Константинополе, когда у меня случился насморк, и я пожаловался на него в присутствии турка; он ничего не сказал, но про себя подумал, что такой пес, как я, недостоин такого незначительного наказания.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































