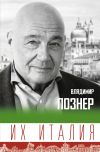Текст книги "Италия De Profundis"
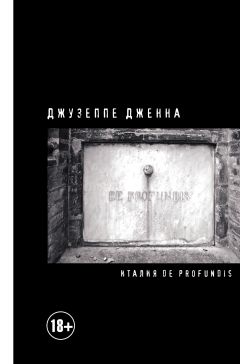
Автор книги: Джузеппе Дженна
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Труп окоченел, он застыл в rigor mortis. Конечности посинели, раздулись. Левая рука, приподнятая в последнем усилье, застыла согнутой, со сжатым, сине-малиновым кулаком. И пришел санитар, подрабатывающий втихую, и пришел человек из бюро, и положили прах на постель, но рука все торчала и выдавалась над поверхностью одеяла. И сын увидел спокойное чье-то лицо в верхнем углу, немного слева от трупа, оно улыбалось. И сошла благодать, и растаяли прошлого ледники. Он вспомнил, как в прошлое воскресенье отец говорил за ужином в ресторане: «Не узнаю я ни мир, ни Италию, это все так от меня далеко». А на следующее утро, когда труп отвезли уже в морг, сын долго смотрел на след тела, оставшийся на кровати в старой отцовской квартире, которую предстояло теперь убирать, разбирать, натирать – одиночество, черепная коробка – последнее наше пристанище, прикрытый рот, точно в ледниках – закрывается подрагивающее око, растворяется, раскрывается, распыляется в ничто – что делали бы бессмысленные безлицые человеческие муравьи, бормоча на своем итальянском, что делали бы они без этой вот тишины, без ямы, откуда доносится шепот, что делали бы они без этого механического гипсокартонного неба, крутящегося по ошибке вдали от какой-либо жизни – в пыли под грузом бесполезного балласта – Покрытый муравьями с головы до ног, покачиваясь, человек протягивает руку вперед куда-то – Горящий факел-человек, покачиваясь, протягивает руку – Утопленник с разверзнувшимся ртом и широко раскрытыми глазами захватывает воздух из последних сил, но в рот вода лишь льется, темная соленая вода – протягивает руку человек вперед куда-то, а рука слабеет – Зыбучие пески затягивают человека, вперед протягивает руку он, рука слабеет – заброшенные, но еще живые гнезда – смотрите же во все глаза и распахните уши: «Кризис ликвидности может дойти до крайней точки и обрушить хедж-фонд, накрыв рынок гигантской волной», – кричит аукционист, одетый в потрепанный и старый фрак, пропахший нафталином, – процесс сублимации нафталина аналогичен процессу человеческого феномена – «Хедж-хедж-хедж». Яснее ясного, а? «Спекулятивные фонды еще недавно лелеялись богачами и магами-финансистами – все мои дети от меня, а мать – саранча», – заявляет аукционист, огромный серо-зеленый Кузнец-Саранча с гигантскими челюстями, из которых вырывается смех.
В серных облаках парит огромный змей, истекающий кровью, он устремляется к Кузнецу-Саранче и сжимает его в холодных змеиных объятиях, Саранча задыхается и хохочет зловещим смехом, глаза вылезают из орбит – Кто ты, читатель романа? – Не подходите к Дискотеке, не ступайте на порог, там вам конец – ее огромная парковка – подмостки, на которых проходит трафик всего нечеловеческого – дрэг-квин подключилась к черной розетке, электричество крутит огромное вертикальное колесо, на котором висит человек, на нем копеечное белье, электропровода подведены к его гениталиям, электричество бьет током, крутится колесо, он вздрагивает, подскакивает и вновь, обмякший, падает – колесо продолжает крутится, он привязан – вихрем кружится колесо, слышатся рукоплесканья выросших деток, что в прошлой жизни делали то, за чем наблюдали сидящие в офисах из стекла и бетона, сделанных по проекту швейцарца – на Дискотеку приходит группка бывших детей – нагие, толстые, в детских чепчиках, а меж пухлых старческих губ огромная соска-пустышка – древний плуг – знак того, что вся боль на земле не напрасна, – лазерный луч испепеляет в ничто волосатого гея, целующего лесбиянку, которой нравятся геи, она удивляется, куда он подевался, язык упирается в воздух, красиво смеется, подносит руку ко рту – какие прекрасные зубы – Колгейт, сделанный по договору аутсорсинга – Колгейт токсичный – «Китай отрицает глобализацию, так что его партнеры готовы дестабилизировать рынки, западные финансисты надеются, что показатель ликвидности вырастет, впервые Биржи платят за кризис в нормальной стране, а не в странах третьего мира». На дискотеке продают странный коктейль из кристалов, бокал в форме распятья – думают, это поможет воскреснуть – лазерный луч в беспорядочном танце мчится по залу – все здесь – дети своей Королевы – из стетоскопа тянется луч, и на стену проецируется фильм «Ты любишь меня? Любишь?» – сюжет изменился – теперь в центре истории некая обезьяна – обезьяна тянет в постель самца и его любовницу – все втроем занимаются сексом – крики, верещанье, прыжки по кровати, любовницу душат – ей еще нет восемнадцати – ногой обезьяна хватает ее за шею и душит, и душит, а в камеру шепчет слова: «Я – Макака истории», затем она душит самца, бежит из мотеля, садится на старую «веспу», точно Грегори Пек, носится по Риму, напялив шлем, – Макака истории – прекрасный сорокалетний андрогин, сталинист и дурак, тормозит у кафе и заходит, растолкав посетителей в летних футболках и шортах, купленных на крохотном рынке, вспотевших – он залезает на барную стойку и пляшет, пляшет танец, на который его вдохновила Элиза, – хватает свиной окорок с перцем и бросает в сторону полок с продуктами, а на следующий день он является в церковь, и на нем элегантный смокинг – церковь затеряна в живописных холмах – молодые долго ее выбирали, родители жениха и невесты одобрили выбор – невеста целует Макаку под внимательным взглядом синюшного священника, он начинает сдуваться как шарик – Опухоли растут и растут в детях, играющих в мячик, – «Блестяще», – восклицает профессор Сильвио Гараттини – в нежных эмбрионах – внутри черепов пульсируют вены, вены проступают на запястьях, проступают сквозь белую ткань водолазки – вот Италия, Италия, несущаяся вперед, впереди планеты всей – Королева велит, и по её веленью родится желанье – Бежать от разнообразия к единству – Леопарди на кресте уже не кровоточит – слизь и кал сочатся из ран, где вбиты гвозди, а крови больше нет, он говорит мне голосом Целана: «Я знаю женщину, мечтавшую о сыне, что била палкою беременную лошадь, крича: «Ты сына ждешь, а как же я?» Так многие испытывают зависть и ненависть к благополучию и счастью других людей, к тем, у кого есть то, что мы желаем, но не можем обрести, иль к тем, кто воплощает то, чем быть хотим мы. Но зависть характерную черту имеет ту, что все она растет, и, получив одно, желаем больше мы. Чем яростнее зависть к большему томит сердца подобных нам, тем яснее видно, как преисполняются они желанием и страстью, что к ненависти их ведет и зависть множит. Но невозможно мне сказать, что их желание удовлетворится, ибо желанье быть удовлетворено не может, одно другое за собой влечет, одно погасло – вспыхнуло другое, и самое себя теряет человек, когда поймет, что нет предела желаемому, и в себе не может быть он никогда уверен. И новое рождается желанье: познать до дна то, что уже ты приобрел» – слова его больно ранят Королеву, она требует, чтобы они исчезли, – слова исчезают, лишь образы остаются – короткие, быстрые – сцепляются они с другими – не связанные друг с другом, бессмысленные образы – вот одинокий Чезаре Павезе истекают кровью, твердя столу стеклянному: «Тоска рождается из скуки» – Королева мгновенно насылает к нему термитов, чтобы выкачали кровь, чтобы уничтожили слова – слова исчезли – призрачная мякоть рождает террористов-призраков, они поют «Прощай, красавица» и лезут из нее смущенные, оглохшие, невесть как оказавшиеся здесь – они несутся прочь – Буш топчет ногой итальянскую землю, он топчет клумбы, насаженные премьером лично – и официант в ливрее проходит мимо президента и премьера и корчится от смеха: «Я – голографичен!» – но тут же в ход идет термит-солдат, он бьет и пожирает официанта – Итальянцы охотно хлопают в ладоши, на экране идет римейк «Ты любишь меня? Любишь?» – Террористы ступили на генуэзскую землю, где встречается восьмерка, они атакуют красную зону – Всей силою своею Животные Земли готовы выйти к Великому Урожаю, пришло время собирать виноград Наций – они вдруг видят, что Италия исчезла с карт и атласов – и с глобусов с подсветкой изнутри исчезла тоже – Облако нависло над Римом, над Неаполем, Миланом, Флоренцией, Венецией – и отвернули памятники лица, чтобы не видеть – но человек все тащит свою клячу вперед, над ним роятся слепни из железа, наслала Королева их, кричит он: «Так вот откуда тянется страшная Тень!» – Одна осталась Королева, грот опустел, упало небо – не выдержал картон – Остался только силуэт мудрейшего, идут лучи златые от него, сидит он в нише золотой и тихой – туда укрылся он от звуков, сидит с раскрытыми глазами и молчит, лицо ничто не выражает – губы золотые собраны в едва заметную улыбку – Королева взрывается, и миллионы паразитов выплескиваются из тела – шестьдесят миллионов итальянцев-муравьев, лишь человек сидит в блестящей нише, он отрывается от тела, и мысль его единственная ввысь летит и зависает над временем: «Я построю Италию с Нуля, я корни в нее пустил, Себя».
И корни расцветут когда-нибудь в цветы, дадут плоды златые, и новое родится поколенье, прекрасное и нежное, и будет дышать оно, соизмеряясь с длиною шага, будет осторожно ступать, мужчины, женщины, вода, земля, огонь и воздух примирятся, и смерть им будет больше не страшна, легко они покинут тело боли, где были души их заключены, и будут тихо думать, медитировать, и, выходя из тела, продолжат это делать, и все объединится в единый день, что длиться будет вечность, ведь ничто – ничто, а что-то – что-то, и тогда планета услышит голос свой, и время изменúтся, поскачет,
Страна, сметенная сточной водой, стоки истории.
Под верещание Макаки истории, Страна, сведенная к нулю.
«О родина моя, я вижу колоннады, ворота, гермы, статуи, ограды, и башни наших дедов – но я не вижу славы, лавров, стали, что наших древних предков отягчали. Какой тебя я вижу, о сколько ран! И вот полунагая, простоволосая, лицо в колени пряча, она сидит, безмолвно плача».
«Но мы здесь ни при чем. Мы жили так, как жить нас научили».
«Тьма Тартара и мертвая волна вас ждали там».
5. Тоска по любви
Итак, стояло маетное и нервозное лето 2007 года, а ведь всего лишь за год до того я… я был одинок… и изводился, изнывая без любви.
В августе две тысячи шестого я, с остекленевшим взглядом, в одиночестве слонялся меж бетонных зданий Берлина. Столица менялась, я же брел, озираясь по сторонам, не произнося ни слова: собственный свидетель своей же любовной драмы или не такой уж и любовной. Я предавался чистому созерцанию, а мои ноги мерили асфальт по направлению к Трептов-парку. Я поселился в огромном шумном Jolly Hotel на Фридрихштрассе, в самом центре, die Mitte. Оттуда я отправлялся в свои утомительные прогулки и возвращался туда же, и так день за днем, не обменявшись ни с кем даже словом.
Нечто бесконечно нежное и страдающее.
Впервые я увидел ее три года назад, на съемочной площадке. Стоял дождливый ноябрь, снимали исторический телефильм. Съемки велись в заброшенном и запустелом доме. Развалина вздымалась, неся свой древний остов и постепенно ветшая. Камеры превращали ее в виллу позапрошлого века, где разворачивалось действие исторического фильма Джильберто Сквиццато «Человек на берегу». В следующем июне фильм имел у публики небывалый успех: его показывали по каналу Rai Tre два раза в день. Бюджет фильма был крайне невелик, а место съемки в тот мартовский день представляло собой обветшавшую виллу недалеко от Павии, в поселке Гравеллона Тичинезе, окрестности которого уже кишели комарьем. Джильберто Сквиццато – мой друг. Я приехал на площадку и совершенно не понял, как крутится стремительная человеческая машина, работающая над ключевой сценой. Этот водоворот был мне знаком по прошлому опыту работы на съемочной площадке. Не могу взять в толк, как этому людскому смерчу абсолютно немыслимым образом удается произвести на свет чудо: единое творение. Это чудо искусства, которое становится возможным благодаря суматошной работе целой толпы народа, благодаря четкой координации движений знатоков своего дела, этих человеческих муравьев: звукорежиссеров, костюмеров, статистов, осветителей, фотографов, продюсеров – нескольких десятков человек, что движутся под взглядом режиссера, который оценивает результат, глядя в маленький черно-белый монитор, находящийся позади съемочной камеры. Короткие, нервно повторяемые указания режиссера позволяют актерам четко следовать замыслу и одновременно отвоевывать себе островки свободы, волны которой он тайно им посылает, едва заметно варьируя одну и ту же сцену из дубля в дубль.
Я все никак не начну.
Я воздвигаю монолиты.
Я черчу магический круг. Магический круг монолитов. Стоунхендж.
Мы больше сюда не вернемся.
Она, одна из актрис, стояла на ступеньке заброшенной виллы, под сенью щербатой стены с облупившейся штукатуркой: последствие многолетней халатности хозяев и одержимой работы времени, которое все разрушает. Не женщина, а вспышка света, смотреть на которую мне не доставало сил, потому что она ослепляла. Сияющая, в белом наряде начала двадцатого века: черные, почти переходящие в синеву волосы, собранные в узел, как носили в тридцатых годах. Луноподобное лицо излучало свет, какой излучает жемчужина в лучах зимнего солнца. Ее улыбке придавали особую прелесть чуть выдающиеся передние зубы, как Венере с картины Бокаччо придавали еще больше красоты ее немного раскосые глаза… Зубы цвета блестящей слоновой кости, кисти рук, нежно сплетенные у лона, хрупкие и прозрачные, как иные породы редкого мрамора. Длинные и изящные пальцы Авроры, молочно-опаловая, благородная, изящно вытянутая шея, глаза цвета спелого ореха, с внезапным отливом глубокой зелени, склоненная головка, молча внимавшая указаниям режиссера, идеальные ушки совершенной формы, в мочки которых были вдеты старинные серьги.
Неделей позже, после долгих разговоров по мобильному, ни разу до этого не встречаясь, ибо моего присутствия на съемочной площадке она не заметила, мы снова оказались на вилле, на этот раз внутри. В ледяных объятиях дома, в комнатах, где не было ни света, ни отопления, уставленных мебелью девятнадцатого века, накрытой чехлами, надетыми десятилетия тому назад, меж притаившихся фортепьяно и покрытых пылью стеклянных ваз, у порога двери, что вела в комнату, где ей нужно было репетировать сцену. Я стоял на лестнице, она – двумя ступеньками ниже, в полутьме. Все были заняты сценой, и никто не обращал на нас внимания. Она снова была в костюме, словно мерцающий призрак, принявший формы, привычные давно минувшему веку. Ее потерянный взгляд выражал бесконечное горе, горе, прикинувшееся оцепенением и нарочитым вниманием к настоящему. Снова ее склоненная головка, сияющая белизной изящно выгнутая шея, хрупкая данность в данный момент. И я сделал то, чего не делал давным-давно: растопив мои внутренние снега, в этой ледяной полутени, на лестнице, я протянул раскрытую ладонь вытянутой руки в ласковом жесте, и она удержала ее, эту ласку, эту руку, замершую чуть ниже ее щеки. И ледники моей черствости растаяли, ибо я смог разделить ее порыв и исступление и утешиться.
Потом она отыграла сцену. Она вышла, осторожно ступая между проводов и аппаратуры, в узкую спальню, освещаемую лампами, с камерой, зажатой в углу, перед старым шкафом из вишневого дерева. Она играла женщину старше себя, даму под пятьдесят. Она, которая была так свежа, так изящна, так белоснежна, что не выглядела и на свои тридцать три года. Сцена была без слов, в ней женщина с выражением бесконечной печали смотрелась в овальное зеркало, подводя некий горестный итог. И вдруг, едва режиссер крикнул: «Мотор», ее лицо изменилось прямо на моих изумленных глазах. Оно покрылось морщинами и отразило бесконечную боль, которая была все сильнее, все глубже. Морщины быстро растекались по ее лицу, поверхность лица менялась, словно поверхность земли, покрываясь трещинами, расползающимися во все стороны от внезапного подземного толчка невиданной силы, пока она не превратилась в пятидесятилетнюю женщину. Брови ее поднялись, лоб нахмурился, на лице появилось выражение отрешенной сосредоточенности на себе и собственном прошлом, и я побледнел.
Ночь, которую мы провели вместе в городке Мортара, после ужина в затаившемся посреди непроходимого леса ресторане, во время которого каждый чувствовал себя не в своей тарелке, когда я, зарвавшись, выдал худшее, на что только был способен в той маске, что нацепил на себя из страха, – стала ночью тяжкого открытия.
Я боялся оказаться не на высоте, я еще раз получил подтверждение, что чувствую ненависть к собственному телу, отчаянно побуждаемый ее противоречивыми просьбами. Я почувствовал фальшь: что она скрывала под ними? Скрюченное, как тельце эмбриона, ее тело горело под простыней, словно охваченное жаром, как раскаленный кремень, который не спешит остывать. Все, что она говорила, было фальшиво, как и все, что она делала, и я страдал.
Пока она проваливалась в сон, я пристально вглядывался в жуткий шкафчик красного дерева в форме гроба, что висел на стене у кровати.
На следующее утро, под редким моросящим дождем, я чувствовал, как внутреннее ощущение дискомфорта сливается с болью, сдавившей желудок. Я с трудом заставил себя проглотить завтрак, чего не случалось уже много лет, с тех самых пор, когда я страдал нервными истощениями, о которых давно позабыл.
С обескураживающей простотой она рассказала о своих многочисленных бывших. Она сбивалась и противоречила себе по ходу рассказа, текущего под могучими ударами моих вопросов, которые я задаю, чтобы узнать человека как можно глубже. Казалось, в них не было ни капли коварства, но затем, по прошествии времени, я задавал их снова. Раскидывая сети, я наносил удары, чтобы найти больные места моей собеседницы. То было нападение исподтишка, позорное, постыдное, выпад, который должен был бы предупредить осаду меня самого. Я видел: она решила фальшивить, играть, держаться прямо. Ее совершенство омрачалось моим отвращением к жизни. Я чувствовал, что падаю в черную яму, на дне которой текут отравленные воды Леты.
Лептоспироз, лихорадочный страх испытать страх. Мы оба сжались от страха испытать страх.
Моя неопытность в отношениях с женщинами постепенно переросла в настоящую болезнь, которая доводила меня до отчаяния. И все же я ясно и четко различал неуловимые отблески прозрачных и непроницаемых ширм, за которыми она схоронилась, делая вид, что никаких ширм, никакой фальши нет. Однако фальшью было все: ее откровенность, ее поза, то, что она говорила и думала обо мне. Она медленно, но верно взращивала по отношению ко мне фальшивое чувство. С ее стороны то был сознательный и решительный жест, который должен был положить конец тому внутреннему изнеможению, которое давило ее, хотя никак не проявлялось. Я спрашивал себя, откуда взялось это изнеможение и фальшь, которой оно подпитывалось.
Она оставила меня в Рено.
Домой я вернулся под проливным дождем.
Мой отец шагал по длинной и печальной дороге ракового больного. Я изрыгал собственное нутро и чувствовал себя запертым в пещере, из которой нет выхода, прикованным там, внутри. Я просыпался с утра, но то была ночь. Я терял светлые очертания вещей. Я сокращался, точно тело улитки, что плавится, поджариваясь, при соприкосновении с солью. Я не плакал, но с самого пробуждения во мне росло огромное желание закричать. Крик, сдавленный с самого рождения песком, который насильно запихивали мне в рот, и было неизвестно, откуда он взялся. Занятия танцевально-двигательной терапией выносили на поверхность мучения, которые я отрицал тридцать лет подряд, играя в прятки с собой и скрываясь за фальшивой агрессией. Такая стратегия позволяла справиться с волнами безумия окружающего мира, несоизмеримо огромными волнами, которые подчас накатывали на меня.
Нервные истощения, одно за другим.
Отсутствие экономической стабильности, бедность и безработица.
Кое-какие подвижки, я чуть было не оказался в Монтечиторио, в одном из тех кресел, в которых сидят люди, которые якобы что-то решают, а затем снова все сменилось пустотой и безработицей.
Брачные узы, к которым я был так близок и которыми не насладился.
Всепоглощающая любовь к женщине, призрак которой преследовал меня.
Семья, которая взывала, кричала, молила о помощи – меня, сраженного ощущением собственной беспомощности.
Фантазматическое ощущение немощи: эмоциональной, чувственной, любовной, сексуальной.
Чувство обледенения внутри, которое обволакивало льдами каждую искру наслаждения.
Одиночество и непонимание.
Неправильное толкование.
Короткий период счастья, когда я с друзьями работал на интернет-портале. Тогда я открыл сердце заразительной веселости, положив конец непереносимости радости, пусть ненадолго, пусть, как всегда, то был лишь краткий обман.
Курсы психотерапии и постоянная работа над собой, без рывков, каждую минуту, каждую секунду, на годы, годы и годы.
А еще приостановка движения по духовному пути, поскольку моя духовная сущность – это рябящая, грязная вода, а узлы, которые предстояло развязать, такие огромные и невидимые глазу.
Каждая опухоль моего отца обозначала на моем пути очередную точку, все плотнее прижимая к моему лицу ту маску, которую я надевал на себя ради других. Эта маска позволяла мне оставаться в тени и гарантированно иметь внутри себя дальний закуток, островок тишины, где можно было передохнуть и ни о чем не думать.
Терапия ДПДГ разом растопила его, погрузив меня в состояние шока, ощущать который было невыносимо тяжело. Я был травмирован и одержим белым призраком женщины, на которой мне предстояло жениться, когда мне был двадцать один год. Призрак растаял, как августовский снег, он вдруг перестал что-либо значить, из-за сильнейшего удара, который сложно было стерпеть. Дышать было тяжело. Я был во власти диспнеи. Вид собственного отражения, внезапно, волею случая возникшего в витринном стекле, приводил меня в ужас. Я ненавидел собственное тело, я стыдился его, оно казалось мне (и кажется по сей день) отвратительным, лишним отростком в круге жизни. Такое не могла желать ни одна женщина.
Работы не было, я жил на авансы, которые мне полагались за будущие книги, меня словно испытывали на прочность полным отсутствием средств к существованию. Друзей становилось все меньше. Я выглядел уставшим и изнуренным. Все вокруг было беспросветно и серо. Писать не получалось. Смеяться тоже. Мои лучшие друзья, оба писатели, были на пороге развода после пятнадцати лет совместной жизни, тринадцать из которых они поддерживали и любили меня, как приемная семья.
Я прятался в раковине.
Внутри я замерзал.
Я с трудом выносил тяжесть своего лицедейства.
Я сдирал с себя кожу.
Она периодически жила в Милане, в нескольких шагах от моего дома, поселившись в огромном и пустом доме некоего друга, который редко возвращался в Италию.
Нас притягивало и отталкивало, словно мы были два магнита с одинаковыми зарядами.
Любовь ко мне, о которой она говорила, – любовь абсолютная, непреложная, показная – была крайней степенью фальши, но она этого не понимала. Погрузившись в угрюмое состояние, я видел нелепую правду человека, ради которого я вспорол бы собственную грудную клетку, чтобы этот человек постепенно, клетка за клеткой, вошел в меня и увидел меня изнутри. Но ее фальшь, фальшь ради самозащиты, была для меня слишком явной, и я не мог это вынести.
Внешне я впадал в истерику.
Внутри мне было плохо.
Мы проводили много времени в спальне, в постели, и я задыхался. Единственным посредником между нами служил язык тел, она сама навязала его, потому что боялась. С помощью такого посредника она получала контроль надо мной, она укрощала самца, от которого требовала любви, и в то же время приручала того зверя у меня внутри, которого так боялась. Я же шел на шаг впереди: я уже шагнул в облако страха, я перешел черту, которую так долго старался не преступать.
И потому я отвергал ее.
Я боялся любить. Я был не способен принять любовь. Человек, который утверждал, что любит меня, не любил меня и даже не понимал, насколько все это лживо.
Она не хотела смириться с тем, что ее отвергают: рывками, все чаще, все ближе, – я отвергал ее. Разыгрывались мелодраматичные сцены. Подобно хамелеону, а может, просто будучи втянутым в это фальшивое действо, я схватывал от нее, актрисы, новые мелодраматичные позы.
Ее рана раскрылась – рана, свидетельствовавшая о ее главном страхе. Страхе быть отвергнутой абсолютно, хотя я даже не помышлял об этом, наоборот, ведь я-то хотел принять эту женщину целиком, но она сама не отдавалась мне полностью. Я хотел, чтобы наша боль была общей болью, как и работа над ее таким сложным для понимания искусством.
Она сама материализовала свои призраки.
Телесное обольщение не срабатывало.
Она не могла контролировать меня с помощью эротического влечения, я ускользал, требуя правды, правды и только правды.
То, что я узнал о ней через некоторое время, меня озадачило. Ее отец пил, как и мой, у обоих был рак печени на одной из последних стадий, оба были оставлены женами, оба геологи. Ее мать, как и моя, страдала периодическими депрессиями. Мы оба бежали из дома, нас вынудили бежать, и оба в довольно раннем и совершенно нетипичном для среднего итальянца возрасте. Мы оба выстроили для самих себя замок из собственного интеллекта, защищаясь умом, подавляя и переиначивая то, что чувствовало тело. Мы подавляли и переиначивали чувства друг друга.
Я прекрасно понимал ее, а она даже не замечала, насколько глубоко я проник в ее сущность.
Я продолжал отвергать ее.
Сцена абсолютного телесного совершенства, какую только мне приходилось видеть, произведшая на меня невероятное впечатление.
Ее голое тело, длинные руки, ладони, что срослись со стеклянным блестящим столом, белоснежная кожа, нежные впадины лопаток, позвоночник, прогнутый и слегка впалый в районе поясницы, округлые ягодицы, повернутые ко мне… Она стоит, ноги расставлены, невероятно красивые щиколотки. Потрясающая гармония каждого миллиметра ее совершенного, невероятного тела. Она наклоняется: видны смотрящие вниз идеальные груди, повергающие меня в трепет. Она стоит, и я вижу ее шелковые волосы, ее локти, словно созданные из чего-то сияюще-лунного. Золотое сечение во плоти. И это говорю я, хотя я ни разу не бывал околдован красотой и гармонией тела.
Дар обнаженного тела. Тела, ничего не требующего взамен. Ведь отдавая, ты получаешь.
И все же в этом было нечто похабное, нечто кровосмесительное. В этом ощущалось нечто порнографическое, показное, что делалось намеренно, хотя она этого не осознавала. То была какая-то неосознанная проверка, которой она подвергла меня, где ее тело, необузданный рай, доходящий до совершенства древнегреческой статуи, приносилось в дар с тем, чтобы я не преступал черты, которую смутно ощущал. Черты, которую она сознавала внутри себя и признаться в существовании которой не могла ни мне, ни себе. Ее явный страх оказаться нелюбимой, уничтоженной неспособностью любить – вот они, эти огромные льдины, что накатывали друг на друга, такие призрачные и ослепляющие белизной, и на ее идеальное тело: чуть ли не архетип всех женских тел, на все времена…
Чтобы объяснить, почему я ее отвергаю, я упираю на эгоизм и апеллирую к своему состоянию: мне плохо, а значит, и тебя я любить не могу. Я знаю, что эта низость с моей стороны распахнет в ней огромную рану, глубокую рану уязвленного Нарцисса. И все же эта рана не больше, чем просто царапина, ведь мое поведение не заставило ее обнажиться внутри. Я не раздел ее до самого дрожащего нутра, я не вызвал на свет то, от чего она бежала. Лик собственного отца и прасамца не всплыл из ее темных внутренних вод.
Я полюбил в ней ее внутреннюю суть, но она не смогла этого понять.
Она потерялась. Мы потеряли друг друга.
Несколько месяцев я, оставаясь незамеченным, смотрю, как она выходит из подъезда со своим женихом. Он живет недалеко от меня. Она смеется, берет его под руку. После переезда в новую квартиру я закрываюсь в своей норе, превращая дом в окаменелую раковину. Охватившее меня желчное одиночество принуждает меня, точно извращенца, постоянно подсматривать за ней, пока она ничего не замечает.
Я вижу, как они входят в агентство недвижимости, и думаю, что, должно быть, они решили поселиться вместе. Острая боль пронзает мне грудь, меня скручивает от боли прямо на улице, на проспекте Саботино.
Изредка мы видимся. Обедаем вместе. И вот я уже иду за ней в квартиру. Мы страстно целуемся, но эта страсть не пробивает стену, которую она воздвигла, чтобы защитить свое одиночество, замерев от страшного предчувствия, что еще один шаг – и вся ее жизнь рухнет. Я тоже напуган. Я боюсь этой квинтэссенции женщины, боюсь того, что в мои тридцать пять все еще кажется мне таинственным и невозможным. Я пытаюсь найти выход: я тоже, как и она, нахожусь в стадии эмоциональной незрелости.
Нас терзают разные страхи, неумолимые, они поглотили нас обоих.
Ее отцу становится все хуже.
Моему тоже.
Мне и ей, нам обоим, становится хуже. И вдруг, словно ни с того ни с сего, мы оба неожиданно чувствуем облегчение.
Однажды утром я иду в супермаркет на проспекте Саботино и вижу ее. Ее прекрасная ножка с нежной грацией ступает по грязному асфальту, покрытому засохшими нечистотами. Впервые с тех пор, как мы знакомы, я вижу ее с опущенными плечами, вижу, как ее позвоночник не выдерживает нагрузки, и потому она кажется гораздо ниже. Я вижу руки, повисшие мертвым грузом, предоставленные сами себе, вижу лицо, на котором появляется улыбка, которая мгновенно исчезает, словно ее и не было, ибо она охвачена горем. Лицедейства больше нет, оно испарилось. Ее отец очень болен. Все тайное становится явным. Я даже подумал, что отец в детстве надругался над ней, но она вытеснила эти воспоминания. То были лишь мои фантазии, хотя насилие все же было, но на другом уровне. Все ряды обороны сломлены, на горизонте неумолимо вырисовывается гниющее тело отца, отца бесконечно любимого и вечно отвергаемого, ведь он предал ее, украл у нее любовь, право на жизнь.
Все рубежи обороны опрокинуты. Она – сущность.
Я люблю ее.
Мы начинаем встречаться.
Ночью первого января 2006 года, через несколько секунд после того, как я позвонил в больницу, закрывшись в туалете, всего в нескольких сантиметрах от пустой христалиды моего отца, застывшего в rigor mortis, я набираю ее номер и сообщаю о чудовищной находке. Она плачет, крича в трубку один-единственный вопрос, отзывающийся в воздухе стрекотом: «Что ты сказал?» Плача, она повторяет эти слова снова и снова, а за стенкой рыдает моя сестра. Сестра то кричит, то обессиленно, чуть слышно шепчет, механически повторяя: «Папа… Папа… Папа…» А там, в Мантуе, на другом конце провода, моя любимая твердит одно и то же, переходя на крик: первобытный, вдовий. Крик последнего рывка, крик древний: животный крик, что дремлет в каждом из нас. Этот крик взрывается в ней, и она, не сознавая того, вторит ему.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?