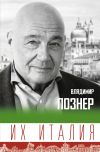Текст книги "Италия De Profundis"
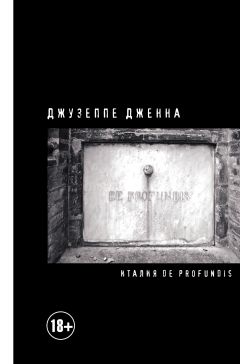
Автор книги: Джузеппе Дженна
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Смерть моего отца означает приговор ее отцу.
Она еще не знает: предчувствует. Черные воды засасывают ее.
На похоронах отца она выглядит сдержанно, вся в черном. Моя мать, хоть и не знакома с ней, но все понимает и узнает ее. Гроб стоит в нескольких метрах от входа в подъезд, партизаны из НАПИ[6]6
НАПИ – Национальная ассоциация партизан Италии.
[Закрыть] размахивают флагом коммунистической партии. Моя мать подходит поздороваться и говорит ей: «Береги его, ему это очень нужно». С ее губ срываются глупые слова, но моя любимая стоит, словно статуя. Джузеппе Дженне так нужно, чтобы его любили, ты понимаешь?
Вечером, после похорон, больше всего на свете я хочу, чтобы она приехала ко мне, спала рядом со мной, защитила бы меня от остатков пережитого ужаса, который все еще гнездится во мне, уже не такой огромный, но все еще значимый. Я все еще боюсь открыть глаза и увидеть нависший надо мной молчаливый призрак отца с запавшими глазами.
Она не приехала.
Кризисы случаются у нее все чаще, они все сильнее. Из нее выходит что-то черное, блестящее. Словно в ней поселилось какое-то насекомое. Меж тем ее отцу все хуже, он уже вышел на финишную прямую.
Он умирает так же, как и мой. Умирает в точности, как Фауст, прямо у нее на глазах – у нее, которая и сама играла в этой пьесе. Он умирает у нее на глазах: «Миродержица, склонись в лицезримой тайне всей твоей, взнесенной ввысь, синевой бескрайней! Славословий не отринь, я от чувств наплыва воссылаю в эту синь их благочестиво. Света, больше света!»[7]7
И. Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака.
[Закрыть]
Он в точности так и умирает.
И сразу же она впадает в страшнейший кризис. Теперь она настоящая, но находится в постоянной депрессии. Ее кризис провоцирует кризис наших отношений. Мое собственное состояние ухудшается, у меня кризис еще сильнее, чем у нее. Она не в силах изжить свое горе, потому что перед смертью отец наконец-то подарил ей то, чего лишал долгие годы: любовь, и теперь она никак не может ее переступить.
Любовь – это договор. Как она может любить меня? Она и не любит меня целиком: я это знаю, я это вижу, я решаю, что я подожду. Я решил пережить вместе с ней эти выплески черной желчи. Вся жизнь этой женщины была бегством от любви, и теперь любовь так чудовищно извергается наружу, хотя сама она даже не осознает того, что происходит.
Я переживаю вместе с ней эту травму, и чувствую, что меня отвергают. Она молчит, сдерживаться стоит ей большого труда. Однажды в Мантуе, в гостиничном номере в минималистском cтиле фьюжн, она сворачивается калачиком возле меня и просит не строить планов, не продумывать схем, не вырабатывать стратегий. Я начинаю задыхаться, я так не умею. Поздний вечер. Я поднимаюсь с постели, голый, я чую острую необходимость бежать. Я чувствую неостановимую потребность вскочить в поезд, который будет не раньше, чем завтра утром. Мне не хочется быть рядом с ней, я хочу сидеть в зале ожидания маленького вокзала, с рюкзаком между ног. Дрожь вот-вот охватит меня. Я уже переживал нечто подобное, мне хочется бежать, прямо сейчас, я почти не дышу, отчего? Что она изменила во мне? Я здоров или это болезнь, это какая-то травма? Она снова становится близкой. Она заставляет меня задуматься. Теперь она – Достаточно Хорошая Мать[8]8
Термин психотерапевта Дональда Винникотта (1965 г). Достаточно хорошая мать создает для младенца условия, в которых у него есть возможность постепенно обрести автономию и воспитывает ребенка, основываясь на собственной интуиции.
[Закрыть]. Я не бегу. Но фиксирую новый прецедент. Она отвергает меня. Не показывая того, я принимаю ее и отвергаю, но это отторжение относится не к ней.
Мы оба боимся любить.
С ней я проживаю самый прекрасный и самый осмысленный день в моей жизни. На театральном фестивале в Мантуе она ставит спектакль по моей пьесе «Орфическая фабула». Помимо того, что она режиссер, она озвучивает голоса Орфея и Эвридики. Ее постановка настолько прекрасна и хороша, что я потрясен до глубины души.
В тот же день на чемпионате мира по футболу Италия играет с Украиной. Спектакль идет под открытым небом, в усадьбе Палаццо Те. Народу много, около тысячи человек. Пока она репетирует с актером и двумя танцорами, я в офисе ARCI[9]9
Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – Культурно-творческая ассоциация Италии.
[Закрыть], битком набитом мантуанскими пенсионерами, смотрю первый тайм и слушаю краем уха грубые скабрезные шутки. Я дико счастлив. Дзамботта забивает гол из положения вне игры, я встаю и выхожу покурить на свежий летний воздух. Я огибаю дворец и попадаю во внутренний двор, протискиваюсь сбоку рядом со сценой и направляюсь в гримерку, где она накладывает черный грим на голое тело, а танцоры гримируются белым.
Текст мой отнюдь не прост, он резок и совсем не годится для театра, так что я уже предчувствую, как зрителям придется спасаться бегством.
Играют на открытом воздухе, начинается первая сцена, звучит ее голос. Она читает тем же тоном, который я слышал внутри себя, когда писал. Так же расставляет акценты, словно мы, несмотря на разделяющее нас расстояние, являемся одним целым. Мы словно искусственно созданный андрогин, наше тело едино, и разделить его невозможно.
Это так прекрасно.
Все зрители словно застыли, никто не ушел.
В конце спектакля ее и других актеров награждают бурными аплодисментами.
Я счастлив, как ребенок. Это именно то, о чем я мечтал всю свою жизнь, жизнь, на протяжении которой я отрицал любовь. Я породил игру, втянул в нее свою женщину, сыграл вместе с ней. Мы вместе сделали нечто важное и показали, подарили его другим, после того, как оно созрело внутри нас, в заветной и естественной тишине, такое простое и такое прекрасное.
И это начало конца. Потом она взрывается.
Взрыв происходит в Баньо-Виньони, в Тоскане, недалеко от Сиены. В центре СПА, где мы бродим, словно молчаливые призраки. Мы оба вынашиваем что-то огромное. Когда я произношу слово «отец», она взрывается. Мы кружим, одетые в белые халаты, в благотворных парах, греемся в бурлящей воде, пузырящейся в гротах, расслабляемся. Наши взгляды размыты. Колышутся чьи-то силуэты, нас сопровождает легкое и удушливое головокружение. С затуманенной головой, похожие на сонных детей, мы вместе заходим в маленький грот для двоих, похожий на материнскую утробу. В нем – природный бассейн, наполненный водой, бьющей из-под земли, температурой 38 градусов по Цельсию. Мы на грани яви и сна, нас убаюкивает тяжелая, полная соли вода, благодаря которой мы держимся на плаву. Наши нагие тела распластаны в полутени грота, мы предоставлены спокойной тишине, точно зародыши в утробе матери. Мы погружены в воду, наши глаза закрыты, наши тела похожи на ископаемые губки, которые плывут по воле течения по неясной и переменчивой траектории. Они сближаются, касаются друг друга, пока в этой каменной чаше, полной теплой жидкости, отражается легкое эхо журчания горячего соляного источника. Чуть приглушенный свет, полностью расслабленные тела.
И вот после этой совместно пережитой тишины, хотя я мысленно спрашиваю себя, что же за ней скрывается, за ужином я по недосмотру произношу слово «отец», и она взрывается.
Воплем отчаяния я пытаюсь удержать ее, это повторяется и на следующий день. Но в то же время я ощущаю в себе нечто противоположное и не менее сильное: неостановимое желание бежать, быть от нее подальше, расстаться навсегда.
Назавтра, хотя мы планировали пробыть там еще несколько дней, мы уезжаем. Она не отвозит меня в Милан, а высаживает на вокзале в Болонье. Я вижу, как ее машина удаляется. Она даже не оборачивается. Я смотрю на жаркое и душное облако вокзала, того самого, где развернулись когда-то события трагедии[10]10
2 августа 1980 года на вокзале Болоньи взорвалась бомба, 85 человек погибли и около 150 получили ранения.
[Закрыть], а беспощадное полуденное солнце раскаляет докрасна мой затылок и железо крыш и машин.
Один, с чемоданом в руке, покинутый, тридцатисемилетний, я вновь чувствую себя вчерашним подростком, пережившим ломку взросления.
Я снова в Милане.
Один, как всегда, я уезжаю в Берлин.
В Берлине я прозреваю.
Я один, я меряю медленными шагами Унтер-ден– Линден, шагая к Собору, на Александрплац.
Один, я ступаю легко, мелькают ничем не примечательные дома. Железо, обращенное в камень.
Здесь и сейчас, один, погруженный в раздумья. Я снова вглядываюсь в свою любовь. Я живу потаенной жизнью: жизнью, скрытой от постороннего взгляда. Я медленно мерю маслянистое течение Шпрее. Ярмарка пива, устроенная вдоль дороги в палатках из белого полиэтилена, не позволяет разглядеть серые бронзовые статуи по правую сторону улицы. Карл Маркс сидит, а рядом с ним стоит Фридрих Энгельс. Подойдя слева, я заглядываю внутрь белого шатра, колышущегося на ветру.
Цейхгауз, Исторический Музей Германии. Свисает дряблый флаг: WIR SIND EIN FOLK[11]11
Мы – один народ.
[Закрыть]. На этом увядшем, засаленном прообразе нации видны рубцы складок, на черной, желтой и красной полосках виднеются рваные раны. Это красное сердце Берлина. За ним – страшный колодец Александерплац. Город, где роют и роют, но ничего не находят. Город, где роют и роют, но ничего не возводят. Я: в голове пустота, взгляд, обращенный к Берлину. Они – один народ. А я: кто я?
Позже – я на скамье-лежаке из потрескавшегося дерева, врытой на берегу Шпрее. Я: кто я такой?
Смотрю и вижу: Отто Дикс, Лукас Кранах, перистиль, «Кающаяся Магдалина» неизвестного автора… Со стен Музейного острова на меня обрушивается поток картин. Горизонтально тянущийся поток образов под голос аудиогида.
Кружу и кружу, молчаливый и одинокий. Вижу одно, за ним другое. Бьюсь из последних сил. Иду мимо демонстраций, сборищ толпы, криков из рупора. Читаю, что юный Гюнтер Грасс пытался завербоваться в ряды эсэсовцев, чтобы бежать из дома, бежать от отца. Я пытаюсь понять морализирующий и гнусный рефлекс этой нации со столь очевидным чувством вины. Германия выворачивается наизнанку в попытке пересмотреть свое прошлое.
Причаливаю к берегам Музея древностей. Гигантография чужого прошлого. Слава древних, сплавленная в некое целое. Поддельный бюст Платона. Копия статуи Перикла. Мальчик с Родоса из черного металла, протягивающий вверх руки, изваянные в двадцатом веке, дополняющие его искореженную фигуру. Все это сливается для меня в единый жест. Значимость. Вдруг я замечаю прозрачную нить, что тянется вдоль пола и стен. Что это? Не знаю. Шаг, еще шаг. Понятия не имею, что это. Глаза смотрят и не видят, меня тянет куда-то по вертикали. Прозрачная нить ведет меня наверх, я взволнованно поднимаюсь по лестнице. Пустой зал. В центре – стеклянный футляр. Внутри она. Нефертити.
Мать всего земного, твой образ выгнут в пространстве. Источник всего минувшего, всего грядущего. Само человечество. Украшенное основание, длинная красноватая глиняная шея. Голова покрыта лазурным головным убором цилиндрической формы. Это бюст царицы, матери Нефертити. Единственный видящий глаз: правый. Зрачок, обращенный в прошлое. Единственный зрачок: он смотрит на одноглазого сына земли. Это и есть Вознесение – застывшее совершенство длиною в три тысячи лет истории человечества!
Там, вдали от нее, ледники, под которыми томятся разучившиеся охотиться тела неандертальцев. Европу сотрясают последние предсмертные хрипы.
Совершенство тихого вздоха прекрасной царицы неразрывно связывает меня с нею прочнейшей нитью. Я вижу эту нить. Она не женщина и не мужчина, она вообще не человек. Я пред нею один. Пред бюстом царицы Нефертити. Во мне живет чувство ясного и осознанного обожания. «Самая прекрасная женщина Берлина». Внутренняя концентрация. Ты: уцелевший слепок женщины. Форма настоящего. Ты бык, ты бой, ты жертва, ты новое зрение, ты тихие шаги, ты заботливый жест, ты драгоценный камень, ты жреческое благословение. Ты никогда не станешь чем-то окаменелым, ты никогда не будешь исчерпана. Нет, это не ты была до нас.
Это мы были до тебя.
Полюса поменялись местами.
Ты – присутствие Совершенства, чье время мерит тишина.
Нет, ты не ангел.
Ты – первооснова, на которой все зиждется.
Ты плодовита, как окно купола, из которого растекается свет.
Ты легка, как ощущаемый, но исчезнувший отросток. Ты, которая всё.
В самом переливчатом, переменчивом взгляде, на который я только способен, душа сдается, ей не хватает сил. Это сама любовь, любовь сквозь расстояния: отросток, что сопровождает человека в течение трех тысяч лет.
Не ты свидетельница истории. История свидетельница тебя.
Бордово-синяя материнская пуповина, которую я подсознательно чувствую и люблю.
Сорок минут созерцания. Потом я ухожу.
И вот я: на Гамбургском железнодорожном вокзале, превращенном в художественную галерею, которая прославилась благодаря работам Йозефа Бойса.
Вдруг на входе возникает огромная инсталляция: «Перепись» Ансельма Кифера. Высоченные кубоподобные архивные стеллажи. Меж ними тонкая вертикальная влагалищная щель, в которую можно войти. Полки, напичканные гигантскими томами, огромными свинцовыми книгами, потемневшими, полинялыми. Свинец Сатурна. Букв на огромных щербатых страницах не разобрать.
Этот архив-напоминание – попытка запомнить. Крах попытки запечатлеть человеческую память.
Огромные тома, в которых пытаются удержать память об истории, о житиях святых, о физических и конечных системах. На полках высятся, свернутые и сжатые, тома и свитки. Наследие. Музей человечества. Бумага, обращенная в металл, бессмысленно сгорающая в чудовищном огне, что сменяет земные формы жизни. Геоморфизм стирает следы, которые оставляет человек.
Я внутри огромного архива. В нем горит слабая лампочка, свинцовые страницы распахнуты. На земле – стеклянный многогранник, как на гравюре Дюрера «Меланхолия». Он – вместилище иного металла: это родовая палата, чрево, где происходит метаморфоза. Это сложнейшая и кропотливейшая работа человека над своей нечеловеческой сутью. Человеческий род, извлекающий из себя нечто нечеловеческое, коим он и является. Альбрехт Дюрер, в котором воплощена память о ТОМ. Дух, а не буква, ибо буква растворилась в августовском воздухе, в водах распада, fall out. Пыль, вызванная горечью неприсутствия. Hortus conclusus[12]12
Латинское выражение, восходящее к цитате из библейской Песни Песней «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник» (4:12).
[Закрыть], где человек согрешил и был наказан. Человек карабкался вверх своим путем, он достиг вершины и вслед сорвался вниз, исчезая в неведомых песках, а за это время райский сад омертвел и застыл.
Трясет. Вибрирует. Извергается. Недвижимое тело, сжатое волей завета. Идея Конца.
Нет больше места ни для одной книги. Архив заполнен. Завершен.
Человеческий хроноскоп. Неминуемость хронотолчка. Для нас история правдива, пока существует человек. После него будет лишь Правда. Заклинание небесных сил. Миры, укрония, неизведанные пространства. Призыв распахнуть двери сознания и вдохнуть неземного воздуха. Этот металлический архив – не что иное, как антимузей, воплощение другого, внеземного архива, находящегося за пределами сейфертовской галактики.
Голова Гегеля падает и обращается в пыль.
За этой инсталляцией следует другая: приношение поэту Полю Целану – маков цвет, память, вертикальное высвобождение, перелет.
Ничто не выстоит. Вам не выстоять, люди!
Бесформенная голова Ансельма Кифера возвышается выше Карла Сейферта. Это вертикальная спираль из воздуха других планет.
Я забрасываю ее эсэмэсками. Ответа нет.
Я уезжаю из Берлина раньше намеченного дня.
Возвращаюсь в Милан.
Звоню ей. Она вернулась с Мальдив, где отдыхала на коралловом острове, одна.
Мне чудовищно ее не хватает. Ей чудовищно плохо. Я постоянно твержу ей одно и то же: раздели со мной свою боль, позволь мне стать ее частью. Она все время отказывается. Я отщепенец, изгой.
Я чувствую бесконечную тоску по любви.
Месяц за месяцем.
Ее отчаяние. Мое отчаяние.
Наша встреча: неразделенное отчаяние. Это невыносимо, поскольку все повторяется снова и снова. Я опять проживаю однажды пережитое.
За две недели до напрасного, полного отчаяния лета 2007 года, спустя месяц после того, как она не звонит и не отвечает, я ей звоню. Она уделяет мне семь минут. Говорит, что надежды больше нет, что она меня не любит.
Я так никогда и не начну.
Перед тем, как начать, под конец, я черчу круг.
Мне кажется, что в последние месяцы обоюдного отчаяния, когда мы почти не виделись, я уже предчувствовал разрыв и сам подгонял его. Я сам направлял наши отношения к печальному финалу. Горе от смерти отца растворилось во мне, и, когда я стоял перед его трупом, оно обратилось простой улыбкой и бесконечной нежностью. Мне показалось, что после пережитого я стал неуязвим для горя.
Оказалось, это не так.
В недели, последовавшие за ее прощальным звонком, меня одолевают воспоминания. Во мне взрывается и извергается ворох картин и сцен. Я вспоминаю то, что мы прожили вместе, ее лицо стоит передо мною, словно на бесконечной серии снимков. Пулеметная очередь лиц: я еду на поезде в Мантую, она паркуется под моим окном и с улыбкой выходит из машины… Улыбаясь, она уезжает домой. Я помню каждую клеточку ее тела… Четкие, цепкие образы. Четкие, анатомические, цепкие воспоминания, которых мне не одолеть.
Я один, я пронзен стрелами одиночества, я заурядный святой Себастьян, изнывающий в тоске по любви.
Я не знаю, что делать. Я не знаю, как остановить эту внутреннюю лавину, этот разверзшийся ад, который поднимается во мне, всколыхнув залежи памяти.
Я преклоняю колена. Расщелина. Развевается шлейф одиночества.
Воскрешенный, возвращенный к жизни, подаренный ей, стою я в тени воздвигнутого мною дольмена.
6. Чудовищные последствия любовной тоски: четыре отвратительные истории, которые я забыл
Итак, стояло выматывающее и мучительное лето 2007 года, и я уже готовился шагнуть навстречу новому, чудовищному эксперименту над собой, который не повторю никогда.
Прежде чем устремиться к указанному горизонту и повести за собой читателя, – следует рассказать, что вот уже несколько недель до того я пробовал освоить технику визуализации действия и пытался остановить поток воспоминаний о ней, – о той, что покинула меня и заставила окунуться в тоску. Я и сам удивился, насколько тяжело переживал обрушившееся на меня горе. Затормозить процесс я оказался не в силах. Она жила в моих снах, ярких и невероятно правдоподобных. Я тонул в приснившихся поцелуях, а поутру резко вскакивал, взмокший от пота. Порой, нежданно-негаданно, воспоминания о тяжелых и отнюдь не радостных минутах, проведенных с ней, представали картинами невероятного счастья. Поначалу они изводили меня и терзали, но сейчас, преображенные воспоминанием, казались потерянным раем. Меня раздирало невыносимое ощущение ее отсутствия, и в то же время я дико злился, не в силах поверить, что в тридцать семь лет все еще способен испытывать столь нелепые чувства.
Я решил, что нужно повысить накал. Но ничего не вышло: моя психика была слишком расшатана, чтобы заниматься упражнениями и медитацией. Меня бы просто разорвало на куски.
Я стал раздумывать, что можно бы попробовать терапию ЭМД, которая безболезненно, с гарантированным результатом избавила бы меня от призрака из прошлого. Но поздно: я уже стоял на пороге адского и лицемерного лета две тысячи седьмого.
Я решил, что нужно отдаться страданию, разглядывая образы, которые подкидывали мне воспоминания. Но сила их была такова, что внутри поднималось бешеное отчаяние, разъедавшее меня до кости и не дающее внутреннему оку разглядеть очертания картин. Я не мог находиться в городе, я не справлялся с ударами, которые наносил моему существу поселившийся в душе образ.
Я был раздавлен отчаянием, и мне представлялось, что расстояние позволит освободиться от боли – сильной, непреходящей, заполненной вереницей образов недавнего счастья.
Я встал и пошел.
Навстречу новым впечатлениям.
Применил самые древние средства самозащиты.
Я решил изничтожить себя.
Бежать в иной мир, обескураживающий, не внешний.
Покаяться.
Чудовищная история, которую я забыл
14 июля 2007 года я взгромоздился на скутер и поехал в свой старый район, Кальвайрате. Выхолощенный присутствием отца, район этот служил мне личной Йокнапатофой. Здесь я родился и вырос, и именно сюда отправлялся, когда хотел окунуться в недра человеческого бестиария (в буквальном смысле). Кальвайрате – район Милана, захваченный копеечными профсоюзными домами, возведенными в 1921 году. В точно таком я жил с родителями, а потом и один, каждый день вступая в контакт с палящим человечеством люмпен-покроя, что обеспечивало мне тягу к разного рода человеческим отбросам, drop-out, всевозможным видам антропологического мусора. Сегодня здесь живут человекообразные обезьяны, заполнившие опустившийся и разваливающийся концентрационный лагерь: наркоманы, глубокие старики, нелегальные мигранты, цыгане, румыны, студенты, пролетарии, выжившие после технологической революции, безработные, уголовники. Район представляет собой географическое пространство, очертить которое не так-то просто, с центром в виде заброшенной скотобойни с разбитыми стеклами. Это длиннющее здание в стиле либерти, где во времена моего детства мычали быки и коровы, специальным пистолетом им загоняли в виски огромные гвозди. Входившего на территорию выворачивало наизнанку от нависшего аммиачного запаха свернувшейся крови, когда-то текущей по венам огромных быков, а ныне смытой в сточные канавы.
Здесь живут персонажи, по которым плачет психушка, Кальвайрате – район тяжелобольных сумасшедших, алкоголиков, наркоманов и наркобарыг, толкущихся на виа Чичери Висконти египтян, вечно воюющих с марокканцами, травой, колосящейся меж белых и серых полос асфальта: крошечные островки травы, утоптанные ногами и уделанные высохшими собачьими экскрементами, пыльный зеленый оазис закругленной пьяццы Мартини, где я провел все детство, все отрочество, последнее воспоминание о которой – ночь, когда фургон увез в морг труп моего отца в огромном черном пакете из ткани гортекс.
Но меня все это больше не интересовало. Я не заглядывал в родной район несколько месяцев и если выезжал в город на скутере, то всегда выбирал пути объезда. Это место пронизывало меня резкой болью: со временем я осознал, что не сам район, а отец, в нем живущий, не позволял мне освободиться и опоэтизировать малую родину.
Но сейчас я ехал именно туда, и Кальвайрате притягивал меня, словно магнит железяку. Огромная мохнатая смертоносная паучиха притягивала глупую мушку Джузеппе, приготовившегося пережить опыт, который выплеснет его за пределы человеческого бытия. Глупого Джузеппе, в очередной раз пытающегося справиться с внутренним, заменив его внешним.
Я знаю, что сделаю.
Я знаю, что мне нужно.
Я выхожу на виа Новара, вывалившись из дома Ванессы. Кто хочет узнать, кто такая Ванесса и что произошло в ее доме, может пролистать несколько страниц и сразу обратиться к следующей истории.
Я чувствую себя выпотрошенным трупом, я долго не спал. Произошедшее кажется мне бредом, сюром и заряжает адреналином.
Я знаю, что нужно мне здесь и сейчас.
Виа Новара – последний северный рубеж Милана. Здесь живут пустышки, соломенные чучела, но если сравнивать с Кальвайрате, виа Новара – Северный полюс в расцвете лета. Здесь ты наконец-то чувствуешь себя дома: получаешь недополученную детскую пайку…
Люди-пустышки, безмозглые существа, затерянные в пустыне виа Новара, в каком-то безымянном проулке, названия которого я не знаю и знать не хочу, как не хочу знать имя, выбитое на мраморной могильной плите. Существа, бормочущие все скопом еле слышными голосами – тихими, бессмысленными, спокойными, шершавыми, точно ветер, гуляющий в высушенном воздухе, или как ноги быка, топчущие разбившееся стекло в убогой гостиной.
Я рассматриваю жалкую комнатушку на виа Томмей и уже понимаю, что здесь вскоре случится. Это место – больная точка. Невероятно, но и спустя тридцать лет квартирка Энцино остается тем самым местом, куда безмозглые люди приходят преклонить соломенные головы.
Я решил идти до конца.
Подгоняемый неизгоняемым призраком любимой, жаждой сверхъестественного опыта, временем, проведенным в сточной канаве квартиры на диване и за компьютером.
Я не слушаю их музыку. Ловким прыжком, натренированным на аукционе равнодушия, я перепрыгнул свое поколение: я понятия не имею, что они слушают, я не ходил на вечеринки, не знал рейва, я сидел в тишине и писал.
Но выйдя из квартиры Ванессы, я запрыгиваю на скутер, нацепляю наушники и врубаю Murcof и Autechre. Звуки внеземных галактик. Холодные, нездешние. Эти галактики уже близко, они чувствуются в бетонных стенах, ведущих к пьяццале Лотто.
В эту самую минуту мы сворачиваем на бесконечную развязку, ведущую от Сан-Сиро к Лидо: перед нами холодная равнина тумана, облако летнего смрада, киоски, растерзанные шинами кролики, тусклые фонари.
Мост на проспекте Кассала – асфальтовая лента, выгнутая, точно спинка огромной гусеницы. Съезжаешь вниз, и перед тобой возникают арки из выщербленного красного кирпича, обозначающие границу загаженной провинции. Повсюду гудит сигнализация: город расчищают, чтобы движение не останавливалось ни на минуту. Там, где начинается виале Умбрия, четверо румын развалились на тротуаре, точно на зеленой траве, и загорают прямо перед огромным гипермаркетом, отстроенным на месте башни Бреда. Неподалеку женщина средних лет толкает пустую тележку.
Я заезжаю в район с улицы Арконати. Перед зданием, где когда-то был универмаг «Овиэсс», сидит безногий сенегалец, водрузивший туловище на самодельную деревянную платформу на колесах. Чтобы передвигаться, он отталкивается от асфальта руками в плотных перчатках. На дворе жаркое лето.
Кружа по виа Висконти, перед старым баром, выкупленным китайцами, я замечаю давнишних приятелей отца: старики, травящие забавные истории, уже не смеются: они гниют заживо, пораженные метастазами, разбитые Паркинсоном, напичканные сердечными клапанами и сосудистыми пластинками. Они уходят, им нужно уйти, ибо планета сменила пластинку: их мир уже ушел, а нынешний плавает в безголосых и диссонансных мелодиях Autechre.
Виа Томмей. Я знаю, куда идти. Я знаю, что мне нужно.
Мне очень непросто говорить о последних вещах, о мама.
Подъезд: страшный, широко распахнутый кошачий рот. Мне даже не нужно дотрагиваться до деревянной двери, напоминающей дешевый картон, липкой от краски поносного цвета, на которую налипла всякая дрянь, – свидетельство того, что здесь еще теплится жизнь.
Энцино роется в старом комоде и ищет то, о чем его попросили. Процедура мне знакома. Неисправимый малый дает гарантии. Вот уже двадцать лет он является служителем клинка и кубка. У него есть все, что нужно, ему можно доверять.
Так сделай это.
Выйди из замкнутого круга воплощения Джузеппе Дженны, писателя, пишущего только о себе, мужчины, который не доверяет себе и себя ненавидит, всеми покинутого, одинокого идиота, потребителя успокоительных таблеток, вечного пациента, неспособного к духовному пути, воина людского войска, выстроившегося на защиту от опыта, человека, боящегося перемен и секса, приверженца садомазохизма, безотказного вундеркинда, которому место в Монтечиторио, умнейшего типа, который может сложить факты с невероятной скоростью и предвидеть стратегию наступления и отступления, интеллектуала, который притворяется интеллектуалом, всамделишного интеллектуала, разборчивого друга, брата, обожающего сестру до потери пульса, созерцателя трупа отца и рассыпающегося в песок прошлого, первооткрывателя сверхчувств и искателя шаманов, злободневного писателя, от которого достается и фашистам, и коммунистам, и фидеистам, никогда не вылезающего из Сети, безбородого молокососа, которому уже к сорока, неудачника-одиночку на отдыхе, проживающего в одноместном номере, ипохондрика и психосоматика, блестящего оратора, интеллектуала, который презирает систему и, в свою очередь, презираем системой, человека, одержимого люмпеном, дромофоба, излучателя смеха между строк, человека, скрывающего свои мысли, неспособного к чувствам, способного похудеть на десять килограммов за три месяца, подверженного моментам просветления, невероятно критичного, того, кто неустанно твердит об осуществимости здесь и сейчас последних вещей, изображенных Босхом, речистого типа, вечно бубнящего о своих проблемах, рассказывающего истории, которые становятся романом, талантливого менестреля, который начинает притворяться, если рядом незнакомцы, члена жюри Венецианского кинофестиваля, упакованного в нелепый смокинг, комичного репортера частного миланского телеканала, антиденди с неаккуратно подобранным гардеробом, домохозяина, не способного сварить даже риса, вечно страдающего, одержимого ею одной, мятежника, с нетерпением ждущего восстания масс, продаваемого за рубежом автора, писателя, пишущего о себе и таким образом разбирающегося в себе, доморощенного фокусника правды и лжи, человека, не испытывающего интереса к тому, что разжигает кризис из-под занавеса, за который не заглядывает сознание, психопата, робкого агрессора, друга известных писателей, двуличного типа, создателя инспектора Лопеса, сценариста, креативщика, обладателя недюжинного ума и неловкого, чувственно недоразвитого тела, любителя сразить острым словцом себя самого, популяризатора культуры, всезнайку, до крайности пунктуального типа, сумасшедшего, умника, пишущего и рассказывающего истории, которые никто не понимает, но по которым ясно, что они не глупы и что «в этом что-то есть», ученого-анархиста, беспощадного к себе сына, кандидата отправиться на тот свет в пятьдесят семь, заядлого курильщика (две пачки в день), зависимого от компьютера, безответственного типа, побывавшего у Ванессы, бестолкового типа, сидящего на полу в потемках квартиры Энцино. Спасите меня от всего этого, освободите меня.
Освободи меня, Энцино, накачай меня успокоительным и губительным эликсиром.
Белую, лимонную, розовую, цвета тростникового сахара: дай мне любую.
Теперь мне сложно говорить о последних вещах. Мама.
Я здесь и сейчас, мне тридцать семь лет, и я сижу напротив Энцино, который подогревает в ложечке мою первую в жизни дозу героина.
Я не боюсь уколов. Петля узка. Энцино неустанно отпускает шуточки на мой счет. «Не верю: ты, ты, ни разу не пробовавший это дерьмо, единственный, кто вышел чистеньким из этого дерьмового района. Это в твои-то годы!.. Должна же быть причина, хотя кто тебя знает?»
Причина, от которой я бегу, мне ясна. Подарите мне спокойный сон без сновидений в вечно бодрствующем сердце, дайте передышку. Я устал от этих личин, от этой энергии. Я задавлен бесконечными «я», на которые я расщепляюсь и которые со стороны кажутся единым связанным целым. Цель, которую я преследую, приобщаясь к фетишу, гарантирующему Зрелость.
Мудрость настигнет позже.
Дай мне вздохнуть.
Невыразимое тепло, жижа цвета влагалищной смазки, эластичный жгут.
Шприц с беловатой опийной слизью.
Я блюю: резкая тошнота – и сразу за ней реакция.
Неисправимый малый смеется надо мной.
Рассудок отлетает, блевотина меня уже не тревожит.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?