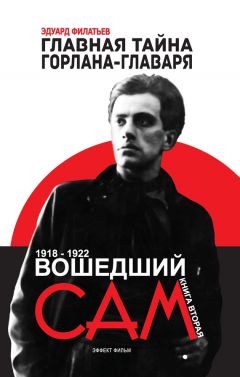
Автор книги: Эдуард Филатьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Наркомвоенмор Лев Троцкий просто бомбардировал командующего Балтийским флотом Алексея Щастного секретными телеграммами и телефонограммами, требуя начать подготовку к минированию кораблей. А адмирал, ссылаясь на решение Совета комиссаров и флагманов флота, готовить к уничтожению им же самим спасённые корабли категорически отказывался.
24 мая контр-адмирал Щастный подал в отставку. Узнав об этом, Троцкий тут же вызвал его в Москву на совещание в военно-морском наркомате.
А поэт Александр Блок в последний день мая 1918 года получил от Зинаиды Гиппиус её новую книгу «Последние стихи», в которых поэтесса высказывала все, о чем думала – цензуры тогда ещё не существовало. Книга начиналась со стихов, в которых высказалось отношение к поэме «Двенадцать» (их Гиппиус впоследствии назвала «Блоку Дитя, потерянное всеми…»):
«Я не прощу. Душа твоя невинна,
Я не прощу ей – никогда…»
Блок книгу прочёл и послал её автору свой ответ:
«… нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я ещё мало видел и мало сознавал в жизни…
Неужели Вы не знаете, что "России не будет "так же, как не стало Рима – не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?»
Немного позднее этот прозаический текст был подкреплён стихами:
«Женщина, безумная гордячка!
Мне понятен каждый ваш намёк,
Белая весенняя горячка
Всеми гневами звенящих строк!
Все слова – как ненависти жала,
Все слова – как колющая сталь!
Ядом напоённого кинжала
Лезвие целую, глядя вдаль…»
Завершались эти стихи удивительно точным предсказанием:
«Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне – бросаться в многопенный вал,
Вам – зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.
Высоко – над нами – над волнами, —
Как заря над чёрными скалами —
Веет знамя – Интернационал!»
Александр Блок предсказывал Зинаиде Гиппиус её грядущую эмиграцию.
А Владимир Маяковский в это время снимал кинокартину о том, как некая кинематографическая балерина, в которую те-рой фильма был безумно влюблён, ускользала от него и оказывалась в недоступном для всех прочих мире Кино.
Тем временем вызванный на совещание в военный наркомат контр-адмирал Щастный приехал в Москву В ВЧК уже знали, что командующий Балтийским флотом везёт с собой портфель документов, свидетельствующих о связях вождей большевиков с кайзеровской Германией. Троцкий потом сказал на суде:
«– Вы знаете, товарищи судьи, что Щастный, приехавший в Москву по нашему вызову, вышел из вагона не на пассажирском вокзале, а за его пределами, в глухом месте, как и полагается конспиратору. И ни одним словом не обмолвился о лежащих в его портфеле документах, которые должны были свидетельствовать о тайной связи советской власти с немецким штабом».
Эти слова наркомвоенмора свидетельствуют о том, что к командующему флотом большевики приставили филёров, следивших за каждым его шагом.
Как бы там ни было, но в военный наркомат Алексей Щастный явился, и его принял народный комиссар Лев Троцкий. Между ними тотчас вспыхнул спор, и контр-адмирал по распоряжению наркома был арестован и отправлен в Таганскую тюрьму. Чуть позднее было объявлено, что Щастный задержан «за преступления по должности и контрреволюционные действия».
Вожди большевиков явно перепугались решительного противодействия адмиралов и старших офицеров российского флота тому, с какой лёгкостью партия Ленина собиралась расстаться с военными кораблями своей страны. Поэтому приказы на уничтожение флота стал отдавать не наркомвоенмор Троцкий, а сам глава Совнаркома Ульянов-Ленин. И 28 мая (на следующий день после ареста Щастного) Владимир Ильич отправил в Новороссийск секретную телеграмму:
«Ввиду явных намерений Германии захватить суда Черноморского флота, находящегося в Новороссийске, и невозможности обеспечить Новроссийск с сухого пути или перевода в другой порт, Совет Народных Комиссаров, по представлению Высшего военного совета, приказывает вам с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске. Ленина.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Михаил Павлович Саблин приказ председателя Совнаркома получил, но приступать к его выполнению не стал, так как был категорически с ним не согласен. Об этом он тотчас же сообщил в Москву
Большевики к его отказу были готовы и тотчас дали команду избавиться не только от флота, но и от несговорчивых флотоводцев. Об этом – в воспоминаниях Надежды Мандельштам (в них речь идёт о заместителе Троцкого по морским делам Фёдоре Раскольникове и его жене Ларисе Рейснер, а Осип Мандельштам представлен инициалами – О.М.):
«Со слов ОМ. я запомнила следующий рассказ о Ларисе: в самом начале революции понадобилось арестовать каких-то военных, кажется, адмиралов, военспецов, как их тогда называли. Раскольников вызвался помочь в этом деле; они пригласили адмиралов к себе, те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта была действительно опасная, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню».
После этого Ульянов-Ленин вызвал Раскольникова к себе, поблагодарил за содействие и послал в Новороссийск, чтобы он поспособствовал скорейшему затоплению кораблей Черноморского флота.
17 июня 1918 года отправились в дорогу и Маяковский с Бриками. Попрощавшись на Петроградском вокзале Москвы с провожавшими их Эльзой Каган, Львом Гринкругом и Романом Якобсоном, они поехали в город на Неве.
И тут возникает закономерный вопрос: почему же всё-таки Маяковский покинул первопрестольную? Что произошло? Ведь «Закованная фильмой» была не закончена и требовала продолжения. Картина завершалась тем, что главная её героиня, которую играла Лили Брик, оказывалась в фантастической киностране «Любляндии». Художник, которого играл Маяковский, бросался на поиски этой страны.
Василий Васильевич Катанян в книге «Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины» пишет:
«Поиски должны были сниматься во второй серии, но она не состоялась».
Почему?
Об этом никто из биографов поэта не сообщает.
Видимо, произошло нечто экстраординарное, заставившее поэта бросить все дела и стремительно уехать в Петроград. Какие-то могущественные силы вмешались в судьбу поэта, перекроив её по-своему.
А жизнь тем временем продолжалась.
События, события…Шла вторая половина июня 1918 года. Покинув Москву, ставшую столицей страны Советов, Брики и Маяковский оказались в Союзе Коммун Северной области, главным городом которого являлся Петроград.
Северная Коммуна возникла после того, как город на Неве покинуло руководство Советской России. В Петроград, который и без того жил довольно скудно, тотчас же пришла нищета, его обитатели стали отапливать свои жилища сломанной мебелью и обменивать оставшийся скарб на зерно, картофель и молоко. Множество переселенцев потянулось в места, где было не так голодно. Питер начал вымирать.
И тогда (26 апреля 1918 года) собрался Первый съезд Советов Северной области, в которую входили Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская и Вологодская губернии. Делегаты учредили новые руководящие органы: Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) и Совет комиссаров во главе с «большевиком № 2», которого ещё совсем недавно называли «оруженосцем» Ленина – Григорием Евсеевичем Зиновьевым (Овсеем-Гершем Ароновичем Радомысльским). Лев Троцкий о нём писал:
«Зиновьев был прирождённый агитатор… Противники называли Зиновьева наибольшим демагогом среди большевиков… На собраниях партии он умел убеждать, завоёвывать, завораживатъ, когда являлся с готовой политической идеей, проверенной на массовых митингах и как бы насыщенной надеждами и ненавистью рабочих и солдат».
Художнику Юрию Анненкову запомнилось другое:
«Григорий Зиновьев, приехавший из эмиграции худым как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван Ромовой бабкой».
Об этом человеке высказалась и Зинаида Гиппиус:
«Любопытно видеть, как "следует "по стогнам града „начальник Северной Коммуны“. Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тётку. Зимой и летом он без шапки… Когда едет в своём автомобиле, – открытом, – то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без неё никуда, он трус первой руки. Впрочем, они все трусы. Троцкий держится за семью замками, а когда идёт, то охранники его буквально теснят в кольце, давят кольцом».
То, что вожди большевиков прятались за спинами вооружённой охраны, объяснялось просто – они боялись покушений. Особенно после Брестского мира.
В воспоминаниях Юрия Анненкова год 1918-й описан как пора…
«… когда ленинские лозунги летали повсюду: «Грабь награбленное!», «Кулаком в морду, коленом в грудь!», "Смерть буржуям! " и тому подобное…»
А служивший в Красной армии (фельдшером в госпиталях Северного фронта) и оказавшийся на территории Северной Коммуны поэт Алексей Ганин писал:
«Близок свет. Пред рассветной встречею
Причащаются травы росой.
Поклонись – и мольбой человечьею
Не смути голубиный покой».
Писавший эти строки словно предчувствовал то, что очень скоро произошло на Чёрном море: 17 июня команды линкора «Воля», а также нескольких эсминцев и миноносцев всё-таки решили вернуться в Севастополь. И отправились туда.
А на следующий день под руководством посланца Ленина Фёдора Раскольникова начался процесс затопления боевых кораблей, команды которых не пожелали сдаваться неприятелю. Корабли вошли в Цемесскую бухту, подняли сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!», и эскадренный миноносец «Керчь» с небольшого расстояния по очереди расстрелял их. После этого последний оставшийся на плаву боевой корабль отправился в Туапсе, откуда послал в эфир радиограмму:
«Всем, всем, всем. Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец „Керчь“».
Утром 19 июня «Керчь» была затоплена у Кадошского маяка неподалёку от Туапсе.
Все газеты юга России напечатали тогда эту последнюю радиограмму с боевого корабля. А в московских газетах появилась лишь небольшая заметка за подписью наркома по иностранным делам Георгия Чичерина. В ней говорилось:
«Часть бывших в Новороссийске судов Черноморского флота возвратились в Севастополь, остальная же часть была командой взорвана».
Немцы в Севастополе объявили вернувшихся матросов военнопленными и подняли над их кораблями кайзеровские военно-морские флаги.
Такой была обстановка в стране, когда из Москвы в Петроград приехал Владимир Маяковский. В «Хронике жизни и деятельности» поэта-футуриста сказано, что он:
«Во второй половине июня вернулся в Петроград».
Первые, кого посетили Брики и Маяковский, были Алексей Максимович Горький и его жена Мария Фёдоровна Андреева. Горький, как мы помним, часто захаживал в гости к Лили Юрьевне и Осипу Максимовичу, а в день большевистского переворота он и вовсе целый вечер играл у них в карты. И хотя никаких свидетельств о посещении Бриками пролетарского писателя обнаружить не удалось, эта встреча не могла не состояться.
Горький в тот момент был активнейшим противником политики большевиков, продолжая регулярно публиковать в своей «Новой газете» заметки под названием «Несвоевременные мысли».
Мария Андреева взгляды мужа полностью разделяла и при встрече со старыми знакомцами наверняка высказывалась о том, что происходило в стране, надо полагать, весьма откровенно и довольно хлёстко. Партийный стаж у неё был весьма солидный – в РСДРП она вступила, когда Маяковский ещё только начинал учиться в гимназии. Сам Ульянов-Ленин уважительно называл её «товарищ Феномен», и эти слова стали партийной кличкой Андреевой. В царское время огромные суммы из гонораров Горького попадали в распоряжение большевиков через руки Марии Фёдоровны.
Маяковский вряд ли знал обо всём этом, но то, что всеми театральными делами города на Неве заправляет Мария Андреева, было ему хорошо известно.
Поэту-футуристу прямо было сказано, что никакой годовщины большевистского переворота в подведомственных ей театрах отмечать не будут. Но заказанная Маяковскому пьеса окажется весьма кстати, так как именно сейчас Алексей Максимович и она заняты созданием нового театрального коллектива. Организуется «театр трагедии, романтической драмы и высокой комедии», которому позарез необходим репертуар в духе революции февраля 1917 года. Поэту напомнили, что его пьеса должна быть революционной. Революция эта должна быть всемирно-социалистической, но без каких бы то ни было восхвалений большевиков. Ленина и его сподвижников следовало подвергнуть жесточайшей критике.
На этом наставления Андреевой, надо полагать, завершились, и она пригласила Маяковского в свой рабочий кабинет в Петроградском пролеткульте, чтобы там всё окончательно обговорить более подробно и обстоятельно. Об этом впоследствии в автобиографических заметках «Я сам» появилась фраза:
«Заходил в Пролеткульт к Кшесинской».
Впрочем, зайти в Пролеткульт поэт смог, видимо, только через неделю, а то и через две – слишком много вдруг произошло событий, и почти все они были чрезвычайными.
Первые жертвыВ четверг 20 июня в 12 часов дня в Москве собрались на заседание члены Революционного трибунала. Слушалось дело Алексея Михайловича Щастного, которого обвиняли в неисполнении приказов Совнаркома и наркомвоенмора, требовавших минирования кораблей Балтийского флота для подготовки их к взрыву
Единственный свидетель (он же и главный обвинитель) Лев Троцкий доложил:
«Щастный делал совершенно невозможным подрыв флота в нужную минуту, ибо сам же искусственно вызывал у команд такое представление, будто бы этот подрыв делается не в интересах спасения революции и страны, а в каких-то посторонних интересах, под влиянием каких-то враждебных революции и народу требований…»
С неменьшим возмущением упомянул Троцкий и о привезённых из Петрограда документах, которые свидетельствовали о связях большевиков с немецким Генеральным штабом:
«Грубость фальсификации не могла не быть ясна адмиралу Щастному. Как начальник флота Советской России, Щастный обязан был немедленно и сурово выступить против изменнической клеветы».
Речь Троцкого состояла из подобных голословных утверждений, не подкреплённых никакими доказательствами. Защита (а защищал Щастного опытнейший юрист) разбила все обвинения в пух и прах. Но контр-адмирала это не спасло, так как его судьба была решена большевистскими вождями заранее. Ревтрибунал приговорил Алексея Щастного к расстрелу. Это был первый смертный приговор, который был вынесен в стране Советов.
Московские газеты о том приговоре командующему Балтийским флотом ничего не сообщили. Но молва очень скоро сделала это событие достоянием всех.
А в Петрограде на следующий день весь город говорил о мести, совершённой как бы в ответ на решение Революционного трибунала. Газета «Северная Коммуна» напечатала информацию об убийстве…
«… тремя выстрелами из револьвера неизвестным лицом народного комиссара агитации, печати и пропаганды тов. В.Володарского».
26-летний нарком пропаганды В.Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн) установил в Северной Коммуне жесточайшую политическую цензуру, закрыл около полутора сотен небольшевистских газет, выходивших тиражом более двух миллионов экземпляров. Эсеры вынесли ему смертный приговор. И 20 июня Володарский был застрелен.
На это событие Маяковский тоже не откликнулся. Петроградская «Красная газета» напечатала стихи другого поэта – Василия Князева:
«Всех народу родней,
Сын весны пролетарской —
Первых солнечных дней
Первых ярких огней,
Весь – поэма о ней,
Володарский!..
Вот писатель, принесший Коммуне свой дар —
Вольной лиры мятежные струны,
Вот поэт площадей, огнекрылый Икар,
Барабанщик эпохи Коммуны».
Весь Петроград тотчас оклеили плакатами, из которых неслись угрозы:
«Они убивают личности, мы убьём классы!»
Рассказывая о похоронах убитого наркома, газета «Правда» сообщила:
«Несмотря на проливной дождь, улицы с утра полны народом. Вокруг Таврического дворца сплошная масса рабочих и красноармейцев».
Выпускавшаяся Горьким газета «Новая жизнь» тоже клеймила убийцу:
«Проклятие руке, поднявшейся против одного из видных вождей петроградского пролетариата!»
Отовсюду неслись требования незамедлительных репрессий против «буржуев», которые, если их не наказать без всякой жалости, всех «наших вождей поодиночке перебьют». Но Моисей Соломонович Урицкий (один из вождей Петрограда, назначенный 10 марта главой петроградской ЧК, а в апреле ставший комиссаром внутренних дел Северной коммуны) настоял на том, чтобы никаких репрессий не было.
Впрочем, аресты при Урицком не прекратились – по его приказу был арестован Великий князь Михаил Александрович. Задержанный вместе с ним граф Валентин Платонович Зубов (директор Гатчинского музея, назначенный на этот пост самим наркомом Луначарским) так описал встречу с главным чекистом Петрограда:
«… перед серединой стола сидело существо отталкивающего вида, поднявшееся, когда мы вошли, приземистое, с круглой спиной, с маленькой, вдавленной в плечи головой, бритым лицом и крючковатым носом, оно напоминало толстую жабу. Хриплый голос походил на свист, и, казалось, сейчас изо рта начнёт течь яд. Это был Урицкий».
После той встречи по постановлению Петроградской ЧК Великого князя выслали в Пермскую губернию.
Воспоминания об Урицком оставил и писатель Марк Александрович Алданов (Ландау):
«Вид у него был довольно противный, хотя и гораздо менее противный, чем, например, у Троцкого или у Зиновьева…
Урицкий всю жизнь был меньшевиком… У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной».
А в Москве сразу же после оглашения приговора Щастному его адвокат подал протест с требованием пересмотра несправедливого решения Ревтрибунала. Но Ленин и Свердлов приговор поддержали. Явно в ответ на убийство Володарского.
37-летний контр-адмирал Алексей Михайлович Щастный был расстрелян на рассвете 22 июня (или 23-го). Расстреливали его «красные китайцы». Во дворе Александровского военного училища (в самом центре Москвы). Командовал расстрельной командой россиянин по фамилии Андреевский. Он потом вспоминал:
«Я подошёл к нему: „Адмирал, у меня маузер. Видите, инструмент надёжный. Хотите, я застрелю вас сам?“ Он снял морскую белую фуражку, отёр платком лоб. „Нет! Ваша рука может дрогнуть, и вы только раните меня. Лучше пусть расстреливают китайцы. Тут темно, я буду держать фуражку у сердца, чтобы целились в неё“».
Последними словами, которые произнёс контр-адмирал, были:
«– Смерть мне не страшна. Свою задачу я выполнил – спас Балтийский флот».
Часы показывали 4 часа 40 минут утра, когда, по словам Андреевского:
«Китайцы зарядили ружья. Подошли поближе. Щастный прижал фуражку к сердцу. Была видна только его тень да белая фуражка…
Грянул залп. Щастный, как птица, взмахнул руками, фуражка отлетела, и он тяжело рухнул на землю».
Кремль сразу же запросили, где хоронить расстрелянного. Вожди ответили:
«Зарыть в училище, но так, чтобы невозможно было найти».
И Щастного китайцы замуровали под полом одного из кабинетов.
Через какое-то время, комментируя эту расправу, Троцкий сказал:
«… впредь советская власть не будет останавливаться ни перед чем для подавленим контрреволюции».
Лев Олькеницкий-Никулин привёл в своих воспоминаниях высказывание Ларисы Рейснер, убеждённо заявившей:
«Да, мы расстреляли Щастного! Мы расстреливали и будем расстреливать контрреволюционеров! Будем! Британские подводные лодки атакуют наши эсминцы, на Волге начались военные действия».
А Владимир Маяковский никаких воспоминаний об этих весьма драматичных событиях не оставил. В «Я сам» о той поре – всего три слова (даже название города на Неве дано на старый манер):
«Июнь. Опять Петербург».
Новые героиЧетырёхмесячные выступления в «Кафе поэтов» и тесное общение с его анархистски настроенными завсегдатаями сильно повлияли на мировозрение Владимира Маяковского. Взгляды анархистов были ему явно по душе и стали во многом определять его высказывания и поступки. Поэтому точно так же, как в декабре 1917 года, когда поэт-футурист уехал из Петрограда, отказавшись сотрудничать с большевиками, так и в июне 1918-го он расстался с Москвой, поскольку во многом расходился во взглядах с теми, кто начал управлять Россией.
Можно, пожалуй, даже сказать, что Маяковский панически бежал из первопрестольной. Точно так же, как незадолго до этого её покинул Давид Бурлюк, опасаясь, что за связи с анархистами им могут заинтересоваться чекисты. Вполне возможно, что Маяковского тоже вызывали на допрос в МЧК и весьма сурово с ним побеседовали. После этой беседы Владимир Владимирович и решил поскорее покинуть Москву.
Но, как известно, свято место пусто не бывает, и в это же самое время в большевистской столице объявился ещё один анархист, который тоже складывал стихи. Родился он в 1888 году в Екатеринославской губернии в небольшом селе с весёлым названием – Гуляйполе. Его родители были крестьянами. Дату рождения сына они записали годом позже, чтобы спустя годы им не пришлось отдавать слишком молодого паренька в армию.
Восьми лет юный гуляйполец пошёл в сельскую школу. Об этом он сам впоследствии написал:
«Зимою я учился, а летом нанимался к богатым хуторянам пасти овец или телят. Во время молотьбы гонял у помещиков в арбах волов, получая по 25 копеек в день».
Окончив два класса, паренёк учение прекратил, примкнул к группе анархистов, которая занималась грабежами, и стал осваивать новую для себя профессию. Но вскоре грабителей начали арестовывать, и наш юный анархист тоже оказался в тюрьме. В 1908 году его арестовали в очередной раз (по обвинению в убийстве чиновника военной управы). В 1910 году был объявлен приговор: смертная казнь через повешенье. Обречённого гуляйпольца спасло то, что по документам он был слишком молод (спасибо родителям, изменившим год рождения сына). Смертную казнь заменили бессрочной каторгой.
Наказание отбывал в Москве – в каторжном отделении Бутырской тюрьмы, где принялся изучать историю, математику, литературу, перечитав, по его собственным словам…
«… всех русских писателей, начиная с Сумарокова и кончая Львом Шестовым».
Лев Исаакович Шестов (Иегуда Лейб Шварцман) был российским философом-экзистенциалистом, чью книгу «Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления)», видимо, и читал юный анархист-каторжанин.
Ещё он начал слагать стихи. Точно так же, как годами раньше сочинял их в той же Бутырке юный Маяковский. Но будущий поэт-футурист к своим тюремным виршам впоследствии относился критически, да и тетрадь с ними при освобождении жандармы у него отобрали – все четверостишия канули в Лету. А стихи каторжанина-гуляйпольца (пусть тоже ещё не очень звучные и ладные) сохранились:
«Гей, батько мой, степь широкая!
А поговорю я ещё с тобою…
Ведь молодые же мои бедные года
Да ушли за водою…
Ой, вы звёзды, звёзды ясные,
Уже красота мне ваша совсем не мила…
Ведь на тёмные мои кудри да пороша
Белая легла».
Из тюремных застенков автора этих строк 2 марта 1917 года освободила Февральская революция. Вернувшись в родное Гуляйполе, он организовал отряд «Чёрная гвардия» и стал нападать на поезда: грабить и убивать помещиков, богачей, царских офицеров. Потом сражался с войсками немецкого кайзера, которые после подписания Брестского мира оккупировали Украину. Затем отправился в Советскую Россию, чтобы познакомиться с тем, как в ней развивается анархистское движение.
Звали этого поэта, каторжника и анархиста Нестор Иванович Махно.

Нестор Махно, 1919 г.
Впечатления, полученные от посещения «красных» губерний Советской России, совсем его не обрадовали. Диктатура пролетариата, которую с неимоверным энтузиазмом насаждали в стране большевики, по мнению убеждённого анархиста, только раскалывала трудовой народ. Чтобы проверить свои ощущения, в июне 1918 года Махно отправился в Кремль, где его приняли сначала Ленин, затем Каменев, Зиновьев и Троцкий. После бесед с вождями советской власти Нестор Иванович написал:
«Нет партий, а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ».
29 июня 1918 года Махно покинул Москву. Вернувшись в родное Гуляйполе, он под чёрным знаменем анархии принялся поднимать трудовой люд на всеобщее восстание против иноземных войск, захвативших Украину.
В это время в Закавказье под давлением Турции (но в полном соответствии с Брестским миром) была провозглашена независимая от России Закавказская Социалистическая Федерация Советских Республик (ЗСФСР). Произошло это 22 апреля. А через три дня в Баку на заседании Бакинского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был образован Совет Народных Комиссаров (СНК), состоявший из большевиков и левых эсеров. Председателем Бакинского Совнаркома стал большевик Степан Георгиевич Шаумян, являвшийся ещё и чрезвычайным комиссаром российского СНК по делам Кавказа. Так родилась Бакинская коммуна (на день раньше создания Коммуны Северной).
Среди тех, кто голосовал за её создание, был молодой человек, которого звали Яков Исаакович Сербрянский. Он родился в 1891 году в бедной еврейской семье, окончил четырёхклассное городское училище в городе Минске (то есть образование у него – те же четыре класса, как и у Маяковского). Во время учёбы Яков вступил в ученическую революционную организацию (снова как Маяковский). Только его однопартийцами стали не погрязшие в межпартийных дискуссиях социал-демократы, а эсеры-максималисты – те, что устраивали покушения на царских министров, губернаторов и полицейских чинов. Вскоре юный эсер Серебрянский был арестован, год просидел в тюрьме. Потом служил в армии. Во время Первой мировой войны был тяжело ранен и демобилизован. Он перебрался в Баку, где работал электромонтёром на нефтяных приисках, которыми управлял Натан Соломонович Беленький.
После февраля 1917 года Серебрянский активно участвовал в работе партии социалистов-революционеров. Был членом Бакинского Совета и делегатом от партии эсеров на Первом съезде Советов Северного Кавказа.
Фамилия Серебрянский у биографов Маяковского не встречается. И совершенно напрасно – судьбы Якова Исааковича и Владимира Владимировича пересекутся в ответственнейший момент жизни поэта. Поэтому мы будем присматриваться к этому молодому человеку очень внимательно.
А пока вернёмся в Петроград лета 1918 года. Там тогда началась эпидемия холеры, и петроградцы всеми силами старались от неё укрыться. Лили Брик писала:
«После „Закованной фильмом“ поехали в Левашово, под Петроград. Сняли три комнаты с пансионом».
От мест, где свирепствовала холера, посёлок Левашово находился достаточно далеко, и это надёжно защищало от заражения. А «три комнаты» возникли из-за того, что летом 1918 года Лили Брик официально стала гражданской женой Владимира Маяковского.
В самом начале нашего повествования мы предупредили читателей, что те эпизоды из жизни поэта революции, которые хорошо изучены и достаточно подробно освещены его многочисленными биографами, будут представлены в их описаниях. То есть всё то, что уже опубликовано о Маяковском, мы с огромной благодарностью к опубликовавшим процитируем.
Этот момент настал. Мы уже цитировали высказывание Василия Васильевича Катаняна, про которого в его книге «Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины» сказано, что он…
«… полвека (!) знал Лилю Юрьевну, был постоянным свидетелем её повседневной жизни, не прекращая вёл дневниковые записи её бесед и рассказов о Маяковском и не только о нём…
После смерти Лили Юрьевны Василий В. Катанян стал её душеприказчиком и хранителем бесценного архива, который содержит переписку, интимные дневники и биографические записи».
Пришла пора обратиться и к шведу Бенгту Янгфельдту, который (в его книге «Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг») представлен так:
«Бетт Янгфельдт – шведский писатель, учёный славист, переводчик русских поэтов (В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бродского и др.), один из лучших знатоков жизни и творчества Маяковского, положивший, по отзывам критики, „основу всему будущему маяковсковедению“. За биографию Маяковского Б.Янгфельдт получил в 2007 г. премию Августа Стринберга („шведский Букер“)».
Ситуацию с гражданским браком Владимира Маяковского Бенгт Янгфельдт разъяснил словами самой Лили Брик:
«Только в 1918 году я могла суверенностью сказать 0<сипу> Максимовичу > о нашей любви, – объясняла она, добавляя, что немедленно бросила бы Володю, если бы Осипу это пришлось бы не по душе. Осип отвечал, что ей не нужно бросать Володю, но она должна обещать, что они никогда не будут жить по отдельности. Лили сказала, что не допускает даже мысли об этом. «Так оно и получилось: мы всегда жили вместе с Осей»».
В.В.Катанян рассказал и о впечатлении, которое произвела эта «семейная» история на мать Лили Юрьевны. Приехав в большевистскую Северную Коммуну, она обнаружила коммуну семейную, в которой главенствовала её дочь:
«Приехав туда, Елена Юльевна, мать Лили, всё поняла. Поняла, что добропорядочный брак дочери распался, что она связала свою жизнь с Маяковским, который недавно ещё ухаживал за её младшей дочерью, и которого она гнала от неё как человека чуждого им круга. Л как ведёт себя в таком случае Брик? Он спокоен. Она же была в шоке».
В Петрограде Елена Юльевна Каган оказалась потому, что собралась поехать за границу.









































