Читать книгу "Великая мать любви"
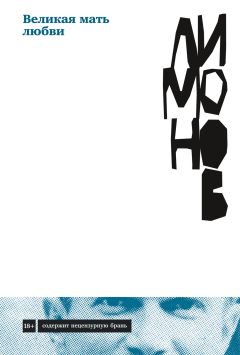
Автор книги: Эдуард Лимонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Эх, грехи наши тяжкие! – вздохнул дед Серега и поскреб седой чуб. Несмотря на свои семьдесят три года и ежедневную бутылку водки, дед был крепок и весел.
– Все помрем, – строго констатировала бабка, убирая бутылку с остатками водки в свой шкаф. На шкафу всегда висел замок, вызывая насмешки Толика в адрес «куркулей». Поставив бутылку на полку, бабка, однако, спохватилась. Бутылка ведь была не бабкина. – Хочешь? – обернулась она к юноше. Он отказался. – Я ж его вот таким вот, – бабка показала рукой, каким, какого роста, остановив ладонь на уровне кухонного стола, – помню. И на тебе – помирает Анатолий! Желудок у него, правда, всегда был деликатный… Что топчешься, старый, спать иди. – Бабка пошла на деда, с вожделением глядящего на шкаф, в котором скрылись остатки водки. – Ты свою поллитру сегодня выпил.
Дед вздохнул и ушел, подтягивая кальсоны, в комнату. Бабка мокрой тряпкой протерла клеенку на кухонном столе Толика.
– Нам надо бы теперь поосторожней, – сказала она, глядя на тряпку. – Кто его знает, рак-то этот? Доктора о нем мало что изучили. Может быть, он заразный. Его ведь к нам выпишут через неделю. Здесь помирать будет… – Бабка вздохнула. – Ну, что делать, потерпим… Погода, жаль, испортилась, а то бы мы с дедом на огород сбежали бы… Спокойной ночи… Мамзеля-то твоя куда делась? – Последние слова бабка произнесла, стоя у двери в туалет. – Бросила тебя?
– Ничего не бросила. В Прибалтике она.
Сука-бабка. Однажды Елена решила почему-то принять душ у него. Обычно она этого не делала, брезгуя коммунальной ванной. Но в тот день она, кажется, собиралась прямо от него отправиться на встречу с Витечкой и в ресторан. Бабка, оказавшаяся дома (они думали, что ее нет), устроила ему скандал.
– Этого нам еще не хватало! – кричала бабка. – Чтоб твои бляди мылись в нашей ванной. Чтоб потом мы все сифилисом заболели!
Живущий без прописки и потому беззащитный перед соседями, он все же сумел тогда пристыдить бабку. Произнес пылкую речь о справедливости. Вышел Толик и поддержал его. Через несколько дней бабка даже извинилась. Теперь бабка подначивает его Еленой.
– И чего она с тобой делает, с бедным таким? – продолжала бабка, взявшись за ручку туалета. – Нашла бы себе богатого. Девка она красивая. – Только Толик был посвящен в секрет, знал, что Елена замужем. Бабка считала ее дочерью очень богатых родителей. – Хотя дело ясное, – бабка усмехнулась, – ее привлекает то, что у тебя есть в штанах… – Победоносно захохотав, бабка ушла в туалет.
Вот старая сука, подумал юноша, но, оказавшись у себя в комнате и улегшись в постель, решил, что бабкина вульгарная острота польстила ему. Несмотря на всегда включаемый при любовных актах транзисторный приемник, соседи, конечно, слышали стоны счастливых любовников. На следующий день он посетил больного. День выдался солнечный и теплый. В пахнущей хлоркой приемной ему сказали, что больные в саду. Он прошел в сад и сразу же потерялся в массе больных и их родственников, оккупировавших все беседки и скамейки. Бегали и радостно орали дети, не сознавая, очевидно, что под застиранным халатом каждого больного живет и вгрызается в измученную плоть смерть. Лица больных, так же как и лица детей, выражали если не радость, то удовольствие видеть близких, выражали озабоченность жизнью.
– Анатолий Егорыч? – Совсем молодой, круглолицый, с детской маслянистой кожей, парень в больничном халате, куривший в одиночестве, сидя на корточках у желтой стены больничного корпуса, подставив лицо солнцу, открыл глаза. – Как же, видел. Он в беседке. – Парень указал на ближайший круглый павильон. – Там к нему жена пришла.
Юноша хотел было возразить, что жены у соседа нет, но воздержался. Какое, в конце концов, дело ловящему солнце круглолицему до того, есть у Толика жена или нет. Неужели такой молодой и круглолицый тоже болен раком?
Он нашел соседа в углу беседки. За столом против него помещалась черноволосая и чернобровая женщина. Не Светлана, как он предположил. Исхудавшее и вдруг ставшее морщинистым лицо Толика было сердито.
– Оставь меня в покое, Ольга. Я тебя ни о чем не просил и не прошу! – услышал он обрывок фразы.
Сосед увидел его. Лицо подобрело.
– Эдь! – Он встал. – Пришел! Хэ-гы… – Этот нелепый, может быть, звук «хэ-гы» всегда означал положительную эмоцию.
«Чем я ему приглянулся? – со стыдом подумал поэт. – Он-то ведь в моей жизни занимает сотое место. Если я завтра перееду на другую квартиру, я навеки забуду о Толике в момент, когда закрою за собой дверь квартиры на Погодинской. А с другой стороны, я – часть его жизни. У слесаря совсем нет друзей. Сашку другом назвать трудно, он Толику не ровня, подчиненный какой-то. Заводские к нему домой не приходят. К сестре он, по всей видимости, не испытывает никаких особенно близких чувств. Вот и получается, что я – человек, который общается с ним чаще всех. Даже если это только десяток слов в день на кухне, и только».
– Это, Эдь, моя бывшая, – неуважительно кивнул Толик в сторону женщины.
– Ольга Ильинишна, – почему-то женщина представилась вместе с отчеством.
– Эдуард… – Он чуть замялся и добавил: – Вениаминович…
– Ну, ты ступай, а то на работу опоздаешь. – Больной раздраженно глядел на бывшую жену.
– Гонит, видите, – растерянно сказал женщина, обращаясь к свидетелю за справедливостью, как бы недоумевая, почему гонят. Встала. Оказалась рослой, как и Толик. Стройной, хотя и полноватой.
– Ей на вторую смену. – Сосед запахнул халат и опустил руку под стол. Очевидно, положил ее на рану. Лицо искривилось.
– Болит? – Он спросил это с испугавшей его самого интонацией. Ему показалось, что Толик понял просвечивающее через это участливое «Болит?» другое, истинное: «Рак! Рак! Рак! У тебя рак, бедняга сосед!»
– Мой еврей Коган сказал, что так как операция была очень сложная, то долго болеть будет. Однако на той неделе обещал выписать…
Выписка, понял юноша, была для слесаря неопровержимым доказательством того, что он вылечен. Разве человека выписывают из больницы, позволяют уйти домой, если его не вылечили?
– Ну, я пойду, Толь? – Женщина мялась, не решаясь уйти, держась за сумку, лежащую на столе.
– Давай-давай… С богом. – Сосед сердито задвигался на лавке.
– Ну хоть поцелуй меня на прощание? – вдруг решилась попросить женщина. – Он такой сдержанный… – извинилась она, поглядев на свидетеля. И затопталась на месте. Красивое, тяжелое лицо ее сморщилось. Сейчас расколется и скажет ему, что он болен раком, испугался поэт. Поднял до горла и опустил тотчас же молнию на куртке.
– Обойдешься… Беги… – Толик с досадой отвернулся от бывшей жены. Она, приложив руку ко лбу, повернулась и неслышно ушла.
– Видная женщина…
– Книгу вот мне принесла… – Толик хлопнул рукой по лежащему на столе томику. – На кой черт мне ее книга…
– А я вам ничего не купил. Извиняюсь. Светлана сказал, что у вас диета, а папирос, мол, вам тоже нельзя…
– Да мне ничего не нужно. Все есть. И папиросы есть. Мне Сашка пять пачек принес. Я курю втихаря. Ну их к такой-то матери с их запретами. Если их слушать, то и дышать нельзя.
– Ну уж вы не курите, раз доктора не велят, а, Толь? Потерпите какое-то время. Быстрее заживет…
Они помолчали.
– Погодка-то какая стоит… – Слесарь, сощурившись, оглядел больничный сад. – А ты где пропадал, Эдь? Я Светлане давно передавал, чтоб ты пришел… Она сказала, пропал и дома не ночует. Блядовал небось? – Слесарь весело осклабился. – Заебет она тебя, барышня твоя… Похудел ты с лица… Если работу с тебя требует, так пусть и жрать дает соответственно. Мясо нужно жрать при таких трудах…
– Да вроде бы ем нормально. И мясо ем…
– Ты ей воли не давай. Баба если в охоту войдет, то ее из койки не вытащишь. Все больше и больше ей будет нужно. Отказать иногда хорошо. Пусть без хуя помучается. Больше любить будет…
Медсестра с колокольчиком прошла по саду, энергично потрясая колокольчик.
– Обед… – с грустью сказал Толик. – Меня соками, суки, кормят. Без соли, без всякого вкуса… Гадость, Эдь, ужасная… Никому не желаю…
– Ну ничего, потерпите. Выздоровеете – опять станем водку пить.
– Дай-то бог… – Лицо слесаря искривилось, и рука в которой уже раз соскользнула на живот. – Ну ты иди, сейчас вас все равно выгонять станут, посетителей…
– Я к вам еще приду, Толь. Когда лучше прийти?
– Да не нужно, Эдь, не трудись. Я уж на той неделе домой переберусь. К тому же и погода наладилась, и в сад разрешили выходить – веселее стало. Первое время в палате очень тошно было. Делать-то не хуй. Лежишь целый день в кровати, мысли всякие лезут…
Прощаясь, сжимая руку слесаря, он с грустью констатировал, что руке недостает привычной медвежьей крепости. И от этого, подумал он, как бы что-то и от меня убыло. Чужая слабость отозвалась в нем грустью.
Сестра привезла больного домой на такси. «Хотел пешком идти, – объясняла она бабке, деду Сереже и поэту, собравшимся на кухне. Толик, уставший от волнений выписки и переселения в родную комнату, задремал. – Еле заставили его вместе с дежурным доктором влезть в такси… Кричал на нас: "Я не профессор, и не завмаг, и не блядь, чтобы в такси разъезжать!"»
Собравшиеся переглянулись.
– Я так думаю, что он это первый раз в жизни в такси проехался, – сказал дед Серега.
– Ну и верно, чего зря деньги-то изводить, – фыркнула бабка.
– Суровый человек, – вздохнула Светлана, – жил один как волк и умрет как волк. Один… Ольгу вон из больницы выгнал. «Ты, – сказал, – стерва, меня бросила, а теперь соболезновать явилась…»
– Где ж это она его бросила?! Неправда. Это все у нас на глазах с дедом происходило… – Колобковое личико бабки возмущенно двинуло бровями. – Она ж не к мужику какому ушла, нет. Она от него ушла, потому что невозможно было уже ей с ним жить. Он ей два слова за день, бывало, говорил. Придет с работы – она обед приготовит, все чисто, ждет его с книжкой, а он пожрет и молчит. А то спать ляжет… Правда, дед?
– Точно. Не ладилось у них чтой-то. Пару лет прожили, и она терпела, но нам жаловалась иногда. Уйду, говорила, вроде как с мужиком живу, но и без мужика… Книжки читать приспособилась…
– Да знаю я его. – Светлана вздохнула опять. – Брат ведь. Вы же помните, он и в детстве все один держался…
Старики закивали головами.
– У нас тут в квартире, Эдь, девять детей однажды жило. У дяди Сережи с тетей Леной, – она повернулась в сторону бабки с дедом, – четверо, я с Толиком и тимофеевских – они в твоей комнате жили – трое детей. Мы все дружили, играли, романы даже те, кто постарше, заводили, а он – все особняком, братан мой. Характер у него такой. С одинокой душой уродился. Ему бы за Ольгу держаться, что-то она в нем нашла, раз два с лишним года вместе прожили, а он… Эх, что ж теперь говорить. Поздно уже… Все поздно…
Первые дни, наблюдая соседа, юноша подумал, что доктора ошиблись в диагнозе. Что слесарь будет жить. Да, Толик похудел, но разве человек после операции желудка полнеет? Его рвало меньше, чем до операции, и он, несомненно, сделался более энергичен. Лишенный привычных восьми часов заводского общества, слесарь теперь обязательно выползал во второй половине дня на кухню, усаживался на стул в своем углу и или задирал деда и бабку, наблюдая, как они готовят очередную порцию всегда вонючей пищи, или же выносил маленький радиоприемник и вертел его ручки, налегши всем телом на стол. «Радиво», как он его называл. Треск и помехи радиоэфира наполняли квартиру. Но даже у бабки не хватало наглости лишить приговоренного к смерти вдруг проявившейся неожиданно прихоти. В обычно суровом и независимом, одной своей сутуловатой осанкой как бы осуждавшем погрязших в коррупции деда и бабку, в Толике стал проявляться вдруг социальный юмор. «Коммунисты пивного ларька, еби иху мать, – смеясь, обращался он к юноше. – Всю жизнь умели пристроиться к власти. Крестьяне, от сохи, а прожили аж за семьдесят, как у Христа за пазухой».
Поэт хотел было возразить, что дедовские кальсоны и тесная комнатка на Погодинской далеко не свидетельствуют о том, что дед и бабка сделали блестящие карьеры, скорее напротив. Но верный своей привычке не вносить в простые отношения квартиры идеи другого, большого мира, в котором он жил и был в нем «не из последних удальцов», он ограничился понятным слесарю замечанием:
– Чего добились-то, квартиры даже отдельной нет.
– А что они такое специальное делать умеют, Эдь, чтоб им квартиру? Дед всю жизнь бригадиром электриков был. Ты думаешь, он в электричестве чего понимает? Пробки починить дурак может. Да ты больше об электричестве знаешь, чем он. Однако бригадир, пенсия большая. А все потому, что одним из первых записался деревенский Серега в партию. Вот его партия и толкала всю жизнь, как паровоз вагоны толкает. – Слесарь явно разделял себя и свою городскую пролетарскую семью и деревенских деда и бабку. И в последние недели жизни его интересовал все тот же местный микромир, в котором он прожил сорок четыре года, а не общение с Богом, мысли о мироздании или волнения по поводу загробного мира.
В начале ноября он перестал выходить на кухню. Он еще выбирался в туалет, но в конце концов (после каждого принятия пищи его теперь рвало немедленно) Светлана привезла от себя эмалированное ведро с крышкой, и ведро поставили рядом с кроватью. Истощенный и слабый, Толик лежал на кровати в брюках и шерстяных носках и глядел в противоположную стену. На стене висела серая фотография его семьи. Отец при галстуке лопатой и с гладко прилизанными назад волосами, мать, стриженная скобкой, большеносая. Светлана лет десяти, с жиденькой косой и волевым выражением лица, положила руку на плечо матери, как бы оберегая ее. Миниатюрный еще Толик чуть в стороне, отделенный от слепившегося семейства фотощелью, безучастно глядит в объектив. Уже из чрева матери слесарь вышел грустным, суровым и не знающим, что ему делать на этой земле, незаинтересованным, неприкаянным.
Дверь в его комнату теперь всегда была приоткрыта. Об этом просила Светлана, и сам Толик предпочитал, чтобы дверь была приоткрыта.
– Эдь! – слабым голосом звал он соседа. – Ты не торопишься? Зайди ко мне, посиди.
Юноша вступал в комнату смерти и садился на старый табурет у кровати.
– Ну как? – хрипел Толик. – Страшный я стал, да? – Лишенное притока пищи тело становилось все более похожим на саму Смерть с дюреровских рисунков, в особенности лицо.
– Ну, болезнь-то не красит, – уклончиво отвечал юноша, пытаясь скрыть страх, который ему внушало лицо умирающего.
– Что ж Коган-то говорил – поболит. И заживеть. Не заживаеть, а, Эдь…
– Операция очень сложная была, потому такие и боли…
– А не умру я, Эдь?.. Ведь желудок даже соки эти блядские не принимаеть…
– Да что вы, Толь! Живы будете. Потерпите…
Почему-то ко всем глаголам, оканчивающимся на твердые согласные, больной стал добавлять мягкий знак. Может быть, от слабости? Речь его стала похожа на монологи рабочих из старых кинофильмов о дореволюционной жизни. Объяснить себе этот феномен юноша не смог. Возможно, так вот, с мягкими знаками, говорили в свое время родители Анатолия, и теперь, стоя у порога того света, он в полусознании заговорил на диалекте первых лет своей жизни?
Любовники обычно совокуплялись на Погодинской, днем, включив транзистор, на узкой его кровати без спинок, матрас положен был на деревянный постамент. Начинали они с распития одной или двух бутылок советского шампанского, купленного в маленьком магазинчике на Погодинской. Однажды поэт, явившись в магазинчик, не смог купить шампанского. «Ты все и выпил, – серьезно сказала продавщица. – Местные пьют водку и портвейн». Часто Елена приходила с собакой. Витечка с удовольствием рассказывал друзьям о долгих, многочасовых прогулках, которые совершает Елена с собачкой Двосей. Двося обычно лежала на полу комнаты и, глядя на счастливо совокупляющихся молодых людей, завистливо повизгивала.
С болезнью соседа им пришлось перейти на вынужденную сексуальную диету. Однако молодость бродила в их крови, и, посмущавшись, Елена опять стала являться в комнату к поэту. К транзистору и шампанскому и стонам влюбленной пары стали примешиваться аккомпанементом стоны и хрипы блюющего в эмалированное ведро Толика.
– Что это? – Елена внезапно вышла из любовного забвения, в котором они плавали оба, вцепившись друг в друга и переплетясь всем, чем только возможно было переплестись. Она прислушалась. За стеной нечеловечески глубоко и пронзительно хрипел, вздрагивая разлагающимся желудком, сосед.
– Желудок совсем уже пищи не держит. Умирает слесарь, – прошептал поэт.
– Он умирает, а мы тут… – Елена вдруг заплакала обильно и густо, крупными слезами.
– Каждому свое, – сказал мудрый поэт со спокойствием человека, уже второй месяц живущего рядом с умирающим. – Мы любим друг друга, а он умирает… Так надо.
– Где стоит его кровать? – прошептала Елена.
Кровать слесаря находилась в каких-нибудь 20–30 сантиметрах от их ложа. По другую сторону стены.
Девочка двадцати двух лет, чужемужняя жена с волосами цвета темного меда, стала ему еще дороже и желаннее, ибо он слышал стоны мужчины, насильственно отдираемого от жизни смертью. Он выдвинул из нее член и поглядел на него. Красно-синий, набухший горячим тюльпаном член его был наполнен жизнью.
Он с удовольствием принял приглашение Елены и Витечки приехать к ним на дачу. Кроме возможностей щекочущих совокуплений с Еленой в близком соседстве от Витечки, где-нибудь на чердаке или в саду, приглашение давало ему возможность на несколько дней избегнуть все более зловещей атмосферы квартиры на Погодинской. Толик перестал спать. Два раза в день появлялась в квартире молоденькая медсестра и колола его в кожу и кости. «Чтоб не мучился, – объяснила бабка. И вздохнула. – Очень облегчает. Морфей». Он понял, что это морфий.
Собравши сумку, он зашел к соседу. Медсестра только что ушла, и Толик лежал, успокоившись на пару часов, прикрыв глаза.
– Вы спите, Толь?
– Какой там… Так, отпустило чуть-чуть после укола. Скоро опять схватить. Передыхаю.
– А я в деревню валю на несколько дней. Работа есть. Церковь подмалевать приятелю помочь.
– Врешь ты все. – Лицо Смерти изобразило что-то вроде улыбки. Череп заулыбался. – Кобелить отправляешься…
Он не возразил.
– Правильно делаешь. Гуляй вовсю… Я вот… – Череп остановился и задумался. Из-под желтых, тонких, как лист бумаги, век выкатились слезы. – Я вот все робкий был. Баб боялся… А теперь что? – Он поглядел на юношу. И ответил сам, медленно открывая рот: – Все теперь… Назад машинку не перекрутишь.
Поэт встал.
– Пойду. Ждут меня… Держитесь тут без меня… Толь… – сказал он и засмеялся.
Он хотел сказать: не помрите тут до моего возвращения, но, естественно, не мог этого сказать и проглотил окончание речи. Уже схоронивший к тому времени нескольких друзей, он не был сентиментален, скорее, даже жесток, но… Одно дело, когда умер Юло Соостер… Он оставил после себя детей, картины… А слесарь, ему, должно быть, очень страшно идти в ледяной мир из этого ледяного мира, где он был посторонним и чужим, только соседом. Ни детей, ни картин… Страшно, наверное.
Череп покачался на тонкой шее и вдруг спросил, выделив еще пару слез из-под век и всхлипнув:
– Ты думаешь, я умру, Эдь?
Застыдившись, он ответил черепу не ложью, но нейтральным и глупым: «Все умрем, Толь…» – смутился сказанным и хотел было наговорить черепу бодрых еще глупостей, но тот остановил его жестом и прошептал:
– Я вчера видел себя в зеркале… Я – это она. Смерть. Она меня выела изнутри. Меня во мне уже очень мало. Это она во мне…
Бля, подумал юноша, где же он раздобыл зеркало. По просьбе Светланы они сняли со стены зеркало в ванной. Раз в два дня Светлана сама брила брата…
– Пойду я, Толь. Держитесь! – Он дотронулся до синей маленькой руки, бывшей еще пару месяцев назад медвежьей лапой. – Бывайте!
– Бывай…
Вернулся он через неделю. Ночью. Витечка высадил его из белого «мерседеса» на Кропоткинской улице. Он и Елена тщательно скрывали от Витечки настоящее его место жительства. Посему только через двадцать минут он дошагал до дома на Погодинской. Ярко горел свет в комнате Толика. Озаряя даже тротуар под домом. Створка окна, несмотря на холод, была широко открыта.
Взбежав по лестнице и открыв дверь, он очутился лицом к лицу с бабкой.
– Пропащий явился, – сказала бабка в кухню. – Толик-то наш отмучился. Помер. – Бабкин голос не выражал никакой печали, только подобающее уважение к факту смерти. И, может быть, удовлетворение по поводу того, что сосед наконец умер и возможно будет вымыть с хлоркой всю квартиру, и повесить зеркало в ванной, и не затыкать больше уши ватными пробками, чтобы не слышать стонов.
В кухне находились дед, Светлана и Сашка – водитель самосвала. Светлана – рукава платья засучены выше локтей – мыла эмалированное ведро, поставив его в кухонную раковину. Сашка сидел на стуле Толика, сжимая в руке кепку. Дед стоял у своего стола, прислонившись к нему задницей.
– Мы уж его и обмыли тут, – сказала бабка, кивнув на Светлану и ведро.
– Сами? – поразился юный интеллигент.
– Ну да, сами… Оно и удобнее, и денег платить не надо. И одели уже. Иди погляди… – Бабка направилась в комнату слесаря, подразумевая, очевидно, что юноша последует за ней. Он последовал.
Слесарь, наряженный в белую рубашку и черный костюм, лежал на столе. Ноги от коленей, не уместившись на столе, зависли над полом. Костюм был тот самый, в котором слесарь сидел за этим же столом в день Первого мая, в котором ходил с соседом на демонстрацию.
– Мертвого лучше сразу же мыть и обряжать, пока не захолол, – пояснила бабка. – Позднее ты на него спиджака не наденешь, когда застынет. – Очевидно, бабка имела большой опыт обращения с мертвыми. Она преспокойно ухватила вдруг слесаря за ступню в носке. – Во, теперь захолол! – удовлетворенно воскликнула бабка. – Потрогай!
Чтобы не выглядеть мальчишкой и маменькиным сынком, он потрогал. Не тело, но какую-то другую субстанцию заключал в себе черный носок. И субстанция действительно была холодной.
– Хорошо умер. Тихо. Сегодня с утра еще его боль отпустила. Довольный лежал – я заглядывала, – тихий. Даже уснул немножко. А к шести часам задышал, задергался и умер. В той же комнате, Эдь, где и родился сорок четыре года тому, – сказала бабка. – Ну и слава богу, очень уж мучился.
– Да, вот она, наша жизня, – сказал дед, входя. – Он мне как раз в сыновья годился. – От деда пахло водкой больше обычного, очевидно, он сумел выпросить у бабки добавку к ежедневному рациону по случаю смерти соседа. Возможно также, что дед был доволен тем, что куда более молодой мужчина в квартире умер, а он, дед, жив. – Завтра уж хоронить будем. И поминать. Доктора разрешение дали, так как дело смерти ясное.
В комнату вошла Светлана.
– Ты, пожалуйста, никуда не пропадай опять, Эдь! Если он видит – а говорят, они после смерти еще долго все видят и чувствуют, – ему будет приятно, что ты на поминках сидишь.
Поколебавшись, он решил не присутствовать на коллективном поминовении. Переночевав рядом с покойником, сбежал рано утром. И появился в квартире через день.
– Сбежал… – сказала бабка, увидев его.
– Не смог. Дела были…
– Ну и правильно сделал, – сказала бабка. – Я бы тоже ушла, да куда деваться. Неудобно перед Светкой. Он родился здесь, у меня на глазах. Пришлось… Напились очень мужики… И дед мой нажрался, обрадовавшись…
– Однако ты выпей, чтоб ему земля пухом была. – Бабка отперла свой шкаф и достала медицинскую круглую бутылочку. – Спирт. Светлана тебе оставила. Сказала, пусть обязательно выпьет.
Он выпил, чтоб земля была Толику пухом. И закусил оставленным Светланой холодным.
На Новодевичьем кладбище, в конце улицы, слесаря, разумеется, не похоронили. Там хоронят больших людей, а не слесарей. Гроб долго везли на похоронном автобусе, и бабка даже не смогла вспомнить названия кладбища.
– Теперь крадучись хоронят, – пожаловалась бабка. – Раньше бывало – грузовик в кумач затянут, гроб на грузовике в цветах, детишки вокруг гроба… Жена идет в черном платке, венки несут сослуживцы по двое, если медали и ордена есть – награды на подушках несут… Духовой оркестр, траурные марши всю дорогу играют. А теперь сунут в автобус, в другой автобус родственников насажают – и мчат, как картошку из колхоза. Это тоже тебе. – Бабка вытащила из стола кожаные черные перчатки и две крахмальные, с бумажными воротничками, из прачечной, рубашки. Голубую и белую. – Наследство.
– Да мне не нужно, я и перчаток не ношу. А рубашки куда, я в них утону. Он на два размера больше меня был.
– Бери, – сказал бабка сурово. – Обычай такой. Нам тоже вещи его достались. И Сашке серый костюм Светлана отдала. На память.
Он взял рубашки и перчатки слесаря. На память о слесаре. Об одном из человеческих существ, встретившихся ему на его собственном пути из пункта рождения в пункт смерти.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































