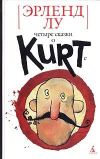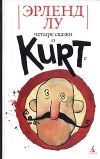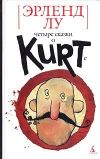Текст книги "Терапия"

Автор книги: Эдуард Резник
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Пропагандисты дали людям предельно конкретное и исчерпывающее объяснение о природе злодеев, чьими жертвами люди оказались. Подробно рассказали, какие гадости эти злодеи сделали, а также научили, как с ними следует бороться, чтобы перестать быть их жертвами. Им объяснили: борьба нужна, чтобы люди больше не ощущали никакого «общественного несчастья», а ощущали только покой, радость и гармонию.
Теперь «общественное несчастье» внутри каждого человека стало неотъемлемой частью его личности, старым другом, привычкой, даже супругом. Человек с ним сросся и уже не мог без него жить. Если появлялся кто-то новый, кто почему-то считал, что люди – никакие не жертвы и нисколько на самом деле не «несчастны», люди сами с негодованием прогоняли этого возмутителя спокойствия – кому охота вместо ощущения жертвы ощущать себя пустотой?
Ощущать себя жертвой – это хоть какое-то ощущение самого себя, хоть какая-то жизнь, а пустота – это ничто, а значит – смерть. Тео считал, что именно ради бегства от пустоты и смерти народ так увлекся переживанием своего «несчастья», так обрадовался поискам его причин, так разгорячился преследованием своих обидчиков и переживанием мстительной радости их уничтожения.
Альтернативой этим переживаниям могли бы стать переживания любви, радости и покоя, но трудно представить, чтобы тихие и счастливые переживания могли стать основой для мощного объединения огромного количества самых разных людей, укрепления государственной власти, стремительного роста чьих-то политических карьер.
На обидах политическую карьеру выстроить легко, а на любви и покое невозможно. Так необходимость строительства чьих-то политических карьер смогла заставить людей добровольно отказаться от таких ценностей, как любовь, покой и радость, – вместо них несчастные одураченные люди выбрали ненависть, злобу, вражду, и, как следствие, бомбы. И впоследствии на их города посыпалось то, что они выбрали.
* * *
Тео рассказал мне, что, еще будучи в Гамбурге, он испытывал потребность поделиться с кем-то переполнявшими его мыслями, и потому при случае он попытался поговорить об этом с Куртом. Но оказалось, что это счастливое существо, живущее, как собачонка, лишь сегодняшним днем, совершенно неспособно мыслить: когда Тео принялся объяснять Курту идею «общественного несчастья», Курт сказал, что не понимает, что это такое, и в ту же минуту пожелал, чтобы они купили себе к ужину мороженое.
Тео понял, что, если Курта не интересует эта тема, значит, сам Курт, что удивительно, не является частью огромного «общественного несчастья». Курт жил отдельной жизнью и был вне немецкой нации. А точнее, вне ее господствующего образа, насаждаемого пропагандой.
Пропаганда, по мнению Тео, создавала у нации определенный образ самой себя. Этот образ был выгоден тем, кто пропаганду оплачивал. Она навязывала образ нации, сфокусированной не на сегодняшнем дне, а на будущем – там располагалась некая цель, к которой нация должна быть устремлена.
Немца приводили к убеждению, что он не просто человек, который живет, стирает белье, ест, работает, а потом умрет, и его закопают, и все это неизвестно зачем. Вся унылая обыденность повседневности, попадая в волшебный луч пропаганды, оказывалась не такой уж унылой и бессмысленной, потому что, оказывается, скучная рутина – часть большого и волнующего процесса, она служит великой цели успешного движения нации в прекрасное будущее.
Для успешного движения к будущему от каждого немца требовалось уметь быстро и точно определить, куда отнести любого случайно встреченного человека – к своим или к чужим. Сделать это следовало в соответствии с удобными для каждого, ясными и простыми критериями.
У русских, кстати, тоже была цель, и она тоже располагалась в будущем. И – надо же, какое совпадение – они тоже объявили ее великой. И ради нее каждому из них следовало жить не «сейчас», а ради будущего. И для этого надо было уметь быстро, успешно и неукоснительно разделять людей на своих и чужих: именно это, по мысли коммунистов, должно впоследствии привести их страну к чему-то там светлому.
Курт, согласно наблюдениям Тео, не стремился ни к какой великой цели: он жил сегодняшним днем, радовался простым вещам и свободе. Это избавляло его от необходимости делить людей на своих и чужих. Благодаря этому сердце Курта наслаждалось роскошной и бездумной возможностью обожать всех подряд и радоваться каждому.
Такая позиция делала Курта совершенно бесполезным для государства – разумеется, если не считать выловленной им рыбы. Государство ничего не потеряло бы, если бы этот парень был убит на фронте или умер от потери крови при неловко сделанной принудительной кастрации в каком-нибудь концлагере для неправильных, или просто забит до смерти случайными подростками в темном переулке – если бы был замечен, к примеру, целующимся с другим парнем. Что касается рыбы, ее в этом случае продолжал бы вылавливать кто-нибудь другой, и таким образом государственная безостановочность ее поедания была бы обеспечена.
Самым удивительным и даже потрясающим в Курте было для Тео то, что сознание Курта, несмотря на вненациональный и абсолютно свободный образ жизни, под самую крышку забито всевозможным мусором. Как только Курт открывал рот и начинал рассуждать, оказывалось, что он обожает фюрера: взахлеб говорил о великом будущем новой Германии, сокрушался, что евреи выпили из Германии всю финансовую кровь, а теперь допивают остатки реальной крови, ежедневно вкушая немецких младенцев.
Получалось, что в мире одновременно сосуществуют как бы два совершенно разных Курта – один живущий, а другой рассуждающий. Один – глупый и счастливый, а другой – умствующий и злобный. Пока глупый Курт просто живет, проводит время в пивнушках и спит с мальчиками, он – прекрасное и ничем не затуманенное божье создание типа бабочки или птички. А когда он открывает рот, чтобы как-нибудь поумнее высказаться о современных проблемах, – тут надо бежать от него сломя голову: потому что, если услышишь от него хоть слово, можно превратиться в соляной столб.
Тео предположил, что, поскольку оба этих Курта были абсолютно несовместимы друг с другом и даже враждебны, они, видимо, каким-то образом ухитрились договориться никогда не сталкиваться, не пересекаться и жить в изолированных параллельных космических пространствах.
Один из них просыпался только тогда, когда уснет второй, а если второй вдруг просыпался, первый сразу же старался как можно быстрее заснуть. Тео сказал, что, если бы ему предложили нарисовать Курта, он нарисовал бы сразу двоих.
* * *
В своей среде Курт был удивительно популярен. Его жизнь проходила среди моряков на рыболовном судне, в портовых гостиницах, на улицах Гамбурга, в барах. Его всюду узнавали, все были рады ему, а он был рад каждому.
Когда Курт случайно встречал в каком-нибудь баре кого-то из предыдущих любовников, он целовался с ним прямо при Тео – это вызывало в Тео жгучую ревность, злобу, неуверенность в себе и отчаяние.
Тео наблюдал за популярностью Курта с завистью. Он не мог понять, почему Курта, у которого нет ни денег, ни влияния, ни мозгов, все так любят? В то время как Тео, у которого все это есть, не любит никто – ни в Берлине, ни в Гамбурге, ни во всей Германии, а может, и во всей вселенной – если, конечно, не считать той мертвой старушки на померанском пляже, – Тео был уверен, что она, лежа лицом в песок где-то в другой, навеки застывшей реальности, любит его до сих пор.
Тео предположил, что свобода и простота Курта были следствием того, что Курт – сирота с детства, даже при живом отце. У отца Курта была своя жизнь, и сын занимал в ней очень маленькое место. Когда у отца появлялась новая женщина или иногородняя работа, Курта перебрасывали от родственника к родственнику, и он привык к этому.
Над ним не висел, как над Тео, строгий холодный отец с ежеминутным контролем, слежкой, телесными наказаниями за любую провинность, с неумолимым требованием держать руки поверх одеяла, а также с постоянными нравоучениями о высоком моральном облике их известной и уважаемой семьи.
Вместо такого отца у Курта была просто пустота – либеральная равнодушная пустота, которая разрешала Курту все на свете. Пустоте наплевать на маленького Курта: это рождало ощущение холода, одиночества и ненужности; но вместе с тем пустота не врала ему: не говорила, что любит и что ее любовь вынуждает истязать Курта, мучить его, а также превращать его жизнь в тоску и боль – разумеется, исключительно ради того, чтобы маленький Курт стал лучше.
Безответственная пустота оказалась для Курта не таким разрушительным родителем, как для Тео его строгий неумолимый папа.
Из-за многолетнего жесткого контроля со стороны отца Тео находился в постоянном напряжении даже в Гамбурге. Он постоянно оглядывался по сторонам, вздрагивал от любых резких звуков, боялся возможных провокаций и неожиданностей, а больше всего боялся, что Курт окажется внештатным агентом гестапо и донесет на Тео властям. Почему привычное берлинское напряжение не отпускало Тео даже в Гамбурге?
Разумеется, Тео не мог рассказать Курту о своих подозрениях – во-первых, он боялся его обидеть, а во-вторых, Курт, даже если бы являлся агентом, все равно в этом не признался бы.
Когда они шли по улице или по коридору гостиницы, Тео мерещилась слежка за каждым углом. Тео не приходило в голову, что, если он откровенно расскажет Курту о своих тревогах, тот, скорее всего, не обидится, а просто посмеется, а может быть, даже как-то поможет. А если Курт все-таки агент, откровенность с ним никак не повредит Тео, потому что Курту и так уже все известно, а значит, уже и так все пропало.
Похоже, эти логические построения не приходили в голову Тео только потому, что ему нравилось чувство страха, нравилось пребывать в состоянии постоянной тревоги – тревога стала его привычкой и природой, без нее он чувствовал себя неуютно. Случайно оказавшись в состоянии покоя, он начинал интенсивно разыскивать в окружающем пространстве хоть что-нибудь, что могло бы его растревожить.
– Меня растил отец, – с печальной улыбкой сказал Курт, перевернувшись в кровати их гостиничного номера. – Когда он умирал, то сказал, что моим опекуном станет его старший брат дядя Людвиг. Он приедет на похороны, заберет меня к себе и будет мне как отец. Когда мы вернулись с кладбища, я сел и заплакал. Дядя Людвиг сел рядом и поддержал меня. В эту минуту он действительно был мне как отец. Он нежно обнял меня… И изнасиловал. Мне было одиннадцать.
Тео был потрясен рассказом Курта. Но при этом он отметил, что почему-то не может найти в себе ни капли сочувствия. В тот момент ему вспомнилась старушка, которая вместе со своим плетеным креслом упала лицом в песок. И вспомнил, как, увидев это, он спокойно продолжил путь в гостиницу, посасывая конфету и закрывая лицо от песчаного ветра.
Тео рассказал мне, что он и сегодня уверен в том, что решение в тот день этот маленький мальчик принял правильное: ребенку надо спасаться от ветра и искать своих папу и маму, а не заниматься обеспечением интересов каких-то мертвых старушек. Эти старухи, они ведь так и норовят умереть в самый неподходящий момент – даже наплевав на решение подарить ребенку конфету. А ведь ребенок, между прочим, уже целую вечность ждет ее всем сердцем.
В отличие от стариков, дети бессмертны. Смерть – это ведь что-то в будущем, а понятия будущего у ребенка нет, будущее – бессмыслица, ребенок живет в настоящем, и это дает ему удивительную свободу – например, от плохих ожиданий.
Если папа говорит: «вечером ты будешь наказан», это значит, что наказан я не буду никогда: вечер ведь никогда не наступит. А если вечером в красивом и тихом номере гостиницы папа почему-то вдруг достает военный ремень с бронзовой пряжкой и принимается меня бить, то это больно и горько, но это надо просто перетерпеть, как дождь или песчаный ветер, который был сегодня на пляже. Песчаный ветер тоже больно сечет лицо, но что с этим поделаешь?
Эти избиения необъяснимы, но в папе много необъяснимого: он, например, дышит дымом из сигареты, хотя от этого дыма щиплет горло и глаза. Или пьет пиво, хотя оно горькое. И одна из таких необъяснимостей – этот злой песчаный ветер, который живет внутри папы и заставляет делать больно своему сыну.
Иногда папа все же пытается объяснить необъяснимое: например, говорит, что бьет маленького Тео для того, чтобы мальчик стал лучше: если в будущем на глазах у маленького Тео будет умирать человек, Тео уже не будет сосать конфету и прогуливаться по пляжу, а вместо этого сразу же побежит за помощью – только тогда он не опозорит их известную семью бесчувствием и равнодушием к смерти мамы папиного начальника.
Разумеется, этот урок очень важен для маленького Тео, ведь родители папиных начальников каждую минуту только и делают, что умирают у малыша на глазах, а как, кроме битья, объяснить малышу, что он плохой?
* * *
В номер постучали. Курт не стал открывать – просто спросил, кто там. Из-за двери сказали, что принесли чаю. Ни Тео, ни Курт чаю не заказывали. Курт крикнул, что чаю не надо, и разносчик ушел. Курт сказал, что в этой гостинице, наверное, такое в порядке вещей – коридорный ходит и предлагает постояльцам чай.
– Знаешь, – сказал Тео, – мы с тобой строим какие-то планы, но у меня ведь совершенно нет денег… Мне неловко говорить об этом…
– Почему тебе неловко говорить об этом? – спросил Курт.
– Ну, потому что я из обеспеченной семьи. Ты, наверное, имел какие-то планы, когда связывался со мной?
– Думаешь, я хотел на тебе обогатиться? Нет, мне просто нравится быть с тобой, – сказал Курт.
– Мне ужасно неловко… – сказал Тео. – Ты зарабатываешь деньги, а мне они должны сыпаться с неба. Но они мне не сыплются, и за гостиницу платишь ты, и за нашу еду тоже…
– Я не упрекаю тебя за это, – сказал Курт. – Если отец не дает тебе, где ты возьмешь деньги? Каждый вкладывает сколько может. Если ты не можешь вложить нисколько, я вкладываю все. В этом нет вообще никакой проблемы. Я не коплю на черный день. Куда мне девать деньги?
– Ты мог бы откладывать на будущее.
– Будущее… – усмехнулся Курт. – Я живу сегодня.
– Я не буду жить за твой счет. Я украду у него. Там приличная сумма. Я знаю, где он прячет. Ты поможешь? Это не опасно. В доме никого не будет.
– Нет, – сказал Курт. – Проживем без этого.
– Тогда я украду сам. Я ненавижу возвращаться в Берлин. Я мечтаю остаться в Гамбурге.
– Разве для этого нужны деньги? – спросил Курт. – Я проведу тебя на борт. Спрячу в моей каюте. Буду приносить тебе еду.
– А потом?
– Когда выйдем в море, поговорю с капитаном. Будешь работать с нами. Ты хочешь работать с нами?
– Хочу, – воодушевился Тео. – Когда бежим?
– Прямо сейчас!
Тео от радости подскочил в кровати.
В дверь снова постучали.
– Я же сказал – чаю не надо! – крикнул Курт.
– Откройте, полиция! – послышался требовательный мужской голос.
Тео напрягся. Слово «полиция» мгновенно вернуло его из Гамбурга обратно в Берлин… Одновременно с тоской Тео уловил знакомое чувство покоя и облегчения: больше не надо бояться и ждать плохого: плохое пришло. Визит полиции воспринимался чем-то желанным и правильным: все встало наконец на места, все эти незаконные и опасные вещи – праздник, непослушание, свобода – теперь закончились, они были неправильной случайностью, недоразумением, иллюзией.
На душе стало легко: как тогда, когда отец вырвал у него из рук ту неподобающую открытку – плохое наконец случилось, и бояться больше нечего – пришла свобода.
Тео улыбнулся Курту.
– Мы не откроем, – тихо сказал Курт в напряжении.
– Открывайте! Мы знаем, что вы там! – послышалось из-за двери.
Тео и Курт переглянулись.
Тео думал, что дверь будут ломать, но послышался звук вставляемого в замок ключа, дверь открылась. Вспоминая этот момент во время сессии в моем кабинете, Тео заметил, что дверь снова не защитила его – как дверь его детской когда-то. Только на этот раз в комнату ворвался не отец, а подростки в сопровождении двоих взрослых мужчин в обычной гражданской одежде.
– Скоты! В тюрьму! – кричали подростки. – Вы мусор немецкой нации!
Сверкнула вспышка фотоаппарата. Потом еще одна. Курт и Тео накрылись одеялом с головой, но свирепые подростки сорвали одеяло и продолжили фотографировать…
* * *
– Я понял, почему вас не остановила даже угроза для вашей дочери… – сказал Рихард, ерзая в кресле для пациентов.
– Почему? – спросил я.
– Вы так раздулись от профессиональной самоуверенности, что даже не сомневаетесь, что вам удастся изменить меня. А я не так прост. У вас нет никаких гарантий.
Я молчал. Из Рихарда потоком шло то, что надо было просто переждать.
– Молчите? А может, вы надеетесь, что вам удастся что-то наболтать про меня Аиде, чтобы она не захотела со мной встречаться?
Я молчал.
– Тоже не выйдет, – продолжил Рихард спокойнее. – Она будет делать то, что скажу ей я. Хотите это проверить?
Я молчал. Рихард агрессивен, и это хорошо.
– Она сейчас дома? – спросил он.
Я не ответил.
Рихард вдруг сник.
– Нет, я полное ничтожество… – сказал он. – Я просто мусор. Люди так ко мне и относятся. Ненавижу людей. Покойники лучше. Этот мир – он совсем не для меня. Знаете, почему у меня нет денег? Я думал об этом. Деньги не могут появиться у того, кого нет.
Я весьма спокойно отнесся к тому, что его бросает то в агрессию по отношению ко мне, то в агрессию по отношению к себе. Рано или поздно мы с ним проанализируем это.
– Меня никто не уважает, – продолжил Рихард. – Все смотрят с презрением. Вы тоже. Почему вы не берете с меня денег? Между прочим, это было главной причиной, почему я перестал к вам приходить.
* * *
Ночью я и Рахель лежали в постели. Рахель читала книгу, а я делал записи в тетради. Сегодня мне наконец стала ясна одна из причин, почему Рихард бросил терапию: ее бесплатность он воспринял как унижение.
Рихард имел полную свободу на любые другие версии – например, мог думать, что я не беру с него денег, потому что я просто идиот… Или потому что у меня и без него много денег… Или потому что Рихард так невообразимо прекрасен, что все ищут возможность что-нибудь сделать для него бесплатно… Но он выбрал интерпретацию намеренного целенаправленного унижения. Именно она была наиболее выгодна тому внутреннему злодею, который грыз Рихарда изнутри.
А как быть с практической точки зрения? Что мне теперь делать? Брать с него деньги? Хотя бы небольшие? Нет, буду продолжать унижать его.
– Он возобновил терапию… – сказала Рахель, отложив книгу на прикроватный столик. – Значит, он все-таки хочет изменить свою жизнь?
– Не думаю, – сказал я. – Он приходит только для того, чтобы лишний раз увидеть Аиду.
Рихард
Третий этаж – это не так уж высоко. Особенно если не смотреть вниз и если ситуация требует не бояться, а наоборот – выглядеть мужественным, сильным и смелым, как моряк из фильма «Эмден». Я стоял в свете луны на пожарной лестнице и, мужественно подавляя страх высоты, помогал Аиде выбраться из окна ее комнаты.
Спрыгнув с последней ступеньки на землю, я протянул руки, поймал Аиду, обнял ее и поцеловал. Аида закрыла глаза. Мы стояли на траве, обнявшись в свете луны, а где-то вверху, в темной супружеской спальне, под уютным одеялом безмятежно спали ее мама и папа – двое взрослых, которые должны были обеспечивать безопасность своей девочки.
Но не обеспечили: мама доверилась папе, а безумный папа за спиной мамы осознанно сделал их девочку жертвой своих профессиональных амбиций.
Ничего не подозревавшая девочка доверчиво прижалась ко мне, а я молился, чтобы под ногой не хрустнула какая-нибудь ветка – на улице было очень тихо. И мои мольбы были услышаны – ветка не хрустнула. Хрустнула только Аида в моих объятиях.
– Пойдем, – прошептал я Аиде, увлекая ее за собой.
– Куда? – спросила она.
Я не ответил. Жертва не должна знать, куда ведет ее злодей.
* * *
– Зачем мы сюда пришли? Мне тут страшно, – сказала Аида, когда мы вошли в огромный зал пустого ночного морга. Здесь было холодно и сумрачно, она поежилась, подняла воротник.
Я повел ее в глубь моего драгоценного царства смерти. Широко открыв глаза, она оглядывалась на покойников, ровными рядами лежавших в лунном свете вокруг нас.
– Сюда привозят всех, кто умирает в нашем городе? – прошептала Аида.
– Не знаю. Маму привезли. Она лежала вон там.
Я показал на место у стены, где лежала моя мама. Аида растерянно оглянулась.
– Мне, наверное, не понять тебя… – сказала она. – У меня еще никто не умер.
– Умрут, – успокоил я. – Мне нравится тут работать. Хорошо, что я не знал их живыми. Наверное, придурками были редкостными. А теперь поумнели – не хвалят, не ругают, не болтают лишнего, не дают советов.
– А мне тут страшно… – сказала Аида.
Чтобы ей не было страшно, я обнял ее и начал тихо петь. Эхо разносило мое пение по залу. Я вдруг подумал, что загробные звуки моего голоса делают эту картину в глазах Аиды еще более жуткой, и прекратил пение.
– Им нравится, когда я пою, – сказал я. – Они все слышат. Одна старушка… Это было пару месяцев назад…
– Не продолжай! Мне страшно! – прошептала Аида.
– Когда я запел, у нее даже улыбка на лице появилась…
– Ты придумываешь!
Вцепившись в меня, Аида испуганно оглядывалась по сторонам. Никто из трупов сейчас не улыбался.
– Утром выяснилось, что она живая… Ее по ошибке сюда запихнули. Своим пением я просто разбудил ее. Это же лучше, чем пинок или будильник?
– То есть сюда может попасть и живой?.. – испуганно спросила Аида.
– Ошибки бывают везде, – сказал я. – Вполне допускаю, что и сейчас здесь лежит кто-нибудь не слишком мертвый.
Глаза Аиды расширились от ужаса.
– Не бойся. Если даже кто-то из них сейчас проснется, он сначала спросит, который час, потом спросит, где он, а потом пойдет домой… Мы же поможем ему добраться до выхода?
Аида нервно оглянулась.
– Ты наверняка встречала таких – бредущих ночью по городу неизвестно откуда и неизвестно куда… Теперь ты знаешь откуда такие берутся…
Я говорил мягко, тихо, плавно. Аида испуганно оглянулась. Вдруг у нее за спиной послышался резкий скрипучий голос:
– Э-э… Где я?.. Который час?.. Я хочу домой!..
Моя холодная костлявая рука вцепилась в горячее бедро Аиды на высоте стоявшей рядом тележки. От ужаса девушка завизжала и подпрыгнула на два с половиной метра. Мне стало так смешно, что от хохота я сломался пополам.
– Идиот!! – закричала Аида.
Она набросилась на меня с кулаками и заплакала. Я заботливо обнял ее и прошептал лживое «прости».
Аида успокоилась.
– А если бы ты не запел?
– Тогда бы она умерла от холода. Я спас ее. Я любую спящую красавицу могу оживить. Пусть только ее прикатят сюда ко мне – хотя бы на одну ночь…
Эта фраза показалась мне достаточно эффектной и загадочной, чтобы поцеловать Аиду так, как целуются взрослые.
* * *
Обратно мы шли по тихой и безлюдной ночной улице. Под ногами скрипели миллиарды сверкающих стеклянных осколков – в них отражались луна, звезды и волшебный свет фонарей. Откуда здесь столько стекла? Свет шел отовсюду – с неба, из-под ног; из-за этого многократного отражения у меня возникло удивительное ощущение, будто мы с Аидой плывем в ночном космическом пространстве, и звезды светят нам отовсюду – и сверху, и снизу.
Позже я узнал, что, пока мы с Аидой совершали экскурсию по ночному моргу, а ее родители мирно спали, мой народ времени не терял: в приподнятом состоянии духа люди вышли на улицы и доступными средствами устроили себе весьма оживляющий и бодрящий праздник борьбы со злом.
Он собрал людей разных возрастов, полов и убеждений, подарил волнующее чувство душевного подъема и единения. В историю эта ночь вошла под названием Хрустальной.
Через некоторое время мы свернули в тихий переулок, осколки под ногами нам больше не попадались.
– Ты боишься смерти? – почему-то спросила Аида.
– Чего мне ее бояться? – ответил я. – Я сам смерть.
– Нет, ну серьезно.
– Смерти нет, – сказал я. – Смерть – это то, чего с живыми не случается. Если случилось, значит, я уже мертвый. А значит, уже не я.
– Тут какой-то обман… – сказала Аида.
– Вот этот обман и надо солдатам рассказывать – перед отправкой на фронт, – сказал я.
Мы свернули к моему дому. Когда подошли ко входной двери, Аида остановилась и в недоумении посмотрела на меня:
– Где мы?
– Я здесь живу. Заглянем?
– Я думала, мы идем в мою сторону.
– Ноги сами свернули. Мы просто посидим.
– Ну хорошо… – в волнении согласилась Аида после короткого раздумья.
Когда она сделала шаг к двери, во мне внезапно возникло чувство катастрофы. О чем я думал, когда вел ее сюда? Я встал между ней и дверью. Она вопросительно посмотрела на меня. Слова не шли – я просто не знал, что сказать. Я усадил ее на скамейку.
– Так. Посиди здесь. Всего минутку.
И бросился в дом.
В волнении ворвавшись в комнату, я вихрем пронесся по ней, не понимая, с чего начать. Первым делом сорвал с кровати одеяло с дыркой и сунул его в шкаф. Но шкаф как будто только и ждал этого: как только я открыл дверцу, из него вывалилась целая куча всякой вонючей дряни, которую я принялся заталкивать обратно.
Кровать между тем без одеяла выглядела ужасающе – треть простыни странно потемнела: в таком виде ее выдала проклятая квартирная хозяйка, но в тот день меня это не волновало. Чтобы хоть как-то прикрыть пятно, я набросил на кровать скатерть со стола. Но на столе оказалось прожженное пятно от угольного чайника – я даже не подозревал, что оно там есть: никогда не снимал скатерть.
Кроме того, стол оказался липким. Я поставил на пятно портрет матери, рассовал некоторые вещи по углам и начал стирать со стены пятно черной плесени – я никогда не обращал на него особого внимания, но всегда при этом знал, что этого пятна тут быть не должно. Пятно же, как выяснилось, имело о себе другое мнение – оно исчезать не собиралось, считало себя тут главным, а исчезнуть из этой комнаты, по его мнению, должен был я.
После всех усилий я в отчаянии оглядел комнату и понял, что она победила. На меня было страшно смотреть. Получалось, что в этой комнате кроме меня живут еще трое – мои тоска, нищета и уныние. И я среди них – далеко не самый важный. О чем вообще я думал, когда звал сюда Аиду?
Когда я позже анализировал этот момент с доктором Циммерманном, он сказал, что где-то в глубинах подсознания я хотел привести сюда Аиду. Трудно поверить, но я хотел, чтобы она все это увидела. Зачем? Чтобы выкрикнуть кому-то о своем несчастье? Или не кому-то, а именно ей? Чтобы таким образом потребовать от нее страдать обо мне? Страдать вместе со мной? Принять меня таким, как есть – еще одним пятном среди прочих пятен этой комнаты?
Или я хотел сделать что-то, что отпугнет ее от меня и поскорее разрушит наши отношения? Но зачем? Чтобы перестать бояться, что она меня бросит? Жаль, что все эти вопросы из-за последовавшей смерти доктора Циммерманна так и остались без ответа.
Глядя на неистребимую черную плесень, я понимал, что не смогу привести сюда Аиду. Эта определенность меня даже успокоила. Спускаясь по лестнице, я вспомнил, как доктор Циммерманн показывал мне свое жилье. «Мы не обязаны отвечать ничьим ожиданиям», – сказал он мне тогда. Доктор Циммерманн иногда бывал редкостным недоумком. А я слушал его развесив уши…
Когда я вышел на улицу, шел небольшой дождь. Аида, сжавшись от холода, мокла на скамейке. Увидев меня, она встала.
– У тебя есть чай? – спросила она.
– Мы не пойдем ко мне, – сказал я. – Прости. Я провожу тебя.
Я обнял ее. Мокрые, как две бездомные собаки, мы поплелись по улице.
Аида
Мама стояла у окна в ночной гостиной и шептала молитву на идиш. Оглянувшись на щелчок входной двери, она увидела меня – мокрую и холодную. Она открыла рот, но я, боясь обвинения в том, что где-то шлялась вместо того, чтобы спать в своей комнате, быстро перебила ее:
– Мам, как же так? Ты в нашей семье самая правоверная еврейка и при этом разрешаешь мне замужество с немцем?
Мама растерянно посмотрела на меня.
– Я думала, ты спишь у себя в комнате! – сказала она.
– Нет, мамочка, мне не спалось. Я вышла пройтись.
– Ночью теперь лучше не выходить, – сказала она.
– Тебе, я вижу, тоже не спится?
– Я проснулась от шума и криков на улице.
– Стекла разбиты по всему городу.
– Тебе не следовало выходить… А что ужасного в замужестве с немцем? Почему я должна быть против?
– Ты спрашиваешь меня об этом после того, что случилось сегодня в городе? – удивилась я. – Зачем вносить под семейную крышу ужасы, что бушуют на улице?
– Если в вашей семье будет любовь, вы будете сильнее того, что происходит на улице, – сказала мама.
– Но у нас родятся дети. Они будут ходить в школу. Играть во дворе. У них появятся друзья. У этих друзей будут родители. Дети неразборчивы. Семья еще может изолироваться. А дети?
– Похоже, детей придется увозить.
– Куда?
– Не знаю. Туда, где люди не делят друг друга на своих и чужих.
– Такие места есть?.. Переезд семьи – это такая проблема…
– Если обществу не нравятся ваши дети, то переезд – это маленькая проблема, – усмехнулась мама.
– Я придумала! – сказала я. – Детям надо просто сразу сказать, что они немцы. И воспитывать их как немцев. Им вообще не надо знать, что они евреи – пусть даже наполовину.
– Это невозможно, – сказала мама. – Все выяснится. Общество наэлектризовано, всех проверяют, вплоть до бабушек и прабабушек. Меня удивляет, насколько ты оторвана от реальности.
– Тебе просто не нравится эта идея, – сказала я. – Признайся, что ты считаешь это предательством еврейской нации.
– Честно говоря, я сейчас думаю о детях, а не о нации, – сказала мама.
Я решила, что мама, как всегда, ищет непонятные сложности там, где их нет. Это даже вызвало раздражение, но я сдержала его.
– Я не знаю, чем это может кончиться, – сказала мама.
– Не знаешь? – сказала я. – А чего тут знать? Кончится тем, что они будут счастливыми немцами. Просто счастливыми немцами, без ненужных проблем.
Мама молчала. Я подошла и обняла ее.
– Мам, пойми, я всего лишь хочу, чтобы их любили.
Рихард
На стене просторного лобби государственного ведомства висел огромный портрет фюрера. Его заливали косые лучи солнца, проникавшие сюда через большое окно. Я стоял перед служащим в военной форме, выписывавшим мне пропуск. Сегодня я впервые был в столь высоком государственном учреждении. Меня охватило волнение от его огромных гулких пространств, сдержанного спокойствия, внушительности, величия.
– По какому вопросу? – спросил служащий.
– По личному.
– Вы его родственник?
– Я его…
Я вдруг понял, что не в силах произнести слово «сын». Это слово почему-то застряло в горле, словно оно запрещено мне. А может, я просто интуитивно почувствовал, что это ложь? Ну какой я к черту сын? Слово «сын» подразумевает особенное отношение к тому, кого так называют, – сыновья на дороге не валяются… А вдруг, если я скажу «сын», служащий оторвет голову от бумаг, посмотрит на меня и скажет: «Вы уверены?»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?