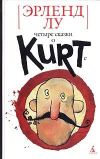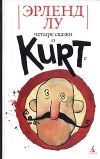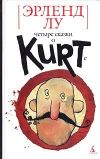Текст книги "Терапия"

Автор книги: Эдуард Резник
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Доктор Циммерманн
Это была уже вторая подобная встреча с Ульрихом – мы пили кофе на террасе того же ресторанчика, где сидели в прошлый раз. Мне не нравилось встречаться по делам терапии вне моего кабинета, но он настаивал, и мне пришлось принять приглашение человека, который платит за терапию сына.
Содержание встречи ясно было заранее – он будет настаивать, чтобы я дал отчет о происходящем в голове его сына, а также будет доказывать, что терапия оказалась неэффективна и даже вредна. Кончится, как обычно, угрозами, что он прекратит платить, но с моей стороны будет проявлена прежняя неуступчивость, и в ответ на это сегодня он, скорее всего, действительно платить перестанет. И что тогда?
Я очень хорошо понимал его – человеку трудно платить за какой-то абсурд, который, с его точки зрения, действительно не дает никакого эффекта и даже вредит. Он думал, что нанял для сына гипнотизера, который произведет сверхъестественные изменения в строгом соответствии со спецификацией плательщика, но вместо этого он попал в вязкое и мутное болото, где деньги платить надо, а за что – непонятно.
Скорее всего, он будет сегодня весьма раздражен – ведь СС уже побывала в гамбургской гостинице, где Тео проводил время со своим парнем, и благородный отец к моменту нашей встречи наверняка уже вовлечен в это дело.
Главное, чтобы давать в морду не оказалось их семейной привычкой… Впрочем, если благородный отец примется распускать руки подобно своему сыну, я дам ему в ответ так, что мало не покажется, – с Ульрихом я, к счастью, чувствую себя гораздо более свободным, чем с Тео, ведь Тео – мой пациент, а Ульрих всего лишь платит.
Зачем мне нужна была эта встреча, если я так хорошо знал все заранее? Наверное, я надеялся, что смогу ответить на главный вопрос: готов ли я заниматься с Тео бесплатно?
Мне было очень неприятно, что этот вопрос вообще возник. Что бы Ульрих ни делал, этот вопрос не должен был возникнуть: не платит – не работаю, и точка. Почему же я оказался не способен поставить точку? Почему вместо нее до сих пор висит знак вопроса?
* * *
– Вы очень меня разочаровали… – сказал Ульрих, помешивая ложечкой кофе. – Вы оказались одним из тех носителей грязи и безнравственности, о которых говорит нам фюрер. Вы не только погрязли в своей скверне сами – вы еще и нашу нацию туда тянете.
Ульрих аккуратно отложил ложечку и сделал осторожный глоток.
– Что заставляет вас так думать? – спросил я.
Интонационно вопрос прозвучал так, будто обращен не к рассерженному папаше, а к уязвимому пациенту, нуждающемуся в осторожной помощи и деликатной поддержке.
Впрочем, Ульрих и не был похож на рассерженного папашу – он выглядел как владелец небольшого заводика, который рутинно приехал к своему бухгалтеру, чтобы обсудить скучные налоговые дела.
– Мой сын рассказал мне… – сказал Ульрих. – Это вы спровоцировали его поехать в Гамбург. Я достаточно заметная персона в партии. Это из-за вас у меня теперь неприятности.
Он замолчал. Я вспомнил о небольшой царапине, красовавшейся сейчас на боку моего носа – ее оставили очки, когда слетали с лица после удара Тео: очки, кстати, немного погнулись, и мне пришлось потом распрямлять их, так что пусть Ульрих не думает, что неприятности в связи с его сыном возникли только у него.
– Я попросил вас об одном, а вы – за мои же деньги – сделали противоположное, – сказал Ульрих. – Что вы ему сказали?
– Я уже говорил вам – я не вправе давать информацию о пациентах.
Разговор, как я и предсказывал, шел по накатанному руслу. По крайней мере, так мне казалось вначале – до тех пор, пока он не отставил чашку с кофе и не сказал:
– Вы шарлатан. Вы не гипнотизер.
– Я никогда не говорил, что я гипнотизер.
– Какие-то курсы какого-то Фрейда… Я разрушу вашу практику. К вам не придет ни один пациент. Вас арестуют.
В этот момент он уже не выглядел владельцем скучного заводика – он был бледен от гнева, и его кулаки сжались. Я почувствовал страх. Этот человек действительно мог все разрушить.
Ощущение катастрофы нависло надо мной, стало трудно дышать, но тут на помощь пришел свежий ветерок – должно быть, он дул с зеленых холмов Эквадора. На этот раз холмы представились мне в закатных лучах солнца: я шел по ним в высоких сапогах, а в руках нес жестяное ведро. При каждом шаге оно тихо поскрипывало, и это было единственным, что нарушало безмятежную тишину.
В небе надо мной с печальным курлыканьем пролетел косяк ручкокрылых рыб. На горизонте стояли коровы – лениво помахивая хвостами, они безостановочно несли яйца и равнодушно поглядывали на бегущую за мною стайку пестрых куриц – куры обгоняли друг друга, стараясь не отставать: они знали, что сейчас я буду их доить.
– Погодите… – сказал я. – Не надо спешить с выводами… Терапия с вашим сыном еще не закончена.
– Ошибаетесь, – сказал Ульрих. – Она закончена. До встречи с вами мой сын был нормальным парнем. Вы взбаламутили ему голову. Не исключаю, что вы и сами могли приставать к нему, чтобы пробудить эти мерзкие желания. Теперь я вынужден тратить огромные деньги и время, чтобы он не сел в тюрьму…
– Я сожалею о ваших тратах, но…
– Сожалеть недостаточно. Вы заплатите дороже, – Ульрих поднялся из-за стола. – Зря вы ведете себя в Германии как дома. Вы забываете, что вы в гостях. Ну ничего, скоро вы об этом вспомните.
Ульрих повернулся и пошел к выходу из зала. Навстречу ему попался наш официант. Ульрих задержал его и показал на меня:
– Заплатит вон тот господин. Он, кстати, еврей. В ваше заведение можно евреям? Если да, я здесь в последний раз.
* * *
Обычно Рахель покупала муку у Гиммельфарбов, но после того как им разбили стекло, Гиммельфарбы закрылись – как и их сосед напротив. А их соседи слева, Вайсберги, уезжать никуда не собирались – они просто починили витрину и продолжили работать. Но Вайсберги мукой не торговали, а только пекли, поэтому пришлось искать другого продавца, готового делать оптовую скидку.
Раньше, когда она покупала у Гиммельфарбов, они всегда давали лопоухого посыльного – ему было двенадцать. Мука лежала на тележке, а он катил ее за собой. Пока они шли по улице, она рассказывала ему разные истории из жизни фантастических существ – выдумывала их на ходу.
Если ее фантазия иссякала, мальчик продолжал сам – он придумывал легко, и тогда, вдохновленная его фантазией, Рахель включалась снова. Так они и шли по улице – перекрикивая друг друга, толкаясь, споря, умирая от хохота. Если бы кто-то шел за ними и записывал, целая книга приключений получилась бы.
Когда я видел их из окна своего кабинета, то чувствовал некоторую ревность: рядом со мной Рахель никогда не казалась такой счастливой, как с этим двенадцатилетним мальчиком.
Почему бог не дал мне фантазии, как у него? Почему не сделал меня веселым и озорным, почему сделал таким печальным, унылым, скучным? От этих мыслей становилось грустно, я испытывал чувство вины. Почему даже в счастливые минуты я не могу отдаться радости? Что за непонятное горе прячется во мне?
Рахель и Аида в моем присутствии всегда держались в некотором напряжении. Я не хотел этого – я всем сердцем хотел быть легким. Но откуда возьмется легкость, если внутри меня сидит злобный и мрачный Рихард, а не веселый и лопоухий маленький Гиммельфарб?
Однажды я подсмотрел, как Рахель по его просьбе склонилась, чтобы расслышать получше, а этот двенадцатилетний хулиган вдруг воспользовался этим и поцеловал ее. Чужую жену, представляете? Потом он что-то сказал ей. Наверное, что любит ее? Рахель рассмеялась, а он покраснел и убежал. Это стало мне хорошим уроком: вот как следует относиться к своей жене, чтобы оставаться романтичным, – не высказывать ей недовольство за скормленные кому-то пирожки, а целовать, краснеть и убегать.
Сокрушаясь о том, что не удалось сделать мою Рахель счастливой, я представлял себе будущую девушку маленького Гиммельфарба – она ведь появится у него когда-нибудь? Я хотел, чтобы эта девушка была с ним весела и счастлива.
Казалось бы, какое мое дело? Можно было подумать, что счастье какой-то выдуманной девушки способно компенсировать мне несчастье Рахели. В тот момент моя обязанность «сделать» Рахель счастливой не подвергалась сомнению, а «несчастье» Рахели казалось просто фактом.
* * *
Всегда, когда этот мальчик доносил муку до наших дверей, он получал от Рахели конфету – сразу же разворачивал ее и съедал, счастливо закрыв глаза. За исключением единственного дня, когда у его младшей сестры оказался день рождения, – тогда он припрятал эту конфету для нее.
Когда мне маленькому однажды в синагоге подарили конфету, я тоже сразу съел ее, но глаза при этом не закрывал… А этот лопоухий – закрывал… И Тео закрывал, когда конфету подарила ему на пляже мертвая старушка… Что это может значить?
Тео в тот день на пляже было шесть лет. Лопоухому Гиммельфарбу – двенадцать. А мне в синагоге семь… Наверное, закрывают глаза только те, у кого возраст четный. Или делится на шесть. А может, закрывают те, кто получает конфеты от женщин. Мне дал ребе: он был мужчиной… Я не знаю, зачем эти надуманные закономерности лезли мне в голову – наверное, если мой интеллект лихорадочно искал пустые закономерности там, где их нет, значит, его хозяин находился в тревоге и пытался понять, как ему выжить.
Маленький Гиммельфарб, кстати, впоследствии стал большим Гиммельфарбом, и не просто большим, а очень – огромным текстильным магнатом: вот что получается из лопоухих фантазеров. Переехав в США, он, наверное, забыл мою Рахель, которая к тому моменту была уже на том свете. А может, я ошибаюсь, и он не забывал ее никогда.
Сегодня, поскольку Гиммельфарбы были уже закрыты, мы купили муку у кого-то другого, в соседнем переулке. Рахель купила дороже, чем планировала, но не только потому, что закрыты Гиммельфарбы. Можно было пройтись дальше и поискать в переулках дешевле. Но Рахель пощадила меня: я ненавидел хлопоты с продуктами…
Мы шли по улице и тащили муку вместе: Рахель несла один пакет, а я нес два. На повороте в переулок Рахель почему-то остановилась, и на лице ее отразилась нерешительность.
– Давай пойдем другой дорогой, – предложила она. – Утром там машина раздавила крысу, мне не хочется там идти.
Я бросил взгляд на часы. До двух оставалось десять минут, и хотя Рихард сказал, что больше не придет, лучше на всякий случай быть на месте.
– В два часа у меня пациент, – сказал я. – Крысу, наверное, уже убрали.
Рахель кивнула. Мы свернули в переулок. На проезжей части кружком сидели на корточках трое детей лет шести или семи – двое мальчиков в шортах и белокурая девочка с косичками. Они что-то рисовали мелом на асфальте. Что они могли рисовать? Солнышко? Домик? Мне стало интересно…
Они безвозвратно ушли в прошлое – те времена, когда Аида была в возрасте этих милых детишек. Жаль, что в те годы она была мне совершенно неинтересна. Я избегал ее, свалив все родительские хлопоты на Рахель. Теперь я понимаю, что собственными руками украл у себя огромное и безмерное счастье отцовства…
Пытаясь теперь вернуть его, я испытывал тягу к чужим маленьким детям, к их интересным словечкам, странным построениям фраз, любопытным мыслям. Развитие детской личности завораживало меня, вызывало восхищение и восторг…
А тогда, когда у меня у самого такая же личность развивалась прямо в доме, я почему-то решил, что родительство – дело женское, а мужчина должен уходить из дому и зарабатывать деньги…
Почему мы живем только один раз? Даже в театрах есть репетиции – несмотря на то что в театрах дети рождаются тряпичные, а не живые. Почему не придумана машина времени, чтобы можно было хотя бы на минутку вернуться в прошлое и поцеловать там любимое маленькое существо?.. Ладно, в следующей жизни буду умнее.
Проходя мимо детишек, я заглянул к ним в круг. Оказалось, они сидят вокруг той самой мертвой крысы, которую утром видела Рахель. В руках у девочки был мел. Крыса была обведена двумя пересекающимися треугольниками, образующими шестиконечную звезду, и получалось, что крыса лежит в самой середине. Девочка подняла на меня чистый светлый взгляд, в котором отражалась небесная голубизна мира, и со знающим видом пояснила:
– Это была еврейская крыса. Поэтому она сдохла.
* * *
Мы с Рахелью молча шли к дому. После встречи с крысой мы прошли уже, наверное, больше километра, но никто из нас не проронил ни слова.
– Даже дети испорчены пропагандой, – сказала наконец Рахель. – Все ненавидят нас…
– Никто нас не ненавидит, – сказал я. – Дети просто боятся смерти. Ведь смерть не так страшна, если найти причину.
– Разве причина не в том, что крыса была просто неосторожна?
– Детям это не подходит, – сказал я. – Дети сами неосторожны. А вот если крыса была еврейка, значит, эта смерть не для них – они же не евреи?
Рахель молчала.
– Страх смерти, только и всего, – добавил я.
Рахель скосила взгляд куда-то в сторону. Я последовал за ее взглядом и увидел чью-то дверь, мимо которой мы в тот момент проходили, – на ней белым мелом была нарисована шестиконечная звезда.
– А взрослые, – спросила Рахель, – они тоже боятся смерти?
– Взрослых не существует, – сказал я. – Мы нация детей. Нами управляют детские страхи.
Ровно в два я сидел в кабинете и поглядывал то на часы, то на дверь. Кресло пациента пустовало. Я сидел уже минут десять… Он никогда не опаздывал. Я понял, что он действительно не придет. Я отложил тетрадь, встал с кресла, взял лейку и стал поливать цветы. Цветы всегда чувствовали, когда назначенный пациент не приходит, – им доставалось больше воды, чем следовало. В дверях появилась Рахель.
– Могли не торопиться, – сказал я ей. – Он не пришел.
Это было неправильно – навязывать ему терапию. До свидания, Рихард… В лейке кончилась вода, и я пошел набирать новую.
Рихард
Этот труп был ужасно тяжелый: тело покойника горой вздымалось под покрывалом. Я катил тележку по больничному коридору, и покрывало вздрагивало на каждой неровности пола.
Одно из колес под весом покойника сильно заедало – при каждом обороте громко вскрикивало, оплакивая усопшего и свою нелегкую судьбу. Тележку от этого постоянно уводило в сторону, и мне стоило огромных усилий каждые несколько секунд возвращать ее на прямую траекторию.
Нашего патологоанатома мои трудности не волновали – он остановил меня в коридоре, сверил цифры на бирке на ноге трупа со своими записями и указал вперед – в сторону одного из столов.
– Туда. А потом бегом обратно за следующим. И побыстрее, понятно? Ты понимаешь, что значит «быстрее»?
Этот патологоанатом был мне неприятен. У него всегда недовольное выражение лица. Видно, что он не любит свою работу, не любит покойников, не любит их резать – что означало, что он не любит жизнь.
Бьюсь об заклад, что трупы тоже его не любили. А кого не любят мои друзья, того не люблю и я.
Небеса, подарившие этому патологоанатому жизнь, вместе со мной невзлюбили его за то, что он эту жизнь не любит. И в отместку за пренебрежение их подарком наградили его безобразной увесистой бородавкой на носу.
– Простите, – вежливо сказал я бедняге с бородавкой. – Я сегодня ничего не успеваю. Почему я должен все делать сам? Где Гюнтер?
– Ты действительно не знаешь? – холодно спросил патологоанатом.
Я молчал: откуда мне знать? Патологоанатом откинул покрывало, и я увидел синее, исполненное знакомой торжественности лицо Гюнтера.
* * *
Вечером, потрясенный смертью Гюнтера, я сидел на полу в углу своей комнаты и плакал – горько, как ребенок. Слезы лились безостановочно, хотелось кричать, но крик не мог пробраться через стиснутое горло. К горю примешивалась растерянность – я совершенно не понимал себя: почему я оплакиваю этого недоумка? С какой стати привязался к нежизнеспособному уроду? Когда успел? Какое мне дело до этого презренного двухсоткилограммового новорожденного, который так и не сумел повзрослеть, не сумел отделиться от матери, и который даже после смерти ухитряется отламывать колеса от наших тележек?..
Много позже, отмывая от пола мочу в офицерском туалете, доктор Циммерманн привел свою версию событий: согласно ей, этот двухсоткилограммовый урод был здесь вовсе ни при чем. Просто я увидел в нем себя: такой же одинокий, неприспособленный к жизни, никому не нужный, брошенный матерью, которая тоже недавно умерла.
Переживая смерть Гюнтера, я переживал смерть собственную. Хотя меня и спасли на том чердаке, все равно я тогда умер. Я до сих пор там вишу – в той темноте, высохший и покрытый паутиной. Согласно версии доктора, важным было вовсе не то, умер я или меня спасли, а то, что та моя смерть так и осталась не пережита мною.
Что касается тех безутешных, кто вместе со мною рыдал в нашем городе из-за смерти Гюнтера, таких не оказалось ни одного. Я был единственным. Ни доктор Лошадь, ни ее спелая урологическая груша, ни кровавая Гудрун, ни красавица Эрика, ни стервятник-патологоанатом – все они жили своей жизнью. Тусклое, будничное, незаметное прекращение существования каких-то там двухсот килограммов требухи по имени Гюнтер не стало в жизни этих медицинских гуманистов никаким событием.
Интересно, такая же была бы картина, если бы недоумок Циммерманн однажды в самый неподходящий момент не ворвался бы на свой чердак? Смею ли я надеяться хотя бы на одну чью-нибудь маленькую слезу?
Я могу даже некоторые аргументы привести в свою пользу. Во-первых, я моложе, чем Гюнтер, а молодых всегда жалко больше, чем старых. Во-вторых, я милее выгляжу, а милых тоже жалеют больше. В-третьих, я не источаю боевых ароматов Первой мировой войны, так что, если бы я остался жив, вам уж точно не пришлось бы зажимать нос. Это ведь удобство?
А в-четвертых, какого черта я должен вымогать ваши слезы? Идите-ка к бесу, сухоглазые! Кто сказал вам, что мне что-то от вас надо? Прекрасно я обойдусь без ваших слез, не нужны они мне – в конце концов, уже привык, когда обо мне никто не плачет, и так даже удобнее – например, когда я стоял у конвейерной ленты, никто из тех фартуков, что стояли вдоль нее, не ужасался и не плакал – они лишь выискивали рыбу, выхватывали ее, отрезали ей голову и брюхо, а потом продолжали высматривать на ленте новую рыбу, и я был полностью свободен от того, плачут они обо мне или нет.
Мама Гюнтера была единственной, кто простил бы своему сыночку все на свете, но она уже на том свете, поэтому не может обнять своего драгоценного, вечно новорожденного мертвеца и поплакать над ним. Моя мама в день моего чердачного вознесения тоже была на том свете и тоже не могла обо мне поплакать.
Наши мамы могли бы там пожать друг другу руки и вежливо поспорить о том, например, кто из их сыновей ленивее – я или Гюнтер.
Если рассуждать теоретически, над моим трупом могла бы немного поплакать, например, Аида. Но вынуждать ее выдавливать из себя какие-то слезы, особенно после того как мы поругались с ней на пожаре? Господи, ну какой же я был дурак! Ну зачем с ней ссорился? Зачем переносил на нее неприятие ее придурковатого папы?
А с другой стороны, как не ссориться? Готов ли я терпеть ее только ради того, чтобы было кому обо мне поплакать?
После работы вернулся домой. Сидел на полу в углу комнаты, вытирал дурацкие слезы горя по утрате Гюнтера, а со стола на меня благожелательно смотрел портрет мамы. Вот кто у меня есть, подумал я. Никогда не обнимет, но зато никогда и не бросит.
– Мамочка… – в волнении пробормотал я, но вдруг почувствовал необъяснимую и очень сильную злость на нее, – ты прости меня, но я кое-что решил… Я знаю, что он сволочь… Но… Я не хочу, чтобы вся моя жизнь прошла так, как она идет сейчас…
Горячая волна гнева мешала мне дышать. Моя жизнь катилась сейчас туда же, куда скатилась в результате жизнь моей мамы. А сегодня и жизнь Гюнтера. Черная плесень со стены комнаты день за днем медленно, но неумолимо подбиралась ко мне и моей подушке. Если эту плесень не остановить, скоро ее будет уже не отличить от черной земли, которая вскоре окружит мой деревянный ящик. Нет, я не хотел, чтобы меня окружило черное – я был молод и хотел жить. Я вдруг схватил со стола портрет мамы – я смотрел на него в гневе и в слезах и тряс его.
– Я не хочу закончить, как ты! – рыдая, кричал я ей в лицо. – Не хочу закончить, как старый Гюнтер!
Я вдруг почувствовал, что не могу больше оставаться в едином пространстве с этой лживой тварью, которая смотрела на меня с портрета. О боже, мама, любимое существо, что ты со мной сделала? Я вскочил, накинул на себя ее проклятый пиджак и выбежал из комнаты.
* * *
Уже через час я сидел в его приемной.
– Вам назначено? – спросили меня при входе.
– Нет, – ответил я.
Несмотря на этот ответ, меня все равно пропустили.
В приемной я ждал больше трех часов. Иногда, когда входили и выходили люди, успевал увидеть его через приоткрытую дверь. Он сидел в офицерской форме в шикарном просторном кабинете за большим столом, прямо под портретом фюрера. Ульрих. Мой отец. Отец моего сводного брата Тео.
К концу рабочего дня посетители разошлись, стало тихо. Пришла уборщица, начала вытирать пыль. Когда она стала мыть полы, мне пришлось поднять ноги. Пожилая секретарша сидела за своим столом, возилась с бумагами и старалась не встречаться со мной взглядом.
Наконец она не выдержала и пошла в кабинет. Приоткрыв дверь, остановилась на входе. Я видел, как отец поднял голову от бумаг и посмотрел на нее.
– Сидит? – спросил он.
Он спросил еле слышно, но я услышал.
– Он ждет уже четыре часа… – тихо, со скрытой укоризной сказала секретарша. Весь ее облик призывал если не к отцовскому долгу, то хотя бы к милосердию.
Отец обреченно кивнул.
Секретарша вернулась на свое место и, не глядя на меня, кивнула в сторону кабинета.
Я поднялся с кресла и вошел.
– Привет, – сказал я.
Мы не виделись лет пятнадцать. Не знаю, изменился ли он за эти годы – потому что не помню, как он выглядел раньше. Последний раз я видел его в темной кладовке, где на полке стояла наполненная водой баночка, а в ней плавал презерватив, предназначенный для того, чтобы в мире не рождалось слишком много таких, как я, но с тех пор прошло слишком много лет.
– Вырос, – сказал отец.
– Да… Давно не виделись, – сказал я.
– Как там мама? – спросил он. – Все еще злится на меня?
– Нет, больше не злится, – легко сказал я.
Отец удивленно посмотрел на меня.
– Совсем? – спросил он.
– Совсем, – сказал я.
Отец недоверчиво усмехнулся.
– Что это с ней? – спросил он.
– Умерла, – сказал я.
Он изменился в лице. Встал из-за стола, посмотрел на меня, стал растерянно ходить по кабинету.
– Шутишь? – спросил он.
– Не шучу, – сказал я. – Ее больше нет.
Отец молчал.
– Давно? – спросил он.
Я не ответил.
– Я знаю, тебе нужна помощь, – сказал он наконец. – Я помогу тебе.
– Спасибо, – сказал я.
Он помолчал, потом вдруг бросил взгляд на часы.
– Извини – у меня сейчас совещание будет.
– Конечно. Я ухожу. – Я пошел к двери, открыл ее, оглянулся.
Отец стоял за столом и смотрел на меня.
– До свидания, – сказал я.
– Нет, – сказал он.
– Что – нет? – не понял я.
– Нет, – повторил он.
Я догадался, чего он хочет, – вытянул руку вперед и спокойно сказал:
– Хайль Гитлер.
Отец довольно улыбнулся, тоже вытянул руку.
– Хайль Гитлер!
Доктор Циммерманн
Ткань, которую я держал в руках, волной заползала в швейную машинку. Рахель сидела за ней и шила.
– Держи повыше… – попросила она.
Я не любил шитье, мне не нравилось держать ткань, но у меня было свободное время, а у Рахели нет.
– Куда подевались пациенты? – спросил я. – Даже фрау Зальцер перестала приходить. Она ведь умрет, если не узнает, почему всю ночь в полосатом купальнике плавала в нечистотах.
Рахель многозначительно усмехнулась. Я это заметил.
– Я знаю, о чем ты подумала, – сказал я. – Но ты не права. Если человеку нужна помощь, он пойдет и к еврею.
– Люди не будут доверять тем, о ком плохо пишут в газетах, – ответила Рахель.
Она поднесла нитку к зубам и разорвала ее.
– У меня не идет из головы эта крыса, – сказала она. – Сегодня ночью мне приснилось, что это была я.
– Ты?
– Да. Лежала в луже крови на асфальте, а потом убежала.
– Ура, у меня появилась новая фрау Зальцер… – пробормотал я.
– Новая фрау – это всегда волнует, – сказала Рахель.
Я усмехнулся.
– Нам надо уехать, – сказала Рахель.
– Как ты себе это представляешь? – спросил я.
– Что тут представлять? Едем на вокзал, садимся в поезд.
– И куда этот поезд едет?
– Не знаю, – сказала Рахель. – Надо поездить по посольствам. Гиммельфарбы же как-то уехали?
– Гиммельфарбы не психоаналитики.
– Что ты имеешь в виду?
Я почувствовал непонятное волнение, раздражение, мне стало трудно дышать.
– Пекари требуются везде, – сказал я. – А я работаю в пространстве немецкого языка. Немецкого искусства. Немецкой культуры. Немецких традиций. Немецкой мифологии. Все это требуется мне для работы с пациентом.
Рахель молча шила, и я не понимал, слушает ли она меня.
– В своей профессии я дышу немецким воздухом, – продолжил я. – Стою на немецкой земле, понимаешь?
Рахель молчала, я почувствовал непонятную злость, обиду.
– Если не смотреть в документы, то я и сам немец, – сказал я. – Настоящий немец! Я знаю немецкий лучше, чем они! И немецкую историю знаю лучше! Я знаю немецкого пациента, понимаю его с полуслова – я его чувствую! А француза, британца, американца – не чувствую!
– Это просто страх, – усмехнулась Рахель.
– Это не страх! – сказал я. – Своей профессией я привязан к Германии! Мне некуда эмигрировать! Куда мне эмигрировать?
– Да хоть куда… – бросила Рахель, занимаясь своими нитками.
– Нет такого посольства, – сказал я.
– Ну нет, значит, нет… – тихо сказала Рахель и продолжила шитье.
Я в растерянности смотрел на нее. Она мирно и спокойно шила. Мне стало страшно. Она так легко и равнодушно отдала себя во власть моего решения; ее жизнь, жизнь нашей дочери – все было отдано в мои руки. Мне стало жарко.
* * *
Однажды Манфред Бурбах с женой Эльзой повезли нас с Рахелью на их машине на загородный пикник. Это было пару лет назад. За городом машина вдруг заглохла. Это произошло прямо на железнодорожном переезде. Манфред благодушно хмыкал и дергал за какие-то ручки. Мы были уверены, что вот-вот поедем. Тут из-за поворота появился поезд. Он несся на большой скорости. Машинист заметил нас – его гудок вопил истошно и непрерывно. Сделать было уже ничего нельзя: выскочить из машины не успевали, а поезд не успевал остановиться. В следующие секунды мы должны были погибнуть. Аида оставалась дома одна, и я в эту минуту подумал о ней. Белый от ужаса Манфред сжал рычаг, Эльза в ужасе закрыла лицо.
– Ну все, – тихо и спокойно сказала Рахель, мягко положив свою руку поверх моей.
Это ее спокойствие, полная покорность неизбежному, способность просто и тихо сформулировать правду потрясли меня тогда. Это спокойствие потрясало и теперь, когда ей сказали, что посольства такого нет, и поэтому никто из нас никуда не уедет.
Манфреду в тот день так и не удалось завести мотор, но в последние мгновения на стартере машина все-таки выползла из-под поезда, благодаря чему нас ударил не поезд, а волна воздуха вокруг него. В тот день вся ответственность была на Манфреде – за рулем был он. А сегодня за рулем я, и это было мне не по силам.
– С нами ничего не случится, уверяю тебя! – воскликнул я.
Рахель молча шила.
– Мы совершенно не похожи на евреев! – сказал я.
Рахель продолжала шить.
– Мы не ходим в синагогу, не живем в еврейском квартале, не носим пейсов и шляп! Мы никого не дразним своим еврейским видом!
Я с жаром, один за другим, предъявлял ей признаки нашей отдаленности от еврейства, внутренне наделяя эту отдаленность волшебным свойством гарантии нашей защиты от надвигавшихся несчастий.
Но трудно было понять, убедил ли я Рахель, и не менее трудно было понять, убедил ли я себя: очень уж лихорадочно что-то внутри меня продолжало поиск новых, свежих аргументов.
– Наши соседи – немцы… Они любят нас! – сказал я. – Они не будут стоять в стороне и спокойно смотреть, если нас…
– Что ж, хорошая колыбельная, – спокойно сказала Рахель. – В университете тебе ясно дали понять, почему тебя не взяли.
– Дело не в еврействе, – возразил я. – Курсы психоанализа Фрейда – это не то образование, которое уважают в научном сообществе.
– Ты просто не хочешь видеть правду, – сказала Рахель.
– Пойми, я не могу уехать! – воскликнул я. – Не могу прервать терапию с живыми людьми, не могу бросить тех, кто находится между жизнью и смертью!
– Но у тебя никого не осталось, – сказала Рахель.
– Они вернутся! – воскликнул я.
– Они не вернутся, – спокойно сказала Рахель.
– Твоя тревожность съедает тебя, – сказал я. – Ты постоянно драматизируешь. С чего нам уезжать? Какая-то крыса… По-моему, нас никто не убивает.
– Атмосфера, – бросила Рахель. – Очень трудно в этом жить.
– Да, атмосфера… восторга не вызывает, – согласился я, – но я тем не менее научился дышать ею. А знаешь, почему? Потому что мне есть ради чего! Я работаю! Вспомни Ницше: «Тот, кто знает “зачем”, преодолеет любое “как”». У тебя нет никакого дела, нет увлечения, нет цели, нет идеи. Ради чего ты живешь? Целыми днями готовишь, стираешь, моешь, печешь пирожки, пересаживаешь цветы в горшках… И это все? Это жизнь? Скажи мне, от чего ты убегаешь?
Рахель молча шила.
– Найди себе смысл, – сказал я. – Пойми, чего тебе хочется. Займись чем-нибудь. И тогда ты увидишь, что атмосфера потеряла для тебя всякое значение – ты научишься дышать любым воздухом.
Рахель молчала.
– Любые оскорбления станут пролетать мимо тебя, – продолжал я. – Вся окружающая нас гнусная реальность покажется тебе прекрасной, вот увидишь. Надо всего лишь знать, ради чего!
Рахель молчала, а я спокойно ждал – был уверен, что мои аргументы сильны, и ей никуда не деться: она обязана согласиться со мной и с Ницше.
– А если кто-то хочет просто печь пирожки? – осторожно спросила Рахель. – Такой человек не имеет права жить и ничего не бояться?
Я растерялся, и даже Ницше сейчас отказывался защитить меня.
– А Аида? – тихо продолжила Рахель. – Наша радостная, веселая девочка… Она тоже должна научиться переступать через мертвых крыс и не видеть шестиконечные звезды, нарисованные на дверях врагов Германии? Она тоже обязана разыскать в себе великую идею, чтобы ей стало легче пропускать оскорбления мимо ушей?
* * *
Эти старые дубовые доски, которыми был выложен пол в коридоре синагоги, надеюсь, помнили меня маленького – мне тогда было лет семь, я быстро полз по доскам на четвереньках, в ужасе спасаясь от очень и очень страшного бородатого раввина, который полз вслед за мной с угрожающим львиным рыком.
– Я рад, что вы пришли, но не рад, что вы заходите так редко, – в ответ на мое приветствие сказал его сын, после смерти отца тоже ставший раввином. – Ваш отец, в отличие от вас…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?