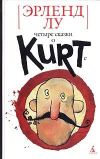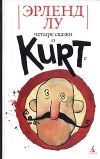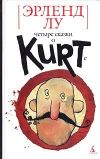Текст книги "Терапия"

Автор книги: Эдуард Резник
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Служащий поднял голову от бумаг и посмотрел на меня.
– Что писать?.. – спросил он.
Этому солдату надо было всего лишь заполнить белый квадратик. Кроме белизны квадратика, больше ничего его не волновало. Но мне вдруг захотелось немедленно убежать из этого гулкого лобби.
– Нет, не надо… Я передумал… Извините…
С этими словами я убежал.
Доктор Циммерманн
– Знаете, мне, наверное, надо как-то изменить свою жизнь, – сказал Рихард, без конца ерзая в кресле для пациентов и никак не находя удобной позы.
Разумеется, ерзал он теперь вовсе не потому, что кресло оставалось для него неудобным, – он давно в нем освоился. Дело было скорее в том, что его тело неосознанно воспринимало сейчас это кресло как ограничение, как клетку – метафору его жизни, полной несвобод, из которых ему хотелось вырваться.
Я пока не понимал, какие недавние события могли так обострить его нетерпимость к несвободам. Разумеется, каждый человек находится в каких-то рамках, и каждому хочется из них вырваться – если, конечно, это желание в нем не убито.
Нет никого, кто был бы доволен своей жизнью в полной мере. Если я буду судить по себе, то скажу, что абсолютную удовлетворенность жизнью чувствую лишь в краткие моменты. Если такой момент перестает быть кратким и состояние удовлетворенности затягивается, жизнь начинает казаться скучной, и я начинаю искать себе новые вызовы.
Эти новые вызовы снова лишают меня покоя и приводят к новой неудовлетворенности жизнью. Впрочем, эта неудовлетворенность не всегда бывает осознана – иногда она кажется неудовлетворенностью креслом, в котором я в данный момент сижу.
Человек в такой ситуации скорее поменяет кресло, чем жизнь, – это проще, понятнее, это не так страшно и не так рискованно. Пока люди изнывают от своих несвобод, индустрия кресел будет процветать.
Если заходит речь о процветании, сразу напрашивается мысль о том, что еврей, который в нашу строгую и назидательную эпоху изготавливает кресла, находится в более выгодном положении, чем еврей-психоаналитик.
Продукт труда психоаналитика рождается в узком пространстве между ним и пациентом. Этот продукт нельзя отделить от своего создателя, упаковать, сменить этикетку, перевезти в мебельный магазин на другом конце города и там продать без всякой привязки к тому, кто его сделал. На кресле не написано, что его сделал еврей.
А еще у продукта, созданного психоаналитиком, нет деревянных подлокотников, на которых для привлечения покупателей можно было бы вырезать свастику или орла.
Иногда возникает желание делать кресла. Это желание абсолютно глупое – изготовителем кресел нельзя стать вдруг: сначала надо учиться профессии, потом организовать мастерскую, потом выбрать фасоны и стили, потом собрать и отсеять возможных поставщиков дерева и ткани, потом долго создавать себе репутацию, выстраивать дружбу с продавцами – нет, легче умереть, чем начать жизнь заново.
Самое удивительное, что, если перед человеком стоит необходимость начать жизнь заново, умереть действительно легче. Менять жизнь труднее, чем начинать ее впервые, как когда-то в молодости.
В молодости каждый новый опыт кажется интересным и волнующим, а личность еще не специализирована – она открыта всем направлениям. С возрастом оказывается, что человек развил себя в каком-то одном направлении, это отняло у него годы, усилия, были получены знания, образовался опыт.
Если взять еврея-психоаналитика, дать ему молотком по башке и заставить стать вдруг евреем-краснодеревщиком, весь предыдущий опыт пропадет впустую – вместе с годами и усилиями. Можно обесценить этот опыт и сказать себе – здравствуй, новая жизнь, я снова молодой! Но что делать со специализацией личности?
Специализация личности – это когда у человека на руке не просто палец, а палец краснодеревщика, не глаз, не мозг, не печень, а все это краснодеревщика. С годами все у него становится особенным, приспособленным к главному, даже биохимия меняется в сторону красного дерева, он сам становится деревяшкой, по жилам вместо крови начинают течь древесные соки, и без этих соков человек уже не может ни жить, ни дышать, ни пить кофе, ни даже продолжить человеческий род. Если его распилить, там обнаружатся годичные кольца.
В детстве я видел огромное дерево, проросшее сквозь чугунный забор. Когда-то это дерево было тонким прутиком, и оно еще не видело в заборе проблемы – прутик просто проник через забор и продолжил себе расти по другую сторону.
Но время шло, дерево становилось толще, и пространство между железными прутьями стало тесным. Постепенно дерево захватило и соседние пространства, обтекло железные прутья забора, как застывшая жидкость. Теперь дерево стало огромным и толстым, и забор оказался у него внутри.
Вообще-то мы знаем, что забор внутри дерева – это неправильно. В других деревьях нет заборов, и им хорошо. А у этого дерева забор есть. Но если забор вытащить, дерево умрет. Они враги, но они единое целое, они срослись, и только смерти разрешено теперь разлучить их. Почему жизнь повернулась так, что я должен становиться краснодеревщиком? В какую эмиграцию толкает меня Рахель?
Разумеется, мне надо было отучиться от этой привычки – во время терапии думать о себе, а не о пациенте. Я вспомнил, что пытался понять, какие недавние события в жизни Рихарда могли так обострить его ощущение несвободы.
Я просто не знал в тот момент, что совсем недавно Рихард впервые увидел свою комнату, а значит – самого себя глазами кого-то другого. В тот день он не сказал мне, кто это был, и я подумал, что, возможно, его гостем был какой-то товарищ по рыбному цеху.
Хотя маловероятно, чтобы при его замкнутости мог появиться кто-то подобный. Позже я узнал, что в последний момент он передумал принимать гостя: увидев свою комнату со стороны, он испытал шок от себя и своей жизни.
– Я никто и ничто, – продолжал Рихард, сжавшись в кресле, а затем, обратив внимание на свою позу, с преувеличенной уверенностью развалившись. – Я мало чем в этом смысле отличаюсь от своей матери. Какое право я имел упрекать ее в том, в чем должен упрекать себя?
Когда он впервые рассказал мне о своем нападении на мать – которое, как он считает, через несколько дней привело к ее гибели, – у меня сразу же появилась мысль о том, что, нападая на мать, Рихард в тот момент нападал на себя – неуспешного, беспомощного, униженного, никому не нужного, растерянного, неспособного понять, как выжить в ужасном мире: именно эти свойства его матери совпадали с его собственными.
Его мать проживала жизнь в состоянии постоянной подавленности, в спрятанном от самой себя отчаянии, и это отчаяние она передала Рихарду как главную наследственную ценность.
Можно предположить, что когда в тот вечер мама Рихарда увидела себя глазами сына, она вынуждена была признать правоту его беспощадного взгляда. Он сказал вслух то, в чем она боялась себе признаться и от чего много лет убегала. Слова сына заставили ее ощутить всю глубину своего жизненного банкротства, всю накопившуюся усталость от жизни и ее полную бессмысленность. В этом переживании она оказалась совершенно одна – единственное родное существо – ее сын – излучал лишь холод, ненависть и презрение. Возможно, это и привело ее к самоубийству.
Теперь и Рихард увидел себя глазами недавнего таинственного гостя, которого он так необдуманно зазвал к себе в комнату. И хотя гость, по словам Рихарда, в комнату так и не вошел, мысленный взгляд гостя заставил Рихарда ощутить себя полным ничтожеством и черной плесенью.
В отличие от матери, Рихард, ощутив себя черной плесенью, вовсе не пал духом и не полез на чердак вешаться. Он возненавидел плесень и дал ей бой – попытался оттереть ее со стены. Он испытал стремление изменить свою жизнь, а потом, на следующий день, даже пошел куда-то – я не знаю, куда именно, потому что Рихард вдруг осекся и не стал ничего рассказывать дальше; но я понял, что это было какое-то ведомство в центре города.
То, что в минуту отчаяния его понесло не на чердак, это было, конечно, с его стороны очень любезно – во-первых, никто наверху не шуршал и не скрипел досками над моим потолком, а побелка, как в прошлый раз, не сыпалась мне в тарелку. Кстати, в Берлине много чердаков, и среди них есть намного удобнее, чем мой: надо при случае сказать ему об этом.
Я злой? Да. Почему? Не знаю.
Во-вторых, изменение маршрута – вместо чердака в сторону ведомства в центре города – я мог с удовольствием приписать эффекту от терапии: это давало мне возможность подкрепить профессиональную самооценку и раздуться от гордости.
Впрочем, укрепление самооценки снова стало бы решением моих личных проблем за счет пациента, ведь там, в голове у Рихарда, полный туман, растерянность и отчаяние, и было бы очень недостойно профессионала-психоаналитика вылавливать из этого тумана выгодные для себя интерпретации.
Главным оставалось то, что в минуту отчаяния Рихард нарушил межпоколенческую инструкцию, спущенную ему матерью путем ее личного примера. Но это могло произойти просто в силу возраста Рихарда.
Посмотрел бы я на него, если бы неутешительный итог его жизни был бы предъявлен ему не в семнадцать-восемнадцать-девятнадцать, а в приблизительном возрасте его матери, когда итог – это действительно итог, и когда реальный взгляд на вещи лишает мир волшебства и очарования, а живущего в таком мире человека – всякой надежды. Кому он нужен, этот реальный взгляд на вещи?
Особенно зачем он, например, матери Рихарда? Она уже десятки лет билась лбом в запертые ворота, не видя, что по сторонам от ворот их можно обойти по просторному дикому полю, цветущему всеми цветами мира…
Она могла бы увидеть возможность обойти эти ворота, если бы сошла с тропинки, протоптанной к ним предыдущими поколениями, но если родители и предки посвятили свои жизни долбежке лбами в эти ворота, трудно не поддаться вековой традиции – трудно думать головой в тот момент, когда она непрерывно долбится в ворота.
Наверное, все это напрямую касалось меня и моих родителей, но мне некогда было думать об этом – я работал с пациентом и должен был сосредоточиться наконец на его проблемах, а не на собственных.
– Но как мне изменить жизнь? – растерянно сказал Рихард. – У меня нет ни денег, ни влиятельных родственников.
Я молчал, хотя он продолжал ждать моего ответа. Психоаналитику полезно иногда помолчать – в тишине возникают голоса внутри самого пациента, и часто они делают свою работу ювелирнее, чем кто-то посторонний.
А во-вторых, что я мог сказать? Я даже не знал, как изменить мою собственную жизнь! Интуиция подсказывала, что мне надо прямо сейчас прервать сессию с Рихардом, оборвать его на полуслове, извиниться и поскорее отправить его домой. А самому немедленно хватать Рахель и Аиду, мчаться с ними на вокзал, садиться в любой поезд и ехать в любой конец света, лишь бы этот конец был подальше от Германии.
Куда? Например, в Эквадор. Есть такая прекрасная страна в Южной Америке. Туда не ведут рельсы, но можно добраться на корабле. Там есть, наверное, поля, которые можно возделывать, выращивая себе пропитание. Эти поля, должно быть, настолько волшебны и настолько цветущи всеми цветами мира, что вполне могут являться как раз теми самыми полями из нарисованной мною картинки с воротами. Можно завести скот, ухаживать за ним, получать молоко и мясо. Есть также куры, они несут яйца.
Ах, Эквадор, я туда еще не эмигрировал, но я уже сейчас вижу его закаты. Я сделаю прекрасное хозяйство, я вполне на это способен, у меня будут выживать только коровы с большим выменем и только те куры, которые будут нестись каждый час. А рыбы у меня будут с ручками. И это обеспечит конкурентное преимущество по сравнению с другими рыботорговцами.
Но для создания подобного рая от меня требовалось оставить пациентов и работу в Германии. Вообще-то, для меня это означало смерть – нисколько не менее реальную, чем смерть болтающегося в петле Рихарда.
Он придумал себе смерть на чердаке, а я придумал ее в Эквадоре. Нет, на данный момент я был смертельно привязан к Германии: дерево проросло сквозь забор.
Я отдавал себе отчет в том, что существует реальная перспектива заплатить за мою привязанность к Германии жизнями Рахели, Аиды и моей собственной. Эта мысль была настолько ужасной, что я просто отталкивал ее, убеждая себя в том, что будущее находится в тумане и никто ничего не знает.
Будущего для меня как будто не было вообще – я жил сегодняшним, и это было похоже на то, что рассказывал о своем детстве Тео: как папа однажды решил наказать его за бесчувствие по отношению к умершей на пляже старушке, но перенес это наказание на вечер, и маленький Тео успокоился – сейчас ведь не вечер.
Я, доктор Циммерманн, был точно так же уверен, что некий папа ради блага великой Германии не накажет меня вечером – сейчас ведь еще день, светит солнце, на небе нет ни тучки, так что никакого вечера нисколько не предвидится и никакого захода солнца синоптики не обещают.
Разумеется, эта картина была далека от реальности. Какой-то частью себя я прекрасно видел будущее. Но я не хотел об этом думать. Вот почему мне было гораздо легче вмешаться умными советами в жизнь Рихарда, чем своими действиями – в жизнь собственную.
– Вы ничего мне не скажете?.. – спросил Рихард.
Я очнулся. Мысли совсем отключились от настоящего, и я не понимал, сколько времени Рихард просидел в ожидании ответа.
– Однажды я шел с работы… – продолжил Рихард. – Рабочие несли трубу. Они были такие важные, хмурые, серьезные. По ним сразу было видно, что в их жизни есть смысл. Трубе надлежит быть там. И есть важные люди, которые несут ее туда. Если их не будет, труба не будет там. И тогда человеческие нечистоты не устремятся по этой трубе в Мировой океан. Человечество захлебнется и погибнет. А я что?.. Зачем я?.. Кто погибнет, если меня не станет? Никто даже не заметит, что меня нет!..
Я молчал. В этот момент я вдруг увидел Рихарда совсем другими глазами. Рихард – один из моих пациентов. То есть он как раз и есть тот, кто намертво привязывает меня к Германии. Он и есть один из прутьев забора, проникшего в толщу моего дерева. Из-за этого вот конкретного человека я не могу немедленно увезти отсюда Рахель и Аиду. Вот я слушаю сейчас его бред, его рассуждения про какую-то трубу, про каких-то рабочих, но какое мое дело?..
– Этот рабочий, который нес трубу, вечером приходит домой с работы, – увлеченно продолжал Рихард. – И с полным правом ест суровую пищу, которую ставит ему жена…
Рихард был настолько возбужден своими фантазиями, что даже вскочил с кресла. Он стал прохаживаться по комнате, его глаза горели, лицо покраснело и отражало волнение, он без конца разминал пальцы и потирал руки.
– После еды он с полным правом идет в туалет, – продолжал Рихард. – Хмуро тужится и с полным правом производит нечистоты, которые отправляются в ту самую трубу, которую он сегодня установил… И труба, и рабочий, и полицейский – все это одна большая система нечистот. Она кипит и булькает, а я в этой системе кто?.. Никто, я лишний!
Рихард замолчал. Он смотрел на меня, ожидая, видимо, опровержения или подтверждения того, что он лишний. Но я молчал.
– Я, разумеется, тоже произвожу нечистоты… – сказал Рихард уже спокойнее. – Куда деваться… Но какое право я имею гадить в систему, не будучи ее частью?..
Рихард в отчаянии смотрел на меня: казалось, он хотел, чтобы я подтвердил или опроверг его право гадить в систему, в которую он не имел права гадить. Но я продолжал молчать: в моей голове кукарекали оранжевые эквадорские петухи в закатном солнце.
– Когда я шел к вам на самую первую встречу, по улице проехала открытая машина… – печально сказал Рихард. – В ней были пацаны и девчонки. Моего возраста… Красивые… Смеялись… Вот для кого жизнь.
Рихард с тоской посмотрел в окно.
– Вон, птичка сидит на дереве… Вам видно? – тихо спросил он.
Я посмотрел в окно и увидел птичку, которую он имел в виду. У нее была красная голова.
– Вот для кого жизнь… – сказал Рихард. В его глазах блеснули слезы.
Эта встреча давалась мне тяжело. Я никак не мог сосредоточиться на том, как ему помочь. Получалось, что он изо всех сил отчаянно стремится влиться в окружающий мир, чтобы любым способом стать его частью. Не быть одному. Не жить в пустоте и холоде. Осмыслению этого в данный момент мешала моя личная проблема, которая выглядела обратной, – как мне вырваться из мира? Как оторваться от рутины и уехать, чтобы спасти себя и семью?
Мы с Рихардом стремились к противоположному: он – влиться, а я – вырваться. Но что меня держит? Если представить, что завтра утром я вдруг исчез – умер, оказался арестован, уехал в Эквадор, – жизнь моих пациентов не остановится ни на минуту, она продолжит течь своим чередом.
Они будут продолжать каждое утро ходить за хлебом, а вечером перед сном справлять нужду и ложиться спать. Ни Рихард, ни Тео, ни даже фрау Зальцер, для которой вопрос жизни и смерти – каждый четверг подробно рассказать мне о своих снах, – никто из них не умрет оттого, что я исчез. Фрау Зальцер уж точно не бросится вслед за мной в Эквадор, объятая ужасом, что ее сны остались никому не рассказанными…
Получается, что никому я в действительности не нужен? Получается, что я сам держусь за всех?.. А если это так, тогда чем моя ситуация отличается от ситуации Рихарда?
Он пытается стать кому-то нужным, ищет возможности достичь этого любой ценой, потому что боится, что его одиночество снова приведет его на чердак. Желательно на такой, где скрип стропил услышит весь дом. Ведь если не хочешь, чтобы тебя услышали, можно и в лесу повеситься?..
В отличие от Рихарда, я кому-то нужен – люди приходят на прием и платят деньги. Но что это меняет? Мы оба боимся одиночества – каждый своего. Тогда на каком основании один пришел к другому лечиться?
Жаль, что в тот момент у меня не было возможности прийти к какому-то решению: передо мной сидел пациент, и я обязан был решать его проблемы, а не собственные.
Все описанные здесь мысли пронеслись в моей голове быстро и смутно – словно в тумане, их даже нельзя было назвать мыслями – просто ощущения, они остались неосознанными. Они не были так старательно сформулированы, как сейчас, когда я пишу эту книгу – в обстановке покоя, в тишине и с бездной свободного времени: как у каждого, кто на том свете.
В тот момент я еще не осознавал драматизма своей внутренней ситуации. Если бы я осознал ее, я бы прекратил терапию с Рихардом немедленно – нельзя помочь пациенту, не разобравшись с собственной подобной проблемой. А если это действительно невозможно и терапия с Рихардом действительно бессмысленна, почему бы тогда не собрать всю семью и не рвануть на вокзал прямо сейчас?
Позже, в свободную минуту, мне предстояла попытка разобраться еще в одном вопросе: почему во время сессий именно с этим пациентом я довольно часто забываю о нем и незаметно скатываюсь в самоанализ? Почему этого не происходит во время работы с другими? Связано ли это с тем, что терапия для него бесплатна? Позволил бы я себе то же самое с платным пациентом или этот фактор не имел достаточного значения? У меня не было однозначного ответа на этот вопрос.
– Вам не кажется, что всегда есть какие-то возможности, которые мы по разным причинам запрещаем себе увидеть? – спросил я Рихарда.
– Какие? Мой отец? Да, он влиятельный человек. Но я не пойду к нему.
– Почему?
– Мама его ненавидела. Мы с ним не общались.
– Может, стоит пообщаться?
– Вы предлагаете мне предательство?
– Иногда имеет смысл думать о своих интересах, а не о чужих чувствах, – сказал я.
Рихард удивленно посмотрел на меня. Видно было, что он чуть не задохнулся от моей наглости. Он заметно растерялся и некоторое время никак не мог найти слов. Но наша эпоха снова пришла ему на помощь.
– Да, это очень по-еврейски, – сказал Рихард. – Фюрер правильно говорит о вашей безнравственности. Это же моя мама. Близкий мне, родной человек. Она умерла. По моей вине, между прочим. А вы предлагаете мне предать ее?..
– Но в ваши цели не входит причинить маме боль. Вы просто хотите сделать в своей жизни новый шаг вперед.
– Я уже сказал вам – я не пойду к нему. Вы его не знаете. Он подлец и подонок.
– Так считала мама? – спросил я.
Рихард молчал.
– Преданность маме – не в том, чтобы думать как она, – сказал я.
Рихард выглядел так, как будто я дал ему по голове портретом Вундта.
– Не все, кого вы собираетесь использовать для достижения своих целей, обязаны быть ангелами, – мягко сказал я, мысленно нанеся этим же предметом второй удар по его голове.
Но Рихард на этот раз нашел в себе силы не отправиться в нокаут.
– Это тоже очень по-еврейски, – встрепенулся он. – Пачкаться общением со всяким говном и оправдывать это необходимостью достижения своих целей! Я понимаю ваш интерес. Вы хотите, чтобы я разбогател и смог платить вам за терапию. Но я не всеяден. Святые вещи для меня есть. Например, мать. Я не предам ее. Вы даже не понимаете, что своим предложением только что оскорбили меня. Оскорбили ее память. Вы ужаснули меня своим истинным лицом.
Я предположил, что позиция морального превосходства стала для Рихарда наиболее эффективной защитой, помогающей спрятать от самого себя истинный мотив неприятия обращения к отцу – страх, что Рихард будет им отвергнут.
Поймав себя на этой мысли, я обрадовался ей и неосторожно усмехнулся. Это было самой настоящей ошибкой – непростительной и глупой. Ее уже невозможно исправить: Рихард истолковал мою усмешку по-своему. Он решительно встал с кресла и сказал:
– Вот что – сегодня мы встречались в последний раз: вы подбиваете меня на плохое, и я не буду продолжать с вами встречи.
Рихард вышел из кабинета.
* * *
Уход Рихарда оказался не последней неудачей этого дня. После полудня я неторопливо шел по аллее городского парка. Увидев продавца газированной воды, я остановился и подал ему деньги.
– Простую или с ноткой лимона? – спросил продавец.
Я задумался. Нотка лимона – несколько капель лимонного сока. Меня это заинтриговало, и я решил попросить с ноткой лимона. Но не успел: кто-то схватил меня сзади за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял Тео. Он был взволнован.
– Хорошо, что я вас встретил! – воскликнул он.
– Что-то случилось? – спросил я.
После вторжения в их номер в гамбургской гостинице оба были арестованы, но Курт остался в тюрьме, а Тео вскоре выпустили. Он вернулся в Берлин, и сейчас, когда он заметил меня гуляющим в парке, мы с ним виделись с тех пор впервые. О том, что с ними произошло в Гамбурге, я в этот момент еще не знал.
– К нам с Куртом ворвались юнцы из молодежного крыла СС! – в волнении выкрикнул Тео мне в лицо. – Теперь нас ждет уголовное преследование! Представляю, что будет, когда узнает отец! Его репутация! Это разрушит его карьеру! Он перестанет давать мне деньги! Меня посадят в тюрьму!
– Вы все еще думаете об отъезде? – спросил я.
– Вы считаете, что это выход? – в негодовании воскликнул Тео. – Зачем вы меня в это втянули? Зачем я вас послушал? Кто дал вам право так играть судьбами людей?
Тео в злобе замахнулся и ударил меня по лицу. Это было настолько неожиданно, что мне и в голову не пришло закрыться. Круглые очки, которыми я очень дорожил, слетели и упали на дорожку, по которой уже катилась моя шляпа. Тео повернулся и в волнении пошел прочь. Его трясло. Я в растерянности продолжал стоять на месте, пытаясь справиться с удивлением и шоком. Меня ни разу еще не бил никто из моих пациентов. Этот случай был первым. Ну и последним – если не считать случая, когда меня потом избил Рихард.
Я поднял с земли очки и шляпу, отряхнул их от пыли и обратил внимание, что растерянный продавец газированной воды продолжает на меня смотреть.
– С ноткой лимона, – сказал я.
Аида
Я шла по улице со скрипичным футляром в руке. Это была самая окраина города – за домами виднелось поле, а за ним лес. Откуда-то слышалось кудахтанье кур, навстречу проехала повозка, запряженная лошадью. Мне было жаль расставаться с любимой учительницей музыки и жаль, что больше не будет ее уроков, которые я так любила, но делать нечего – она решила уехать, и уже сегодня мы занимались, сидя на коробках, а сразу после занятия вошли рабочие и унесли пианино. Когда рабочие вышли, она обняла меня, и мы поплакали. Сейчас, на улице, мои глаза тоже слезились, но, я думаю, что это от дыма – где-то, наверное, что-то горело: пахло паленым, дым стелился по улице, вперед со звоном проехала пожарная машина, послышались крики людей.
Когда я подошла к пожару ближе, то увидела, что горит одноэтажный жилой дом. Где-то близко я услышала жалобное блеяние. Посмотрела за забор и увидела деревянную стену хлева. Дальняя часть стены уже горела. Я бросилась к двери, сбросила перекладину, попыталась открыть дверь, но она не поддалась. Я увидела, что нижний край двери врос в землю – наверное, ее давно не открывали: в хлев, видимо, входили с другой стороны. С огромным трудом я смогла приподнять дверь, она оторвалась вместе с землей, открылась… На меня сразу же повалил дым, и вместе с ним вывалился человек с овцой в руках – он был весь в копоти, кашлял, задыхался. Вслед за ним выбежали несколько ягнят.
Оказавшись на воле, человек в раздражении отбросил спасенную овцу и со стоном опустил голову в бочку с дождевой водой. Я бросилась к бочке и помогла ему промыть глаза. Он стонал и приговаривал:
– О, мои глаза! Глаза!
Наконец он поднял голову, и я увидела, что это Рихард. Я рассмеялась – Рихард возникал везде, где был огонь: и здесь, и около нашего камина. Теперь я понимала, что делать, если вдруг захочется увидеть его, – надо просто развести костер, смотреть на огонь и ждать. Эта мысль меня развеселила. Я в тот момент еще не знала, что это мое наблюдение – не просто веселая шутка: через какое-то время в дыму будет все небо, а также земля, но огня уже не будет, потому что все к тому моменту уже сгорит. Я буду ждать, чтобы из этого дыма вышел Рихард, живой и здоровый, и шансов на то, что он выйдет живым, с каждой минутой будет все меньше…
После погружения в бочку его красные глаза слезились, он безостановочно тер их кулаками – как дитя, которое хочет спать.
– Не три глаза, ты же не ребенок! – весело крикнула я.
Он впервые посмотрел на меня и понял, кто рядом.
– Аида?.. О боже, какая адская боль! Зачем я только полез туда?
– Ты спас овечку! – радостно сказала я.
– Лучше бы она сдохла, – сказал Рихард.
Позади послышался сильный треск, мы отбежали, и крыша сарая вдруг рухнула. Взлетел сноп искр, из-под упавшей крыши вырвалось пламя.
– Вот, видишь? Ты мог умереть! – сказала я.
– Невелика потеря, – сказал Рихард, вернулся к бочке и продолжил промывать глаза.
Мне было радостно, что он рядом.
– Ты перестал приходить к нам… – сказала я. – Почему?
– Я больше не приду, – ответил он. – Отец разве не сказал тебе?
– Он не рассказывает о пациентах.
– Ну и правильно. Кто они такие? Чего о них говорить?
– Он закончил с тобой работу?
– Нет.
– Тогда почему вы не встречаетесь?
– Просто… – Рихард замялся. – Твой отец… Он стал мне неприятен.
Я растерялась. Мой папа? Неприятен? Как он может быть неприятен?
– Почему? – спросила я.
– Наверное, дочери лучше не слышать об отце таких слов…
Я поняла, что между ними произошло что-то серьезное, и Рихард не хочет об этом рассказывать. Но вместе с тем я была уверена, что ничего серьезного быть не может – он просто сделал из мухи слона, и теперь я хотела убедиться в своей правоте.
– Я хочу знать правду, – сказала я.
– Ну что ж, ты сама напросилась… – сказал Рихард.
Мне на мгновение стало страшно – столько холода и злости мелькнуло в его глазах. Если мой папа действительно ужасен, почему бы Рихарду не посочувствовать мне? Ведь это так больно – услышать что-то плохое о своем отце. Почему в глазах Рихарда были только злоба, холод и месть, причем направленные именно на меня?..
– Для него нет ничего святого, – сказал Рихард. – Он подбивал меня предать мать… Он не понимает, что нельзя жить без принципов… Ведь когда-нибудь точно так же предадут и его самого…
Я открыла рот от удивления. Я была потрясена и взволнована. Этот человек считает возможным судить моего папу? Что-то говорить о каких-то принципах? В то время как папа тратит свое время на бесплатную работу с ним?
– Никто так не говорил про папу… – пробормотала я.
– Я тоже не должен был… Зачем зря расстраивать?
Мне удалось сдержать возмущение и немного овладеть собой.
– Все это неправда, – сказала я. – Ты не можешь так говорить о нем. В ту ночь он спас тебе жизнь.
– Тебе и это известно? – зло усмехнулся Рихард. – Еще остались в этом городе люди, которым он не рассказал о своем благородном поступке?
– Он ничего мне не рассказывал, – сказала я. – Мне по секрету рассказала мама. Якобы я ничего не знаю, понятно?
– Я не просил его меня спасать. Он вмешался не в свое дело. Зачем он всегда лезет в чужое? Хочет, чтобы потом ему были благодарны до гробовой доски? Восхваляли и считали ангелом? Ты что, не видишь, как он раздулся от собственного благородства? Ну да, ты и не можешь этого видеть – ты же его дочь.
Волна гнева ударила мне в голову. Мне стало жарко, в глазах потемнело.
– Ты не смеешь так говорить о моем отце, – сказала я. – Я не потерплю этого.
– Ну конечно, – Рихард зло усмехнулся. – Вы все – одного поля ягода.
– Я больше не буду с тобой встречаться, – в волнении сказала я, повернулась и ушла.
Я брела по улице, из глаз текли слезы, и я думала о том, какой сегодня ужасный день: уезжает учительница; увезли пианино. Теперь Рихард. Я оглянулась – надеялась, что он прямо сейчас одумается, догонит, извинится. Это ведь просто дым ударил ему в голову и затуманил мозг. Мозгу ведь нужен кислород, а в сарае кислорода не было, только едкий дым – он обжигал Рихарду глаза, проникал в дыхательные пути, вот Рихард и свихнулся…
Но потом поняла, что я просто дура. Даже если Рихард не прав, он никогда не побежит извиняться. Если он когда-нибудь догонит меня, то только для того, чтобы сделать еще больнее.
Когда я немного успокоилась, в голову пришла ясная и спокойная мысль: с Рихардом надо заканчивать. Мне даже стало казаться, что мысль эта в моей голове была вовсе не новой – она давно уже сидела под запретом, день за днем ожидая минуты, когда ей дадут высказаться. И вот эта минута пришла. Зачем мне Рихард? Зачем эта черная яма, которая только втягивает в себя любую радость и пьет из меня энергию, не давая ничего взамен? Я вдруг поняла, что решение порвать с ним – самое правильное, что может быть. К сожалению, эта мысль, при всей ее несомненной правоте и резонности, не принесла никакого облегчения – она привела лишь к новым слезам и новому ужасному чувству горя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?