Текст книги "Кроха"
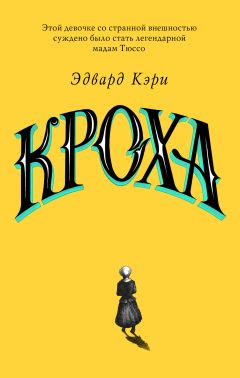
Автор книги: Эдвард Кэри
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава четырнадцатая
Два Эдмона на кухне
Стоя на кухонном табурете, я сдирала шкуру с кролика и, наверное, была очень сосредоточена, потому как внезапно услыхала шорох. И поняла, что не одна. За моей спиной стоял сын вдовы: он долго смотрел на меня, пока я не оглянулась.
– Не трогай! – произнесла я на его родном языке. И после паузы добавила: – Благодарю!
И заметила, как его уши тотчас покраснели. У него были, теперь я должна сказать, самые выразительные уши, какие я только видела в жизни. Его лицо всегда оставалось бледным, на нем ни один мускул никогда не дрожал, а вот уши багровели. Помолчав, мальчик едва заметно кивнул, словно долго обдумывал нечто очень серьезное и наконец пришел к какому-то выводу. Он сунул руку в карман, порылся там и выудил истрепанную куклу, сшитую из холстины.

– Эдмон, – произнес он, ткнув пальцем в куклу.
– Эдмон? – переспросила я, указав на куклу.
– Эдмон, – повторил он.
– Эдмон? Эдмон и Эдмон?
Он кивнул. Мальчик назвал холщовую куклу в свою честь. И кукла эта, как я заметила, была близкой родственницей портновского манекена, изготовленного в виде покойника-портного. Ага, значит, в мрачном доме Пико семейные типажи имели свои дубликаты. То есть тут обитала семья во плоти, но еще и вторая семейка – из холстины. Поначалу это холщовое семейство оставалось незаметным. Холщовые люди держались особняком, не бросаясь в глаза, сбившись в угрюмое печальное племя. Но со временем их грубый материал заявлял о себе, становился явственным, проступал сквозь небрежно очерченные человеческие формы едва слышными вздохами. Холщовые люди заполняли пустое пространство. Человеческие чувства, сшитые из лоскутков, надежды, таящиеся в полумраке. Мне показали холщовую копию Эдмона – сына портновского манекена. Я молча смотрела на куклу.
Потом, подумав, вымыла руки, после чего аккуратно вынула свою.
– Марта, – представила я ее Эдмону. Эдмон уже видел ее раньше, но не знал, как ее зовут.
Я положила Марту на стол. А он бережно положил рядом Эдмона. Кукольный Эдмон был сшит из десятка или дюжины разных кусочков холстины, в основном серого цвета, туго обернутых толстыми нитками, так, чтобы холщовое тело не развалилось. Его туловище состояло из вырезанных или вырванных кусков ткани, и я так и не поняла, где у него руки и ноги. Куклу много раз ремонтировали, судя по множеству ниток и новых лоскутков, прилатанных поверх старых. Миниатюрный холщовый мальчик, хранитель домашних секретов, крошечный человек, о ком надо беспокоиться и с кем можно шепотом беседовать. Мы сидели за кухонным столом, я глядела на кукольного Эдмона, а живой Эдмон смотрел на мою Марту, и так продолжалось до тех пор, пока живой Эдмон не вернул кукольного Эдмона в карман, встал и, ни слова не говоря, вышел за дверь. Я осознала всю важность этой встречи. Он полностью открылся мне единственным доступным ему способом: с помощью влажной и мятой холщовой куклы. Это был первый визит Эдмона на кухню.
Потом всякий раз, когда его мать уходила из дома, бледноликий молчун навещал меня. Эдмон приносил с собой пуговицы, чтобы чем-то занять себя, выстраивая их в шеренги на своей коленке. Поначалу он не произносил ни звука. Я пыталась его нарисовать, но как только карандаш касался бумаги, чтобы по своему обыкновению начать портрет с носа, я смущалась, потому как в его носе не было ничего примечательного, как и в глазах, да и в губах, – только в его ушах, когда они краснели, было нечто особенное.

Сначала я опасалась, что в холщовом дубликате индивидуальность выражена лучше, чем в живом мальчике. Но чем больше я на нем концентрировалась, тем больше проявлялся его характер – так жук-точильщик появляется лишь после того, как разлетятся все остальные насекомые, кружившие над трупом, а ты остаешься в одиночестве на ночное бдение. Однажды я ухватила его скрытый характер, поймала-таки его карандашом, а потом уж разглядела очень отчетливо – словно он был загадкой, которую я сумела разгадать.
У Эдмона были пухлые губы, зеленые глаза, не вполне симметричные ноздри, около переносицы виднелись веснушки, а под затылком на шее – небольшая родинка. Я принималась рисовать его несколько раз, пока он к этому не привык. А через какое-то время, если я его не рисовала, он, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке.

В те дни я еще пребывала в тумане иноземца, как называл это состояние месье Мерсье, и это означало, что я существую, но как бы не вполне. Я мало что понимала помимо тех немногих слов, которые вдова вбила мне в память. А потом, когда она уходила с моим наставником по делам, у меня появился новый ментор. Стоило Эдмону зачастить ко мне на кухню, как я решила, что ему будет тут чем заняться – не все же доставать своего холщового двойника и раскладывать пуговицы на коленках. Я взяла тряпку – этому слову меня обучила вдова – и показала ему.
– Тряпка, – произнесла я по-французски. – Тряпка, тряпка.
Эдмон ничего не ответил.
Я указала на окно.
– Окно, – произнесла я. Потом указала на куриную тушку, висящую на крючке.
– Курица, – сказала я. – Курица.
Эдмон ничего не ответил.
Я указала на пуговицу в его ладони. Ткнула в нее пальцем. И снова ткнула.
Наконец он спросил на своем языке:
– Пуговица?
– Пу-го-ви-ца! – ответила я.
Только после слов «сорочка», «воротник» и «волосы» он наконец сообразил, что от него требуется: учить меня французским словам. Мы отправились в портняжное ателье, которое, совсем заброшенное его матерью, стало теперь его владением. Я указывала на тот или иной предмет, а он называл его по-французски, и я должна была запоминать, а он в следующий раз устраивал мне экзамен. Он очень серьезно подошел к этому делу. Когда я ошибалась, его невыразительное лицо досадливо искажалось, но он никогда не повышал голос. Он всегда был со мной тих и вежлив.
Я овладевала французским с помощью языка портных. Точно так же, как мой наставник показывал мне разные приемы своего ремесла, так и Эдмон учил меня тому, что сам знал. Моими первыми французскими словами были не «кошка» и «мышка», а «нитка», «ножницы» и «катушка». Я знала, как сказать «вставка-клин» прежде, чем выучила «спокойной ночи», «мешковина» – раньше, чем «здравствуйте», «ситец» – до «привет», «наперсток» – до «псалтырь». Я знала, что такое craquette и poinçon, marquoir и poussoir, mesure de colette и mesure de la veste[3]3
Пробойник для петлиц, прямое шило, изогнутое шило, распарыватель швов, размер воротника и размер сюртука (франц.).
[Закрыть]. Я окунулась в водоворот таких слов. Самым главным предметом в жизни Эдмона, помимо холщового Эдмона, была его измерительная лента – длинная тонкая полоска кожи с крупными и мелкими насечками на боку. В ателье имелись и другие приспособления для снятия мерок – например, длинные деревянные рейки с цифрами сбоку, но лента была собственностью Эдмона: он повязывал ее на талию, когда не пользовался. Эдмон снимал с меня мерки. Через много месяцев после начала наших тайных уроков французского мне уже было недостаточно уметь говорить: «Меня зовут Мари», – теперь мне надо было сказать: «Меня зовут Мари, мои плечи два с четвертью дюйма шириной, а шея – семь дюймов и полчетверти, руки от подмышки до обшлага рукава пятнадцать дюймов и одна треть, длина моей ноги – шестнадцать и одна седьмая, а окружность талии – семь дюймов и одна треть». К тому времени, как с помощью Эдмона я узнала свои размеры, я уже понимала большей частью все, что он мне говорил. Позже я требовала от Эдмона большего. Мне хотелось читать книги, хрестоматии, чтобы они мне помогали учить язык. Я не желала ограничивать себя портняжным словарем. Благодаря наставничеству Эдмона мой французский прогрессировал. Я быстро догнала моего наставника, опередившего меня в овладении французским, а вскоре уже и обогнала его, ибо вдова порой останавливала меня и вопрошала: «Откуда ты знаешь это слово? Я тебя этому не учила!»
Стоя перед магазинными манекенами в передней, Эдмон обратился ко мне в свойственной ему манере – тихо и вкрадчиво, со множеством подробностей:
– Позволь я покажу тебе наши витринные манекены. Мы продаем их магазинам на рю Сент-Онорэ, штук по пять в год. Некоторые мужские, некоторые женские, вот они, рассмотри их внимательно. У них одинаковые лица и одинаковые выражения, вот видишь, независимо от их пола. Они различаются только тем, что одни сидят, а другие стоят, у одних есть грудь, а другие слегка шире в бедрах. Больше тех, кто стоит, чем тех, кто сидит. И всех их сделали по образцу моей фигуры, ты заметила? С меня сняли мерки и на их основе сделали манекены: и женские, и мужские. Это была идея маман, ей нравится, что по всей рю Сент-Онорэ я стою в разном платье. Можно сказать, все они мои братья и сестры.
Интересно, подумала я, сколько же всего в мире Эдмонов?
– Благодарю тебя, Эдмон, благодарю за то, что ты мне их показал.
– Не за что.
– Ты сегодня разговорчивый.
Я думала об Эдмоне, когда его не было рядом. Он один составлял мне компанию, больше никто.
Дни шли, и я узнавала массу нового. Я выучила слова, обозначающие части тела: руки, ноги, голову, уши, глаза. Это было легко. Но недостаточно.
– Мне нужно знать больше, – сказала я. – Мне нужно видеть уличную жизнь. Я просто изголодалась.
– Да что ты? Мы же на кухне. Тут полно еды. Я и сам проголодался.
– Это не то. Я говорю про другой голод.
– Не то? Мари, а что ты имеешь в виду?
– Я очень хочу видеть жизнь, хочу узнать обо всем! Даже тут, в этом доме, можно многое узнать. Но кажется, я уже все тут видела. Я заглянула во все шкафы, во все ящики, подняла каждую занавеску, исследовала все полки снизу доверху. И когда мне кажется, что больше тут ничего нет, когда я думаю, что уже везде все посмотрела и искать больше нечего, вдруг я нахожу нечто новое.
– Мари, ты что, опять совала свой нос куда не следует?
– Речь о тебе!
– Обо мне?
– Ты же человек!
– Ну да, а кто же еще?
– А я не знаю, как ты выглядишь! Под одеждой. Этот ящик я еще не выдвигала. Сними-ка рубашку. Я хочу тебя нарисовать.
– Тебе нельзя!
– О, прекрати! Не бойся! Я видела так много человеческих тел. В Берне. Я заглядывала внутрь тел. Давай, Эдмон, разреши мне на тебя поглядеть.
– Что ты делаешь?
– Хочу тебя раздеть.
– О нет!
– Собираюсь снять с тебя сорочку.
– Прошу, нет!
– Я все знаю про человеческие тела. Доктор Куртиус меня обучил.
– О Боже!
– Смотри, я расстегиваю пуговицы.
– Я ничего не вижу. Но чувствую.
– Я хочу изучить тебя, Эдмон Пико. Каждый участок твоего тела.
– Маман! Маман может войти!
– Ее нет дома.
– Она может вернуться.
– У нас есть время. Ты же сам знаешь.
– Мне холодно.
– Тогда подойди поближе к огню.
– Зачем ты смотришь на меня?
– Я хочу на тебя смотреть.
– Ты смотришь во все глаза.
– Можно потрогать?
– Я лучше пойду.
– Вижу твою небольшую фигуру, ребра, и жизнь под кожей бьется, пульсирует! Эдмон с настоящей человеческой кожей. Ты такой милый!
– Мари! Мари! Остановись!
– Я хочу посмотреть! Убери руки, Эдмон, я хочу на тебя посмотреть!
– Не могу! Я не могу! Это уж слишком, не гляди так на меня!
Звякнул колокольчик. Вдова и Куртиус вернулись домой. Эдмон в совершеннейшей панике торопливо натянул через голову сорочку.

– Эдмон! – позвала вдова. – Эдмон, ты где?
С трясущимися руками он помчался на ее зов.
И потом несколько дней он не появлялся на кухне. А когда все же появился под каким-то предлогом, было видно, что он ужасно смущен.
– О, ты тут! Я и не знал, что ты тут…
– А где ж мне еще быть. Обычно я нахожусь на кухне.
– Ну да, пока ты тут. И возможно, тебе лучше оставаться тут, до конца месяца. Возможно.
– Почему до конца месяца?
– Я не думаю, что ты у нас пробудешь дольше месяца. Ты не нравишься маман, а она привыкла все делать по-своему.
– О, Эдмон! Прошу тебя, Эдмон, помоги мне поладить с твоей маман. Я не хочу от вас уходить. Мне же некуда идти.
– Ты должна делать все, что она просит.
– Я буду! Я буду стараться изо всех сил!
– Тебе нельзя разбивать посуду и перекладывать вещи на другие места.
– Я буду стараться!
– И еще она говорит, что ты вечно прячешься и шпионишь!
– Я не хотела. Они должны мне заплатить, Эдмон. Мне еще ни разу не заплатили.
– И не проси об этом, Мари. Не серди их.
– Постараюсь. Это не всегда легко.
– И ты не должна снимать с меня сорочку.
– Не буду, Эдмон, больше не буду.
– Ты прислуга!
Тут я промолчала.
– Ты прислуга, а я твой самый младший хозяин в доме.
Я молчу.
– Однажды я стану портным!
Молчу.
– Однажды я буду великим портным. А ты – прислуга!
– Ты поможешь мне? – спрашиваю.
– Да, я постараюсь.
– Я хочу остаться.
– Тогда ты должна хорошо себя вести.
Я работала. Я была прислугой. Лучшей, насколько могла. Я испарилась. Я изобрела гениальную систему исчезновения, с помощью которой могла так спрятаться, что внешне меня можно было принять за прежнюю девочку, а на самом деле я стала другой. Я засунула все свои мысли и чувства глубоко в себя, и там, внутри, они пребывали в полной безопасности, но внешне я вела себя как заводной механизм. Мою пружину заводили их указания и задания, которые я выполняла механически, но безупречно. Я притихла и безропотно играла роль служанки, чтобы иметь шанс жить в этом доме. Но оставаясь одна, когда все они были далеко, я вспоминала о себе настоящей и вновь превращалась в Мари. Которая никуда не делась.
Глава пятнадцатая
Гражданин 2440 года
А сейчас я немного расскажу о больших событиях, имевших важное значение для Франции.
Потому что вдруг выяснилось, что я знакома с весьма знаменитыми людьми. Пока у нас в доме изготавливались и одевались восковые бюсты, в совершенно ином, как мне казалось, мире французский дофин женился на Марии-Антуанетте Австрийской. В Париже во время всенародных гуляний по случаю этой свадьбы не вовремя зажженный кем-то фейерверк вызвал панику, и в толпе были затоптаны насмерть сто тридцать три жителя Парижа, среди которых было немало женщин и детей. После фатальной давки Луи-Себастьян Мерсье был так взволнован и возмущен, что долго не мог успокоиться. Заполняя заметками свои записные книжки, он заметил, что через них красной нитью проходит одна тема – людских страданий. И в течение нескольких дней он никак не мог собраться с духом и пойти прогуляться по любимым улицам.
– Я теперь ненавижу этот город, Крошка, эту скотобойню, эту клоаку. Мы же самые обычные чудовища. На какие зверства мы способны!
Он долго беседовал с моим наставником и вдовой, пока та его со злобным выкриком не выгнала, и тогда он заглянул ко мне. Я его усадила, налила ему стакан вина из графина вдовы.
– Расскажите мне, – попросила я, – расскажите мне все. Да побыстрее. Пока вас не позвали назад.
И он поведал мне про раздавленные тела, крики и кровь. И что король ничего в связи с этим не предпринял. Мерсье снял башмаки и поставил на кухонный стол.
– Мои башмаки оскорблены, – объявил он.
– Я только что отдраила этот стол, – заметила я.
– Может быть, это правильно, что ты сидишь тут взаперти.
– Нет, не говорите так.
– Мир ужасен. Я не хочу в нем жить.
– Правда? Расскажите!
– Если бы только я мог бродить по просторам этой деревянной поверхности, отмытой и сияющей, по этой плоской земле, куда не ступала нога человека. Да, если бы только… но… но почему бы и нет? Да, именно так! Новый дом! Да, чистый! Да, Крошка, заставь все вокруг сиять, пустив в ход свою щетку!
Он схватил башмаки со стола и бросился вон из дома.
Мечтая о прогулках в куда более счастливом краю, Мерсье вознамерился написать путеводитель по Парижу будущего – городу без проблем, метрополису гармонии, утопии. Он хотел назвать свою новую книгу «Париж в 2440 году». Всякий раз приходя к нам в гости, он приносил исписанные листы и читал мне на кухне.
– В Париже 2440 года колеса экипажей не давят детей. Сам король частенько ходит по городу пешком, следуя правилам уличного движения, где бы он ни появлялся. На улицах нет грязи. Бедняки получают бесплатную медицинскую помощь. В 2440 году на площади, где некогда высилась жуткая крепость Бастилия Сент-Антуан, теперь возведен храм Милосердия.
В конце концов он дописал свою книгу и издал. В 1770 году многие парижане прочитали сочинение Мерсье и обнаружили, каким их город станет через шестьсот семьдесят лет. Написанная в лихорадке ярости, книга наполняла яростью своих читателей. Внезапно многие осознали, что им выпало жить в Париже не в то время: им претил 1770 год, они мечтали о 2440 годе. И Мерсье стал знаменит.
Вдова выставила в окне бюст Мерсье с табличкой, гласящей ГРАЖДАНИН 2440 ГОДА, чтобы прохожие могли останавливаться и любоваться ею. И толпы зевак, каждый день собиравшихся около ее магазина, вдохновили вдову на грандиозную задумку. Как-то днем вдова потащила Куртиуса, который едва успел подхватить свой черный мешок, к Мерсье. К вечеру они вернулись в компании с Мерсье и с новым гипсовым слепком. Вскоре слепок получил табличку ЖАН-ЖАК РУССО. Я узнала эту голову: то был Рену, мужчина в сером костюме, побывавший у нас в Берне вместе с Мерсье. В ту пору он скрывался, но потом вернулся в Париж и теперь выглядел совершенно больным. На следующей неделе все трое вновь отправились куда-то и принесли новую голову – с лицом дружелюбным и полным жизни. Голову снабдили табличкой ДЕНИ ДИДРО. После чего в доме появилась очень печальная голова, поименованная ЖАН ЛЕ РОН Д’АЛАМБЕР. Все эти люди несомненно были хорошо известны всем: я не знала, чем они прославились, но их головы явно заслуживали славы.

Три старика, по-своему размышляющие о смерти
Вдова заказала огромную вывеску, извещавшую, чьи бюсты выставлены в окне, и толпа зрителей возле дома стала еще больше. Вдова без устали кивала. Мой хозяин ей аплодировал. Вдова снова куда-то ушла из дома, на сей раз в одиночестве. Она была очень деловита.
Потом, как-то вечером Эдмон прокрался в кухню и сообщил, что я должна отнести графин вина и два стакана наверх, в комнату маман. И помог мне поставить все это на поднос.
Мой наставник сидел в спальне вдовы. Я разлила вино по стаканам. Вдова развязала свой капор, и непокорная грива каштаново-огненных волос вырвалась на волю. Куртиус несколько раз сглотнул.
– Эдмон, – распорядилась вдова, – можешь начать меня расчесывать. Анри расчесывал меня перед сном каждый вечер. После его смерти эта обязанность перешла к Эдмону. А теперь, доктор Куртиус, будьте очень внимательны. Я хочу, чтобы вы поняли. Я хочу поведать вам историю. Крошка, выйди вон!
Я вышла. Но чувствуя необычную важность происходящего тем вечером, я осталась стоять под дверью – и все слышала.
– Прошу вас, послушайте меня со вниманием. Я, Шарлотта, вдовствующая дама, хочу кое-чему обучить вас, доктор Куртиус. Мы теперь хорошо друг друга знаем, у нас общее дело, и поэтому я могу быть с вами более откровенной…
– О да, мы знаем! Друг друга!
– Эдмон, расчесывай, расчесывай! Я хочу честно рассказать вам о себе, месье, поведав историю своего дела. Я расскажу вам о своем покойном супруге.
– Да? – послышался жалобный отклик.
– Родители моего Анри Пико торговали ношеной одеждой. Так было в самом начале. У них была маленькая лавка здесь, в Фобур Сан-Марсель… Расчесывай, Эдмон, сильнее!.. Первое, что вам надо знать о лавке ношеной одежды, – это то, что внутри должен всегда стоять полумрак. Важно, чтобы покупатели не могли внимательно разглядеть товар. Это просто удивительно, какие чудеса со старой одеждой творит тусклый свет! Вы не заметите ни пятен, ни вылезших ниток, ни заплаток. Поначалу его родители меня невзлюбили, но я стояла на улице и зазывала покупателей, а по понедельникам, когда на Гревской площади открывался большой рынок старой одежды, я кричала громче всех, расхваливая свой товар, и его родители видели это и одобряли мое усердие… Расчесывай, Эдмон, не бойся!.. Мы продавали нижние сорочки, снятые с покойников, панталоны, в которых ходили уличные девки, засаленные чепчики, которые покрывали головы усохших вдов до того, как те испустили дух. Штопаные-перештопаные чулки. Старую одежду, выношенную и много раз надеванную на разные тела. Сохранилась сорочка, которая висела у нас в лавке, так она возвращалась к нам семь раз! У нее было семь разных парижских владельцев. Наши товары продолжают жить своей жизнью помимо нас.
К нам в лавку приходили люди, которые пытались карабкаться вверх по скользким ступеням общественной лестницы Парижа. Рыночная торговка могла нацепить кружевной капор вдовы адвоката. Молоденькие женщины готовы были раздеться донага в нашей лавке и чуть не подраться из-за какой-нибудь нижней юбки. Иногда по ночам, когда его родители мирно спали, мы с Анри приходили в лавку и примеряли там разное платье. Он наряжал меня как светскую даму… Заплети косу, Эдмон, да потуже! Туже!..
Через какое-то время Анри захотелось торговать только красивыми вещами. Вид поношенных холщовых чепцов его угнетал. Он мечтал одевать богатых клиентов в шелка и атлас. Родители не понимали его грез, они тормошили его, щипали, просили меня разбудить его. Но потом они умерли: одна – поскользнувшись февральским утром на скользком камне мостовой, а другой – в мае от заражения крови, полученного от пореза какой-то старой пряжкой, и их уход открыл для нас новые возможности, Анри стал портным. Но это дело, в отличие от торговли поношенной одеждой, никогда не было прибыльным.
А теперь послушайте, доктор, что я вам скажу, слушайте внимательно. Некоторые предприятия не имеют будущего и их вообще не стоило бы затевать. Другим предприятиям следует помогать, выбрав нужный момент, иначе они зачахнут. У нас есть коммерческое предприятие по изготовлению бюстов. Вы весьма умелый мастер, доктор Куртиус, это всем видно, и предприятие наше растет, и мы могли бы добиться еще больших успехов, особенно сейчас, когда у нас есть головы знаменитых людей, где-то в другом месте – не в этом тихом переулочке, а, скажем, на одном из бульваров. Мы сможем находить больше голов, особенно голов великих мира сего. Сейчас мы, вы и я, на распутье. Пико решил изменить свою жизнь, и это убило его. Но теперь мы попробуем внести перемены в свою жизнь. Мы попытаемся перескочить сразу через две ступеньки общественной лестницы. И я задаю вам вопрос: вы готовы пойти со мной?
– Да, да, готов! – ответ Куртиуса прозвучал без промедления.
– Вы будете тверды до конца и не дадите слабины?
– Буду, буду непременно. Но куда, скажите на милость, мы отправимся?
– Короче говоря, дорогой доктор, я кое-что нашла. Это большой дом, больше, пожалуй, чем нам требуется, но его можно приобрести за хорошую цену. Плату за аренду нужно уплатить вперед. Здание требует ремонта, но оно достаточно прочное. Снимавший его делец разорился, и мы можем этим воспользоваться. Только мы не пойдем его путем. Так что, доктор Куртиус, плыть или тонуть?
– Плыть, плыть!
– Эдмон, можешь надеть мне на голову мой капор!
Звякнули стаканы, и я тихонько спустилась вниз. И куда же мы отправимся? Что нас ждет на новом месте? И тут меня осенило: а меня-то возьмут? Что будет со мной? Никто даже не упомянул, что и меня возьмут, но никто и не сказал, что не возьмут, а я побоялась спросить. И я помогла им паковать вещи и вообще была очень полезной. В день, когда приехали повозки для наших вещей, я пошла следом за ними, трясясь от мысли, что меня прогонят.
Вдова и мой наставник шли первыми. За ними Эдмон. И потом я, чуть сзади. Я тоже переезжала в новый дом. Куртиус обернулся, посмотрел на меня, слегка кивнул и снова устремил взгляд на вдову. Но вдова думала о чем-то своем.
– Эта улица не была для нас удачной, Анри, – произнесла она, обращаясь к холщовому мужу на повозке. – Мы продолжаем двигаться вперед и не станем оглядываться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































