Текст книги "Истории про любовь"
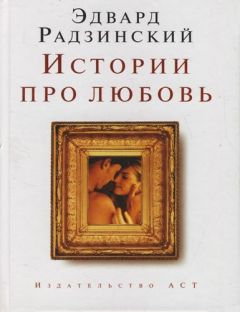
Автор книги: Эдвард Радзинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Эдвард Радзинский
Истории про любовь
Месть. Марина и Юрочка
Как живется вам с другою,
Проще ведь? – Удар весла!
Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плавучем острове…
Я вспоминал эти строки Марины Цветаевой в тот исчезнувший во времени вечер, когда шел к нему.
В те дни в журнале «Новый мир» была напечатана «Повесть о Сонечке», и телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку читать «Новый мир», звонили друг другу…
Помню, как я читал повесть – пугающее извержение любви, казавшееся столь странным в семидесятых – в пуританское, «торжественно-глухое» время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Марина (тогда еще для всех – Марина, ей шестнадцать) лежит в Коктебеле на раскаленном пляже. Там часто находили сердолики с тайным розово-голубым огнем…
И Марина кокетливо говорит поэту Волошину:
– Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.
– О нет, все будет иначе, девочка, – печально отвечает Волошин. – Ты сначала его полюбишь, потом он принесет тебе булыжник, вложит в руку, и ты скажешь: «Какой прекрасный камень!»
Это и стало странным эпиграфом к жизни Марины.
Ее любовь пугала. Мужчины боятся чрезмерности любви.
Она заблудилась в нашем опасном и скучном столетии.
В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза – как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях – о поцелуях. И восхитительное описание плача женщины, плача – священного обряда: глаза-виноградины, блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже там – в глазах-виноградинах… И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: она плакала по-моцартовски.
Божественность Плача Женщины… Божественность Женщины… «Повесть о Сонечке» – мечта о Галантном веке:
Плащ Казановы, плащ Лозэна,
Антуанетты домино…
Но все телефонные звонки, которыми обменивались в тот баснословный вечер, были связаны, увы, не с великолепием самой повести.
В повести была заключена сенсация. Я даже сказал бы – скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.
Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная – любовь из стихов Марины.
Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриса Вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании – неземная принцесса, описанная со страстью – почти подозрительной страстью…
Что же касается Юрочки – предмета Сонечкиной любви, – тут сарказм и ярость. И тоже – подозрительные…
Красавец Юрочка. Марина пишет об этом «ангельском подобии», о его росте – «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой… О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога-Юрочки… Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце… Тщетно!
– Юрочка у нас никого не любит, – говорит его старая нянечка. – Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки…
(—И себя в зеркале, – зло добавляет Марина.)
– Прохладный он у нас, – ласково говорит нянечка. Этот «прохладный Юрочка» в семидесятых годах продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране. Сколько театральных легенд было вокруг этого имени!
Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!
Но все это прошло. Давным-давно прошло… А тогда, в семидесятых, Юрочка был величественным патриархом, Главным режиссером театра имени Моссовета, лауреатом всех возможных и невозможных премий, Героем Социалистического Труда и прочее, и прочее…
Юрий Александрович Завадский.
В те дни в его театре репетировалась моя пьеса. И вот поздним вечером я шел к нему поговорить об этой пьесе.
На самом деле я шел к нему с понятным садизмом – посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому внезапно дала пощечину истлевшая женская рука.
Я пришел в тот поздний час, когда все нормальные люди спят, но «люди этого круга» только начинают жить. Он сам открыл мне дверь – очередная старая нянечка спала. Как он был хорош в проеме двери – все то же «ангельское подобие»! И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора…
Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего спросил что-то о пьесе. Я начал отвечать, но уже через три минуты понял: ему скучно.
Все это время мы оба не отрывали взгляда от журнала. И вдруг он спросил:
– Вы давно читали «Евгения Онегина»?
Я был горд ответить: знаю «Онегина» наизусть.
– Ах, – воскликнул он, – какая удача! Вы знаете его наизусть – и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио… Хотите, поиграем в небольшую игру? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»… ну скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать… А можно и наоборот – вы начинайте.
Я начал:
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем – и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил…
– Стоп! – сказал он и продолжил:
…Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень…
Потом пришла его очередь начинать. И он начал:
…А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам…
Он остановился, а я продолжал:
…А муж – в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и – снова захрапит…
И вот в этом месте – я точно помню – он усмехнулся и спросил:
– Вы любите старые письма?
Я замер.
Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом не глядя взял одно и стал читать.
С первых строчек я понял все. Только одна женщина в России была способна на словоизвержение любви. Точнее – словоизвержение ревности. Это было ее письмо – Марины!
Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи, ее «Попытку ревности». Оно обращено к другому человеку, но там то же отчаяние… Те же проклятия… Те же слова:
Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром – люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?..
Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк – крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой?..
…Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли?
Так же ли, как мне с другим?
Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны.
И какая у него была печаль… но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная – печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 1919 года, видел ее рот, видел ее всю, и знал – этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь – все исчезло!
Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?
Он ошибся. Остался журнальчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая Дон Жуана…
Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя смешная мысль заставила его вздрогнуть.
А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг сказал:
– Я очень хотел бы поставить «Горе от ума», но Чацкий слишком уж глуп. Только глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной – знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину к нему, прочь от себя… Женская вечная тяга к запретному, тяга поступать наперекор… Смешная ловушка… – Он остановился и добавил: – Но когда она уже с другим – извольте доиграть свою роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть – только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!
Он бросил письма в ящик стола и закрыл его.
– За равнодушие мстят!
Он засмеялся, встал, показывая, что встреча закончена, и проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, он вдруг спросил меня:
– Вам не приходило в голову – как Дон Жуан протягивает руку Командору?
И он показал.
Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в провале двери, свет тусклой лампочки из коридора… Как он тянул в пустоту руку и как менялось его лицо! Сначала на нем было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас – ужас смерти… Опаленное лицо с мертвыми глазами… И он захлопнул дверь.
Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал строки:
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
Конец одного стихотворения
Зина Пряхина из Кокчетава,
словно Муромец, в ГИТИС войдя,
так Некрасова басом читала,
что слетел Станиславский с гвоздя…
Зину словом никто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель…» —
ухватился декан за виски.
И пошла она, солнцем палима,
поревела в пельменной в углу,
но от жажды подмостков и грима
ухватилась в Москве за метлу.
Стала дворником Пряхина Зина,
лед арбатский долбает сплеча,
то Радзинского, то Расина
с обреченной надеждой шепча…
Зина Пряхина из Кокчетава,
помнишь – в ГИТИСе окна тряслись?
Ты Некрасова не дочитала.
Не стесняйся. Свой голос возвысь.
Ты прорвешься на сцену с Арбата
и не с черного хода, а так…
Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейхстаг?!
Евгений Евтушенко. Размышления у черного хода
Она вошла в ванную.
Съела таблетки перед зеркалом.
Запила водой из-под крана.
Потом вернулась в комнату,
легла на ковер у кровати
и стала ждать.
Это и был – конец стихотворения, Женя.
Три дня и три ночи
ее пытались спасти.
Но она правильно все рассчитала —
она работала медсестрой.
Три пачки димедрола плюс четыре пипольфена,
и девять часов до того,
как пришла с работы подруга…
А потом наступила ночь тринадцатого января,
и люди, которых она в записке
просила «никого не винить в своей смерти»,
сидели за столиками в ресторанах
и сыто и пьяно провожали Старый год,
чтобы потом, во тьме постелей,
прижавшись телами к другим телам,
благополучно доплыть до конца новогодней ночи…
А в это время ее обнаженное тело
лежало в беспощадном свете мертвецкой
и безумный голос ее подруги
орал в замерзшую трубку:
«Как она?»
И мужской голос – сумрачно и сухо:
«Такие данные не сообщаем по телефону».
Действительно!
Зачем тревожить сограждан «такими данными»?
Засекретим смерть,
и пусть у нас всегда торжествует жизнь,
как в конце твоего стихотворения, Женя…
Вчера я встретил ее
в первый раз – после ее смерти.
На дачной эстраде танцевали девочки.
Я узнал ее сразу —
она танцевала последней.
Кровавые пятна носков для аэробики,
ураган волос а-ля Пугачева…
Шаровая молния в конфетной обертке!
Балдели дачные мальчики
с теннисными ракетками, на складных велосипедах.
И голос матери, нарочито громкий:
«Будет артисткой!»
Все это происходило под Москвой,
а совсем не в Кокчетаве,
где еще верят, что «в артистки»
надо ехать в Москву
и завоевать талантом сияющую столицу,
как в конце твоего стихотворения, Женя.
Она поехала…
Вчера я встретил ее на улице.
Она только что приехала в Москву
и шла в ГИТИС,
или в «Щуку», или в «Щепку», или во МХАТ.
И это было нашим вторым свиданием
после ее смерти…
…Ковер, на котором она лежала…
Она вошла во двор
и прочла объявление:
«Абитуриентов прослушивают в тире».
Маленькая головка на теле Венеры,
точеные черты Натали Гончаровой
и волосы, перехваченные черной ленточкой…
Пушкинская красавица в хипповой диадеме!
О, как она орала в тире:
«Я – Мэрлин!.. Я – героиня
самоубийства и героина!»
Молодые режиссеры широко улыбались
и слушали стихи Вознесенского
про самоубийство Мэрлин Монро.
(О, как она им нравилась!)
И «сам» широко улыбался —
эта красавица, полная сил и здоровья,
что она знала про самоубийство?
Про самоубийство и героин?
(О, как она ему нравилась!)
«На обороте у мертвой Мэрлин…»
Она победно вышла из тира.
И жались к стенке,
стараясь не глядеть на нее,
жалкие соперницы.
«Звезда абитуриентуры» —
так ее назовут
после трех лет ее поражений,
когда она узнает, каково вглядываться
в тускло напечатанные списки принятых,
а потом кружить вокруг канцелярии
со сводящей с ума надеждой —
а вдруг пропустили?
А вдруг пропустили ее фамилию?
Такую смешную фамилию…
И режиссер, который набирал этот курс,
которому она так нравилась тогда в тире
во время отстрела юных дарований,
не объяснит ей,
что такое звонки по телефону,
сводящие с ума звонки по телефону —
звонки знакомых и родственников,
звонки сподвижников и сподвижниц по театру,
звонки из вышестоящих организаций,
звонки из нижестоящих организаций,
звонки с просьбой об элементарной человечности,
звонки с угрозами и истериками,
звонки с проклятьями и воплями…
И он положит ее смешную фамилию
на алтарь этих звонков,
как жертвоприношение
во имя того человеческого,
которое всем нам так не чуждо.
В конце концов,
на алтарь и следует положить
самое прекрасное…
А вместо нее выберут кого-то
из этой толпы «позвоночных» дурнушек,
которых сейчас она так презирает.
Возьмут некрасивую дочь красавцев родителей
(природе нужен отдых)…
О, бездарные отпрыски кумиров,
сводивших с ума в шестидесятые!
Ваши знаменитые фамилии
никогда не уйдут с нашей сцены!
И профессия актера
скоро станет у нас наследственной,
как в древней Индии…
…Ковер, на котором она лежала…
Но это все еще впереди,
а пока она идет по московским улицам —
победительница первого тура ГИТИСа,
а может, «Щепки», или «Щуки», или МХАТа.
Идет Актриса!
А всего через две недели…
Ох, как они забегают всего через две недели —
отвергнутые возлюбленные театра!
Разговоры в отчаянии:
«Сказали – есть места в Институте культуры…»
«Набирает дополнительно Воронежское училище…»
«Говорят, недобор в Ленинграде, в Эстрадном…»
И, только намаявшись,
наскитавшись по столицам и весям,
они дадут телеграммы – крики о помощи —
и, получив переводы, отъедут навсегда
в свои тихие городки…
Но отъедут слабейшие.
Актрисы останутся.
Здесь самое место выйти музыкантам,
например, из джаз-рок-ансамбля «Арсенал»,
и пусть золотая железка Алеши Козлова
сыграет нам что-нибудь
про вечную надежду
вместо того, чтобы рассказывать,
как они устроились дворничихами по жэкам,
воспитательницами по яслям,
работницами по прачечным,
нянечками по инвалидным домам и больницам —
повсюду, где дефицит в рабочей силе,
продолжая грезить (саксофон),
продолжая мечтать (бас-гитара),
как они вернутся летом в стрелковый тир,
чтобы снова и снова тщетно бросаться на шею
капризному возлюбленному – театру (синтезатор).
(И прости за безвкусные строки…)
А пока они ходят вечерами
в самодеятельные театры-студии,
где они пройдут
школу жизни настоящих актеров,
научатся курить,
отрежут косы,
и…
Скучно повторять эту банальную историю.
А те, кому совсем повезет
(совсем-совсем повезет),
познакомятся с посетившим случайно студию
настоящим режиссером.
Знаменитым настоящим режиссером.
Ах, какое это удачное знакомство:
«Он меня увидел и сразу все про меня понял…
Он сказал: «Вы – моя актриса.
Через год я буду набирать себе курс…»
Самое смешное, он это действительно сказал.
А потом ее сборы на свидание,
лучшие из туалетов ее подруг:
Маринины шерстяные носки,
Динина юбка
и ломовая кофта Насти,
которую Настя взяла поносить у Веры
из студии «У Никитских».
По дороге
она останавливается у всех афиш его театра,
она читает его фамилию,
замирая от букв его имени…
И люди рядом читают.
(Глупцы, они не знают…)
«Я у вашего дома,
я только не знаю куда,
вы забыли сказать…»
Его квартира.
Афиши, афиши, афиши его театра…
Холод и дрожь, когда раздевают,
и страх показаться неопытной…
Потом его бегство в ванную,
и вот уже (какой он старый!)
старый человек прощается с нею
осторожно и мило:
«Звони в театр, прямо в кабинет».
Но телефон не дает.
И она ходит под освещенными окнами,
где старый мальчик, наигравшись вволю,
укладывается вовремя спать.
Старый мальчик, не хуже и не лучше других,
которым не чуждо все человеческое…
А потом придет весна,
и начнется второе лето,
и они вновь войдут
в пыточные аудитории ГИТИСа,
или «Щуки», или «Щепки», или МХАТа,
и молодые режиссеры, которым велено
вынюхивать таланты для второго тура,
когда явится «сам»,
эти молодые ищейки за инквизиционным столом
все поймут наметанным глазом
по их дурно-профессиональному чтению
(занятия в студиях),
по обрезанным косам,
по потерянному румянцу…
«А вы уже поступали в театральное?»
«Нет… то есть да!»…
Вчера я увидел ее.
Она шла поступать в третий раз,
в последний свой раз.
Она шла, как хотел поэт, —
гордо шла по Арбату,
готовясь шагнуть с прекрасной улицы
прямо на сцену…
…Ковер, на котором она лежала…
Она шла и бормотала стихи —
все те же стихи о самоубийстве Мэрлин.
Она готовилась прочесть их,
как научил ее очередной возлюбленный —
знаменитый актер…
Знаменитый дерьмовый актер.
«Я – Мэрлин» – читай это с юмором.
Какая ты, к черту, Мэрлин?
Читай, как бы извиняясь, —
дескать, я ваша Мэрлин,
ибо других у вас нет…
И эту строчку:
«А вам известно, чем пахнет бисер?
Самоубийством!» – не ори, как зарезанная.
В самоубийство сейчас никто не верит.
В «Склифе» есть отделение,
там лежат «пугалки».
Это девки, которые травятся так,
чтобы их спасли.
Хотят попугать своих мужиков —
вот что такое современное самоубийство!»
И, бормоча стихи, как он учил,
она подошла к ГИТИСу,
а может, к «Щуке», или к «Щепке», или к МХАТу.
Подошла к этим вратам в рай.
Подошла, неся свою тайну —
тайну трех лет.
Эти три года…
(Рассказ подруги – нянечки
из дома инвалидов и престарелых):
«У нас, как в Ноевом ковчеге, собрались все,
кто не поступил в театральные и во ВГИК.
Массовик в доме,
чтобы как-то нас заинтересовать, бросил идею:
«Давайте пробьемся в телепередачу «Шире круг».
Подготовим самодеятельность – и пробьемся».
Что тут началось!
Все мгновенно представили,
как наши матери включают телевизор,
и на залитой светом эстраде
стоим мы!
С раннего утра, достав гитары,
мы дожидались прихода массовика.
Он пришел под вечер,
и мы начали репетировать
«Песню о Гренаде» Михаила Светлова…
И тогда вошла она!
И с нею все, о чем мы мечтали:
волосы, как у Пугачевой,
лицо из иностранного журнала
и суперфигура.
Она молча взяла гитару у остолбеневшего массовика
и запела стихи Цветаевой
своим рыдающим голосом.
Потом сказала безапелляционно,
как все, что она говорила:
«Вот что вам надо петь на ТВ!»
И пошла из зала,
а две девочки, как сомнамбулы,
молча двинулись за нею.
И я была одной из них…
Я буду подражать ей во всем,
я буду молиться на нее,
я буду верить всему, что она выдумала…
Однажды она рассказала,
что в Индии йоги знают эликсир жизни.
И когда ее тело легло под лампы мертвецкой,
я вбежала на Центральный телеграф
и умоляла перепуганную телефонистку
позвонить в Индию.
Я встала перед ней на колени,
я ползла к ней по залу,
пока вызывали милицию…
…Ковер, на котором она лежала…
Она была в нашем инвалидном доме
как бомба замедленного действия.
И наши немощные старики надели отглаженные костюмы,
и наша директорша сходила с ума от ненависти…
Наш вечер Цветаевой,
который должен был стать началом славы,
кончился тем, что уволили несчастного массовика
(письмо директорши в райком).
Но однажды…
Однажды ей стало скучно,
и она нас оставила.
Так умела оставлять только она.
Сразу!
Сразу оставила стариков, старух,
безответно влюбленного массовика…
И я ушла за нею.
А потом погибли ее родители
в автокатастрофе (так она мне рассказала),
и у нее не стало денег.
Вот когда она придумала презирать!
Презирать – и деньги, и шмотки…
Она объявила себя хиппи,
раздала все, что у нее было,
и начала новую игру.
Она ходила в самодельных брюках,
сделанных из занавески,
в бархатной блузе из обивки старого дивана,
найденного на помойке,
и в кроссовках, взятых на время
(у кого – она забыла).
Она всегда легко дарила свои вещи
и потому легко брала чужие.
А когда они ей надоедали —
дарила чужие, как свои.
Это было началом многих моих испытаний.
Я все время должна была зарабатывать деньги,
чтобы платить за эти чужие вещи…
Каким прекрасным хиппи она была!
Жаль, что хиппи быть хорошо только летом,
пока греет солнышко…
Это хипповое наше лето!
Обычно мы снимали угол
за гроши, у какой-нибудь старухи,
но в то наше нищее лето
ей надоели мои «скромные замашки».
(«Я хочу репетировать – старухи мне мешают».)
И она нашла себе отдельную квартиру,
даже целый дом!
Это могла найти только она:
дом на Софийской набережной,
предназначенный на слом.
Его тайно сдал техник-смотритель
за сорок рублей, которых у нее не было, —
их платила безумная поэтесса,
«девочка с тараканчиками»,
не прошедшая в Литинститут.
Мы познакомились с ней на Патриарших прудах —
на бульваре Мастера и Маргариты…»
Это был дом с крестами досок на окнах,
как в войну,
с оборванными обоями, висящими в квартирах,
как обгоревшая кожа,
с ночными привидениями,
с отключенным водопроводом,
с приставаниями пьяного техника-смотрителя…
Дом смотрел слепыми окнами днем,
а по ночам в нем зажигались свечи
(опять «Мастер и Маргарита»),
и девочки-мальчики крались в квартиру
по пустой лестнице,
освещенной глазами осторожных кошек.
Дом оглашался ее стонущим пением.
Звенели стаканы,
«И всю ночь подъезжали кареты…» (ее слова).
Но пришлось бросить и этот дом,
потому что наступила зима,
и она почувствовала себя в доме,
как андерсеновский утенок в замерзающем пруду.
И тогда она начала путешествовать по знакомым.
Она купила в «Детском мире» игрушечный револьвер.
Он должен был защищать ее
во время неожиданных ночевок,
во время случайных пристанищ,
которые она находила той зимой.
Ей легко было менять квартиры:
все ее имущество, кроме револьвера,
составлял череп,
который подарил ей на день рождения
нищий художник.
В него она влюбилась безумно и сразу,
объявила его Ван Гогом,
чтобы убежать от него,
когда полюбит он.
Это была беда:
она любила, пока не любили ее,
потому что только пустота
могла поглощать ее постоянное извержение —
извержение любви.
Как часто ночами,
обезумев от луны,
она набирала телефоны возлюбленных
и, задыхаясь от нежности,
объяснялась им в любви, читала стихи,
чтобы не узнать их при встрече…
В тот хипповый год и состоялся ее дебют —
дебют на большой сцене.
Однажды ночью после спектакля
у одного московского театра,
где давно были погашены огни,
собрались мальчики-девочки.
Дверь служебного входа осторожно открылась,
и ночной сторож
(мальчик, не поступивший в ГИТИС)
впустил их всех.
Это были они —
отвергнутые возлюбленные театра.
«Непоступившие братья и сестры»
прошествовали в пустой зал.
Горела дежурка на сцене —
прекрасный таинственный свет.
Она поднялась первой.
Первой – на сцену.
Потому что влюбленный мальчик-сторож
выдумал все это для нее.
В ту ночь на настоящей сцене
она читала монолог Мэрлин
и играла отрывок
из возлюбленного «Мастера и Маргариты».
На настоящей сцене
она пела свои песни,
танцевала безумные танцы —
босиком, как Айседора Дункан.
Мечта, за которой она приехала в Москву, сбылась:
состоялся ее триумф —
триумф на настоящей сцене.
В ту ночь она стала Актрисой.
Первой Актрисой несуществующего театра…
На рассвете волшебство умирает.
Мальчики-девочки подчинились правилам:
они поаплодировали друг другу
и разошлись.
На пороге театра она встретила солнце.
Потом пошла на Патриаршие —
на свою любимую скамейку,
где в Москве впервые появился Воланд.
Она сидела на скамейке
и смотрела на пруд,
где Левин в «Войне и мире» на катке увидел Китти…
(Это рассказал ей литературовед,
в которого она была влюблена целых три дня.)
Вот тогда на Патриарших она сказала:
«После такой ночи можно и умереть».
В первый раз она примерилась к смерти.
…Ковер, на котором она лежала…
Она шла по Арбату поступать
(и не поступить)
в свой последний раз.
Шла хипповая Гончарова в тряпичной диадеме,
а навстречу шла она же,
только что приехавшая в Москву.
У обеих было одно лицо.
Только у нее – слишком много румян.
Только у нее – первые складки у рта.
Только у нее – страх в глазах…
Жаль, что они не поговорили друг с другом.
Она рассказала бы той, глупой и юной,
о своем триумфе на украденной сцене
и еще о том, как она вкусила славу
в летнюю душную ночь в Крыму…
Второй рассказ подруги:
«Мы возвращались из Коктебеля.
У нас не было денег,
в Феодосию нас довезли на попутке.
Она была в восторге
и написала плакат:
«Мы – две студентки театрального.
Опоздали на поезд».
И все.
Заметьте, никаких просьб —
только факт.
А потом она встала у кинотеатра с гитарой
и запела стихи Цветаевой
своим рыдающим голосом,
счастливая, что у нее на груди красуется:
«Студентка театрального».
И люди останавливались
и слушали, как она пела.
И собралась толпа.
А потом из кинотеатра вышла тетка —
наша вечная российская баба-яга —
и стала орать, чтобы она убиралась.
Но она даже не повернулась.
Она пела.
И тогда тетка вызвала по телефону наряд.
Приехал молоденький милиционер.
Он старался быть суровым и попросил документы,
но тогда вышла другая тетка —
тоже вечная наша российская тетка —
и заорала:
«Не тронь дочек, а то я так тебя трону!»
Но милиционер был на работе:
«Почему нарушаете?»
И она ответила в своем стиле:
«Мы не нарушаем. Надеюсь, вам известно,
что в Италии это обычная картина:
человек поет, когда ему нужны деньги».
«Пройдемте в отделение», —
сказал несчастный милиционер.
«Мы можем пройти в отделение,
если нам там выдадут двадцать пять рублей
и шестьдесят копеек на дорогу».
Толпа зашумела,
и добрая тетка пошла в решительное наступление.
И тогда милиционер вдруг закричал:
«Ну, вы! Сколько вас тут сердобольных!
Неужели не найдется по полтиннику для девушек
вместо всех ваших криков?»
И пошел прочь.
И тогда кто-то положил на асфальт полотенце,
и люди начали бросать деньги,
а потом охапки сирени,
сорванной прямо с деревьев у кинотеатра.
А она все пела.
Она пела всю ночь до поезда.
И уехала, осыпанная цветами,
как и подобает Актрисе после спектакля.
Она любила цветы.
Сама их себе дарила.
Это были, пожалуй, единственные цветы,
которые подарили ей».
(Не считая тех, что положат на гроб.)
Итак, она шла по Арбату в последний раз —
в последний раз не сдать свои экзамены.
Ей обещал помочь знаменитый режиссер,
имя которого значило все в том училище.
Режиссер был стар (это она так считала,
а на самом деле он оставался ребенком).
Люди в театре совсем не стареют,
как их портреты в фойе…
Режиссер увидел ее в театре-студии
и влюбился, как обычно
(то есть пылко и на неделю).
«Ты рождена для театра —
так он сказал ей. —
Но ты пугаешь всех своими замашками.
На приемных экзаменах ты должна выглядеть
не как Мэрлин Монро,
но очень скромно, как обычная ткачиха,
как Екатерина Алексеевна Фурцева
(к сожалению, она не знала, кто это такая), —
и тогда я смогу тебе помочь!»
Но он не помог ей,
малое старое театральное дитя.
И никто так и не выяснил,
приходил ли он вообще в тот день
на приемные экзамены.
Режиссер обладал поразительным свойством:
когда от него что-то требовали,
он становился человеком-невидимкой.
А от него все время требовали:
актеры – ролей,
администрация – решений,
требовали старухи (его прежние девочки)
и девочки (его будущие старухи).
И он всем обещал.
Это было его правило – не отказывать.
Потому что он знал:
в тот момент, когда они его настигнут,
он исчезнет.
Он объяснял мне потом по телефону:
«Читала она превосходно.
Но комиссия решила, что она сумасшедшая:
в конце она вдруг сбросила туфли,
полезла на шведскую стенку
и оттуда кричала финал стихотворения
про Мэрлин Монро.
И они так испугались —
я говорю о приемной комиссии…»
И он задохнулся от наивного детского смеха…
(Она придумала этот финал
во время одиноких безумных репетиций
в домашнем театре
в недостроенном доме.)
В этой истории была правда,
в которой режиссер никогда бы не признался
даже себе самому.
Средний человек,
он страшился чрезмерного.
Полый человек,
он страшился наполненного.
Самое странное – она это поняла:
«Только не вздумай ему звонить и просить за меня…
Бесполезно.
Не они, а он меня боится.
Не они, а он меня не взял».
А потом я увидел ее
в последний раз до ее смерти.
Я ехал к ней на свидание.
Я сел в машину и повернул ключ в замке зажигания.
И ключ обломился.
И тут я вспомнил,
как она впервые села в мою машину…
Мы ехали тогда за город
по пустой дороге в светлый июньский вечер.
Она увидела в окне полную луну и закричала:
«Ведьмин час наступил!»
И тотчас я услышал удар,
резкий, жестокий удар:
нас догнал «рафик» и ударил сзади.
На пустой дороге…
Потом шофер «рафика» глядел безумными глазами
и никак не мог понять,
как же это произошло.
На пустой дороге, на абсолютно пустой дороге!
И тогда она сказала удовлетворенно:
«Это – я!»…
Я выбросил сломанный ключ,
оставил машину у тротуара,
поймал такси и успел на это свидание.
На последнее свидание до ее смерти.
Было тридцатое декабря.
Ей оставалось жить две недели…
Я стоял у памятника Пушкину,
поджидая обычного ее появления —
эффектного появления в новогодней толпе у «Пушки».
Неожиданно я наткнулся глазами
на высокую усталую женщину,
такую обычную женщину —
в темном пальто, с блеклым лицом,
с волосами, уложенными под береткой…
Она пришла после ночного дежурства
у постели парализованной старухи.
«Теперь я работаю ночной медсестрой,
а это пальто я купила сама.
Правда, миленькое?»
Миленькое пальто подозрительно пахло покорностью.
Покорностью и правдой.
И очень трудным хлебом.
Она заметила мой взгляд:
«Пора начинать жить нормально,
мне скоро (ужас!) двадцать.
Вчера я собрала все свои вещи
и утопила ночью в Патриаршем пруду
вместо себя:
револьвер, череп,
и главное – хипповую ленточку,
которой я обвязывала волосы.
Вот ее больше всех было жалко.
Ленточка долго плавала в пруду,
а я кричала ей:
«Что делать, у меня только два пути —
утопиться самой или утопить вас всех
и покончить с театром!»
Я даже позвонила режиссеру,
чтобы его не мучила совесть,
и сказала ему:
«Я покончила с театром!»
И знаешь, что он ответил?
«Это хорошо!
Потому что если бы ты к нам поступила,
мы жили бы как на вулкане.
Ты неровная, от тебя не знаешь, что ждать…»
Пусть они учат ровных!
Помнишь у Блока стихотворение про самоубийство:
«Она пришла на землю, но земля ее не приняла…»
Загнанных лошадей пристреливают,
а непринятых в артистки…»
Она засмеялась:
«Не гляди так…
И не бойся.
Я уже не играю в эти игры.
Я выхожу замуж.
Я теперь как все.
И ты молодец – сразу это понял».
Ее бешеная интуиция – она поняла мой взгляд…
Будь проклят этот взгляд!
Мы зашли в бар «Охотник».
Она сняла пальто, пахнущее покорностью,
выпустила из-под беретки золотые волосы
и в темноте опять стала собою.
«Мне попалась замечательная парализованная бабуля,
ее родственники от меня в восторге.
На днях у бабули начала двигаться нога.
Ты, конечно, не веришь, но у меня – особые пальцы,
оказалось, я могу лечить!
Опять не веришь?
Нога задвигалась от моего массажа,
и сегодня в честь этого события
и наступающего Нового года
я решила чуточку приукрасить мою бабулю —
все-таки она женщина…
Я наложила румяна на ее лицо
(они были у медсестры в столике)
и надушила французскими духами
(тоже были в столике).
И бабуля благодарно мне улыбалась,
когда я прощалась с ней до Нового года…»
Глаза горели – она была прежняя,
потому что она не могла быть другой.
А я сидел, представляя,
что происходит сейчас в палате,
как родственники уже узрели размалеванную старуху
и медсестра уже обнаружила,
куда пошли ее румяна
и драгоценные французские духи…
Мне легко это было представить,
потому что я такой же, как все.
Как все мы, Женя…
Теперь, после ее смерти,
я часто встречаюсь с нею.
Куда чаще, чем при ее жизни…
Вчера я сидел на пляже в Коктебеле.
Было солнечное утро.
Она вышла из моря в прилипшем бикини
и с грозной копной волос – Медуза Горгона!
И женщины испуганно врастали в лежаки —
такой беспощадной была ее красота.
А пляжный мальчик сказал мне:
«В прошлом году здесь была клевая девка
со смешной фамилией – Пряхина.
Мне недавно рассказали, что она вышла замуж
за мексиканца, представляешь?
Уехала в Мексику и руководит театром в джунглях…
Что ты так смотришь?
Это рассказала ее безумная подруга!
Всей нашей честной гоп-компании рассказала,
какой замечательный театр в джунглях
основала Зинка Пряхина…»
И я вспомнил,
как однажды поведал ей поразившую меня историю:
в Мексике, в непроходимых джунглях,
какой-то подвижник основал театр
имени Станиславского,
чтобы там, вдали от суеты,
строить Храм Искусства.
Ну конечно!
Конечно!
Вот он, конец стихотворения!
Долгожданный конец стихотворения, Женя!
Кстати, в эту концовку
можно вписать и гриновский корабль,
стоявший на набережной Коктебеля
(о, как она его любила!),
эту дощатую лодку с выцветшими тряпками
и надписью «Алые паруса».
На ней вечно играют орущие дети
и фотографируются вместе с родителями
на палубе, пропахшей детской мочой.
Вот этот ее любимый корабль
однажды подплыл к Коктебельскому пляжу.
С корабля сошел юный капитан
с медальным латиноамериканским профилем.
Он обнял нашу прекрасную героиню,
выходившую из пены вод,
и увез основывать театр
имени Станиславского
в непроходимые джунгли Мексики,
или Никарагуа,
или…
Короче, туда, где требуется
служительница в Храме Искусства!
А с берега вослед кораблю
бросали охапки сирени
благодарные жители Феодосии,
и море цвело, как бульвар
в ночь ее крымского триумфа…
Клянусь, ей понравился бы этот конец!
О, переложи, переложи, переложи его в рифмы, Женя!
И тогда мы забудем,
мы все наконец забудем
ковер, на котором она лежала…
…Ковер, на котором она лежала…
Ковер, на котором она лежала…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































