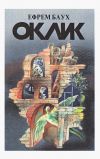Читать книгу "Солнце самоубийц"

Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Соборы, как продолжение один другого, тянутся единым каменным тоннелем, вспышки света за грош – только брось монетку в щель – и на миг выступают из мрака гениальные картины и скульптуры бесценным путеводителем вечного искусства, а валы гибели катятся над Европой, над пыльной каменной тьмой, называемой собором, в котором сидит Моисей, высвобождаясь из камня, но не настолько, чтобы ожить, встать и мстить.
Собор как бы сбоку от течения жизни, как бы в некоей заводи, и вдруг – просверк молнии – эта скульптура, эта складка Божественного мира – рядом с зевающим монахом и щелью, куда швыряют малые деньги, чтобы хотя бы на миг вырвать Моисея из мрака: по-детски наивная уловка двадцатого века.
Как же видели Моисея до электричества? При мерцании свечей и факелов?
В Латеранском соборе Кон внезапно опять встречает кожевенника Гоца. Этот человек его преследует, с ходу в гулко-торжественных пространствах собора начинает рассказывать свои жуткие кожевенные байки, и вдруг Кон, вероятно в порядке самозащиты, впадает в необузданную болтливость, чем-то так напоминавшую давний миг в больничной палате с кладбищенскими питерскими сумерками за окнами, подобными кладбищенскому солнцу над миртами Рима, когда после курса преднизолона, назначенного против воспаления легких, ощутив боль в области сердца, бросился к дверям палаты, потерял сознание и, очнувшись, испуганно, болтливо спрашивал врача, подающего ему кислородную маску:
– Доктор, я буду жить, доктор, я буду жить?
Он обращался к Гоцу, но с таким же успехом это могло быть обращено к статуе святого, к привратнику, незнакомцу, к самому себе: я буду жить?
Гоц, в свою очередь, проявил несвойственную ему молчаливую активность: он просто волок под руку Кона через площадь, являющую образец архитектуры, искусно собранной из обломков разных времен: самый высокий и древний из египетских обелисков, вывезенных еще императором Августом, соединяется с бронзовой дверью баптистерия, взятой из терм Каракаллы, и эклектической церковью, построенной над "святой лестницей", которую привезла мать императора Константина Елена из Иерусалима: по преданию, по ней Иисус поднимался к Понтию Пилату во дворец.
Кон замирает в сумраке, тяжко сгустившемся над ступенями лестницы, по которой люди поднимаются ползком на коленях, с фанатическим блеском в глазах целуя каждую ступень, молчаливо, исступленно: аскетическое лицо моложавой, коротко остриженной женщины, сжигаемое внутренней болью.
Доползают до вершины лестницы, швыряют деньги за решетку.
В боковой темной часовне пылают красные поминальные лампады, сидят девушки, молчат, со странным потусторонним любопытством вглядываясь в каждого входящего. Кон выскакивает как ошпаренный и попадает в другую часовню, где молятся мужчины в черном, молятся громко и, кажется, в один голос, и опять – этот жуткий многоглазый потусторонний взгляд.
Гоц, бегущий вслед за ним по уходящей в закатный свет аллее, кажется ему отсутствующим.
И нет более реального и волнующего, чем чье-то смутное лицо, выглядывающее из случайного окна. Кона всегда потрясает лицо человека в окне чужого города, выглядывающее на закате: идешь, но кажется – ты врос в землю, а лицо в окне проносит мимо, как в иллюминаторе корабля, – издали оно еще лицо ребенка, полное любопытства к тебе, но вот уже рядом – и это мужчина – равнодушие и отрешенность – безразлично глядит на тебя, символизирующего внешний мир своей случайностью и анонимностью, и проносит его, и он старится на глазах, лущится, растворяется вместе с берегом, и ты останавливаешься перед водами, какими-то оловянными или пластиковыми, как в фильмах Феллини.
Так и жизнь прошла.
Так долго и незаметно.
Так быстро, как одна прогулка по улочке мимо окна с замершим в ней лицом на закат.
И ощущение, что уходящее время – не просто метафора, а четкое знание, и оно реально, как удаляющиеся за твоей спиной ворота, из которых ты вышел, – ты еще видишь их – они распахнуты, но вернуться через них ты не можешь, и относит их в вечность лунатическим течением времени и печалью невозвратимости; и вот они уже призрачны, прозрачны, это уже и не ворота, а один блик – и приходит ужас, и встает человек по крику петуха, и кузнечик стрекочет забытым будильником, ибо уже некого будить.
Разве Кон не беззаботный кузнечик в дикорастущем лесу времени?
8И раньше – пусть редко, как пробивает внезапно слух, – приходило ощущение бега, а точнее – бегства времени, и не просто времени, а времени его жизни, но это скорее воспринималось как художественный прием, глубокий, но не страшный, перед броском к полотну.
Теперь, лишенный кисти и полотна, обступающих его привычных вещей, когда весь этот беспорядок мастерской был залогом и защитой, Кон впервые чувствует истекание времени его жизни от самых безбрежных лет детства, когда, кажется, время недвижно и бесконечно.
Это впервые остро его пронзило в циклопических лабиринтах развалин "Золотого дома" Нерона, на одном из флигелей которого был построен Колизей, а остальная часть погребена под Эсквилинским холмом. По словам гида, в этих лабиринтах можно заблудиться. Правда, можно кричать в отдушины бетонированных колодцев, выходящих на поверхность в современный сквер и покрытых металлическими сетками. Но вряд ли публика, сидящая на скамейках, парочки, лежащие на траве, услышат голос из подземелья, из погребенного мира, который еще дышит залами, бассейнами, фресками под их ногами, – развалины поглощают любой звук. Многие вообще не догадываются, что это за покрытые сетками колодцы.
Пустота во чреве города – так открывается Кону его прошлое.
Погруженные в редеющий свет дня, притягивают взгляд пустые за инкрустированными стеклами залы дворцов, и мгновенно фонтан, статуя, мост присоединяют к себе всю отошедшую жизнь – как тот берег, как запредельный фон, ту сторону существования…
Кон вздрагивает: статуя императора Августа в темном подъезде римского дома в первый миг кажется бросающимся на тебя грабителем – психология двадцатого века преображает древние фигуры и символы.
9И снова Кон обнаруживает себя рядом с Гоцем на открытой веранде кафе у фонтана «Четырех рек», а вокруг шумит пьяцца Навона, ремесленники продают разные ручные изделия, художники зазывают прохожих, предлагая увековечить клиента. Молодые люди раздают зевакам прокламации, что-то затевается: внезапно вспыхивают факелы, начинается антивоенное шествие вокруг площади, в конце которой тут же возникает полиция, карабинеры в касках с намордниками; ремесленники бегут, сворачивая лотки, художники невозмутимо следят за сближением стихийно возникшего шествия с полицией, но шествие замирает, глохнет, выдыхается, гаснут факелы, замолкают крики, все возвращается в колею под будничный голос Гоца. Кон даже не слышит слов, он шкурой своей ощущает их жуткий кожевенный ужас и кожаный мешок собственного тела, который стягивается, сечется, усыхает.
У Гоца металлические зубы и подмаргивающий глаз.
– Очутиться на пьяцца Навона после сибирских лагерей. Понимаете ли, буриданов осел не бывал на Колыме: там бы он быстро понял, что такое свобода воли, надо же, не знал, какую из двух мер овса выбрать. На Колыме от буриданова осла осталась бы одна лишь кожа.
Кон физически ощущает, как ссыхается шагреневая кожа жизни. Он ее не транжирил, как герой Бальзака, она уже была за него растранжирена.
– В еде не хватает никотиновой кислоты. Отсюда и болезнь – пеллагра, смерть. – Гоц подмигивает.
– Меня уже списали. Верблюжий зад. А я выжил. Вы только вслушайтесь, как это звучит – пеллагра. Понимаете, это на всю жизнь. Куда бы ни попал – компания, абажуры, разговоры, нормальные люди, книги, музька – я выделен. Я в ином измерении. В пеллагре, как в нирване. Это уже до смерти. Как и льды вечной мерзлоты. Они снились мне в лагере завтрашним днем. Вырубают яму. Неглубокую. И меня – туда. Те, кто меня швыряет, – не знают, кто я. Да и что я – чурбак, заставляющий их обдираться, торчать на морозе, материться. Мат – вместо «со святыми упокой», вместо кадиша. Этот сон – хронометр моей жизни. Явится – значит, я жив. Прислушайтесь только, как звучит ме-е-чта-а-тельно – пеллагра – Архипеллагра. Ленинское «архи» плюс пеллагра – вот вам и Архипелаг.
– Вам бы это написать, – разжимает губы Кон.
– Я и был писателем. За это и прихватили. Не-е-ет. Лучше – кожевником. Миру нужен не писатель, а дерматолог, потому как мир – сплошное дерьмо.
Закат все еще пламенеет между каменными зубцами соборов.
Средневековые стрелки на башне в стиле барокко кажутся недвижными, словно бы солнце ухватилось за них, как за рога жертвенника, и не хочет погружаться во тьму. Стрелки, подобно кистям художника, оцепенели, охваченные соблазном закрепить обилие закатных красок.
Ярко накрашенная девица в коротенькой юбочке села за соседний столик. Жутко мигнул глаз Гоца.
Никогда не знал Кон, не понимал, что означает в жизни – постоянство. Всегда понимал себя временным. Но в эту секунду он внезапно, бездумно, с невероятной остротой ощутил эту временность. Внезапно во всех углах отчетливо проступило: ты – временный. Беженцы в Риме, в Остии, в Ладисполи только и говорят: мы здесь временные. Но Кон знает тайну: временность эта постоянна. Исчезла, выдохлась надежда на перемену, ты уже не говоришь «временно» со смехом и верой в постоянное лучшее будущее, ты произносишь это слово как заклинание. Почти всю сознательную жизнь там Кон изо дня в день считал себя временным, желая вырваться. И вырвался, но тут-то истинно и в полной мере ощутил свою временность.
Кон пытается уверить себя, что он отделен от толпы, бубнящей – "временно", что он иной, что ему надо как можно скорее убраться отсюда, но в глубине души понимает, что это иллюзия, что он уже навек связан с этой толпой и деваться ему от нее некуда.
Девица в коротенькой юбке многозначительно взглянула на Кона. Господи, какое у нее ангельское лицо, как эта медово светящаяся кожа грубо обезображена красками. Девица улыбается Кону: неужели до такой степени лишена чутья, не чувствует, не видит, что Кон гол как сокол и беден, как церковная мышь. Именно в этот миг возникают мысли о каких-то главных вещах в жизни, о которых следовало бы мыслить в гарантированной ситуации, нормальном окружении. Кон же ощущает себя схваченным ими врасплох, но не в силах пресечь их самостоятельного, не зависимого от него развития, он покрывается на миг холодным потом, отчаянно завидует окружающим, погруженным в икриную суету жизни, хватается за воспоминание как за спасительную соломинку: в слякотный вечер на Невском они с товарищем по Мухинке подцепили двух девиц, завалились в ресторан; у одной, конечно же, папа был капитаном корабля на Дальнем Востоке, у другой – командиром эскадрильи на ближнем, и одна умоляла не верить другой, пока та отлучалась в туалет, но обе, как истинные патриотки, дружно ругали венгров, чучмеков, черномазых, всех этих гадов, за которых русские кровь проливали; впадали в экстаз, требовали прижать всех к ногтю, научить международной солидарности трудящихся; разгоряченные водкой, залитой патриотизмом, они, готовые продаться за грош, речами своими напоминали ораторов на собраниях протеста, более похожих на кликушеские сборища: там тоже занимались свальным грехом, отдаваясь в экстазе очередному вождю, теряя девственность своей бессмертной души под давлением насилия и лжи, припадая со сладостным страхом к стопам властвующих сутенеров, со столь же сладостной жестокостью топча их, сброшенных с пьедесталов; всеобщая проституция была одним из главных стержней жизни, куда им, будущим художникам, предстояло нести свет вечного искусства: пока же, у общежития, одна аристократически заупрямилась – потребовала, чтобы провели ее через дверь, мимо вахтерши, но другая быстро уговорила ее лезть в окно.
10Кон пытается отряхнуться от наваждения, Кон ощущает гримасу улыбки на своем лице, обращенную к девице.
Гоц продолжает бубнить о пеллагре, трупных мистериях ГУЛАГа и кожевенности мира голосом, взывающим о помощи.
– Верблюжий зад – тоже звучит поэтически, – неожиданно ни к селу ни к городу прокашливается Кон, и странное ощущение из детства вдруг накрывает его с головой своим нахлынувшим и обессиливающим потоком – острым желанием немедленно вернуться в недавно покинутое место, назад, в мир, обступающий страхом пеллагры и боязнью подхватить триппер от речистых девиц, хроническим безденежьем и сомнительным успехом на выставках живописи, посвященных революционным датам, успехом, достойным тех же девиц, – в эту же секунду выпрыгнуть на ходу из поезда, выброситься из автомобиля, выскочить из уже заревевшего моторами самолета – и туда, к отчетливо вставшему перед взором невзрачному кустику, из-за которого Бог весть когда подсматривал за девичьим силуэтом, свесившим в воду русалочьи волосы, бездумно следящим за игрой света на водах, немедленно туда, зная, что в следующий же миг пожалеешь об этом порыве, но в эту секунду, в вечереющем медлительном Риме не надо ниоткуда выпрыгивать, выбрасываться, и, тем не менее, в тысячу раз более невозможно вернуться к мостику над каналом, на котором совсем недавно, перед отъездом, стоял ночью, стоял, не отрывая глаз от красных стен Михайловского замка, и на миг показалось – ощутил непередаваемый ужас замурованного заживо; Господи, да вся-то болезнь в том, что прощаешься с теми местами и годами навеки – это нестерпимо, противоестественно душе человеческой, нельзя так – навеки, нельзя без надежды, без взаимности, о, эта улыбка девицы с ангельским лицом и вульгарной пунцов остью накрашенных губ, улыбка в предвкушении денег, мгновенно обозначающая обрыв, за которым – мир невзаимности. Он ощутил его однажды как приступ в Вильнюсе, в соборе, в комнате святого, покровителя беспомощных, больных, которые приносили вырезанные из металла позолоченные образчики рук, ног, каждый прикреплял к стене образ той части тела, которая причиняла страдание, но особенно много было образчиков сердец – знаков неразделенной любви, и молодая красивая девушка исступленно плакала, била поклоны до земли, прикрепив свое «сердечко» среди множества других, и такая была в этом малом помещении спрессованность горя, боли, надежд, какую он увидел час назад, в церкви Скала Джерузалеме, когда все застегнутое наглухо в буднях раскрывалось до предела – ползущие по лестнице, их исступленные глаза боли, разочарования в ближних и жажды взаимности лишь с Всевышним, и звук падающих за решетку денег, опять денег, за которые можно купить освобождение от страданий, и алые стаканы пламени, подобные душам ушедших, светящимся во мраке.
11Кон протирает глаза, словно бы очнувшись от глубокого сна. Гоц исчез – как растворился, как и не существовал. И девицу унесло. Вокруг все новые лица, мятые, морщинистые в свете ламп и фонарей, – собрание механических кукол, которых не может оживить даже мелодичная итальянская речь.
Кон шатается неприкаянно по пьяцца Навона, неосознанно ищет исчезнувшую девицу: ее мимолетная обращенная к нему улыбка была единственным признанием его существования за последние дни.
В дымящихся темнотой узких улочках, похожих на щели между каменными громадами, движется множество людей, и неожиданно, пусть изредка, при свете скудного фонаря высветится прекрасный женский лик, словно бы вспыхнувший на полотне Караваджо в глубине темной церкви, тут же за углом, от пьяцца Навона, – стоит лишь бросить в щель монетку – лик, легко и непринужденно несущий в себе живое дыхание столетий: они бродили по этим же улицам, смуглые и белолицые мадонны, занимались покупками, но главным образом глазением друг на друга, мимолетным влечением к мелькнувшей мимо красоте, нежности, меланхоличности, обреченности. Но самыми счастливыми и глубоко несчастными среди глазеющих были художники, и так ощутимо в эти ранние часы ночи, как, отцеживаясь и воспаряя золотым сном искусства, замирает вечность над темно дымящейся жизнью в узких щелях улиц, подобных Кор со, – отцеженная вечность картин, скульптур, колоннад, образуя свой прекрасный и отчужденный коралловый риф.
И внезапно вспоминает Кон минуты прощания с ближайшим своим другом: и глядят они друг на друга с сожалением, – мол, куда едешь, в пустоту и неизвестность, мол, где остаешься, в дерьме и скуке. И все же над этой сценой висит самая чистая, беспримесная – какая может быть между истинными друзьями – печаль расставания.
Где он сейчас, друг его, где и с кем завидует Кону?
Вероятнее всего с Танькой, в давние годы женой Кона, с которой он разделен и повязан заплесневевшим от времени разводом, с Танькой, страдающей от бездетности, удивительным существом, из которого вся скудость и беспросветность тамошней, оставленной Коном жизни вырывалась самым неожиданным образом: грубостью и матом в смеси с ни с чем не сравнимой душевностью, истериками и пьянкой, внезапно переходящими в монашеское благолепие, кажущееся ханжеской елейностью и вызывающее приступы свирепости у Кона. Да и поженились они как бы в шутку – художник, перебивающийся случайными, пусть иногда и "жирными" заработками, и продавщица магазина "Мелодия", продающая дефицитные пластинки из-под прилавка своим поклонникам на час и взбесившимся меломанам, продавщица с ангельским лицом и отвратительным характером, что само по себе бесило Кона своим штампованным противопоставлением, забирающим столько душевных сил, продавщица, с которой они после диких скандалов развелись через год, но продолжают быть повязанными на всю жизнь, как и с толпой, что из-за ее спины все годы обдавала его дыханием враждебности.
Танька, осунувшаяся, невесть чем измотанная, на прощание Кону с грубоватой слезливостью:
И куда тебя черт несет? Ты же себя губишь…
Я уже погубил себя из-за всех вас.
Неужели всего-то из-за того, что я вела себя как базарная баба? Из-за такой малости?
Он посмотрел на нее с удивлением, но это было только – удивление: за ним горой стояла усталость, которая, он знал, никогда не рассосется.
Теперь, вспомнив это внезапно среди осколков колонн и статуй музея в термах Диоклетиана, он вдруг с ужасающей ясностью проснувшегося в одном из стоящих рядом каменных гробов Древнего Рима ощутил, что никто ему не завидует, никто о нем не думает и, тем более, не спасет – все ушли и заняты своими, пусть и скудными, житейскими делами, – что, вероятно, Танька права, он погиб, что она своим варварским миром, как ни странно, помогала его миру – подобному этим прекрасным осколкам прошлого, но все же осколкам – держаться на плаву.
12Румяная толстуха-потаскуха с гладко-молодым коровьим лицом и осоловевшими от жвачки глазами стоит у входа в гастрономический магазин, слева от здания вокзала Термини: это ее постоянное рабочее место. Шорты лопаются на ляжках: рубенсовская плоть рвется наружу. Итальянцы приветствуют ее по-соседски, направляясь в магазин. В чахлом скверике, вожделенно поглядывая на нее, кобелятся арабы. А над всеми висит, колыхаясь в сумерках, силуэт собора – тысячелетней смесью укора и умиления перед святой и блудницей Марией Магдалиной.
Поезд, летящий в ночь, беспокойство, мучающее Кона своей нелепостью: туда ли едет, в Остию? И все из-за недавнего случая: на днях сел не в том направлении, внезапно увидел развалины древней Остии – мирты, кладбище – на миг показалось: везут в яму – начал задыхаться– Захламленная донельзя привокзальная площадь Остии. Слабый свет фонарей. Гогочущая ватага итальянских субчиков: "Руссо, руссо!.."
Испуганно жмущиеся друг к другу, тенями ползущие вдоль стены – мужчина, женщина, дети – семья эмигрантов, как и Кон, задержавшаяся допоздна в Риме. Ощущая уже знакомую свирепость бессилия, Кон идет по аллее, на которой табунится ватага. Расступаются почтительно. Вблизи лица парней вполне благодушны.
На улицах, где проживают эмигранты, пусто, безжизненно. Только старухи, подобные сгнившим пням, вырванным из привычной почвы, прихваченным в дорогу за неимением выхода, сидят у домов на каких-то диковинных скамейках, сколоченных неумело, на скорую руку, не переговариваются, не сплетничают – молча вглядываются во враждебную тьму в тревожном ожидании более молодых своих потомков, невесть где так поздно задерживающихся на этой чужой земле.
Кон отлично помнит старух своей юности, своей прошедшей жизни, киевского двора, питерских квартир. Как бы поздно он ни приходил, они бодрствовали.
И сейчас они провожают его взглядами, нахохлившись как совы, подслеповато глядя вверх, словно бы приподнимая усохшие тела и огромные бородавчатые лица. Носы – клювами или вздернуты так, что ноздри – почти у глаз. Иногда лицо сморщено, как сушеная слива, иногда раздуто, как вареная брюква.
Старухи, сидящие в подворотнях жизни. Старухи, которые нас переживут.
В квартире полно народа. Партийный старец, не стесняясь присутствующих, стрижет ногти. Для Кона это – последняя степень общего падения.
Кон осторожно прокрадывается в свою комнату, прикрывает дверь, делает глубокий вздох, ощущая спасительность четырех стен, за пределами которых самодовольный здравый смысл ведет свои непререкаемые празднества.