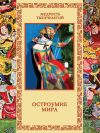Текст книги "Записки времён последней тирании. Роман"

Автор книги: Екатерина Блынская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
7
Головка Вивы лежала у Платона на плече. Пришлось забрать её из лагеря, ибо их накормили какой – то гадостью и всем разом стало плохо. Вива пролежала в изоляторе три дня, пока Платон не приехал за ней на машине.
– А мама где?
– Мама в Неаполе.
– Ты с ней не полетел?
– Нет, не получилось. Мне, как я понимаю, вообще и здесь хватает итальяно – латинских страстей. От этого спектакля я сам не свой.
– Я заметила… Ты чего – то иногда непонятное говоришь.
– Не обращай внимания, пупсик.
– Ну, папа! Какой я уже пупсик!
Они ехали через Кисловодск и навестили Платоновых родственников, которые его даже сперва не узнали.
Так он изменился.
Нет, просто стал лощёный, холёный и очень дорогой. Да!
Все его родственники считали его каким – то уродом, недочеловеком и продолжали бы считать и сейчас, если бы он внезапно не начал зарабатывать деньги.
Он слишком долго к этому шёл, но судьба любит настойчивых.
– Аудентем фортуна юват! – вспомнил он надпись на «холмах» Кузи.
– Чего? – переспросила Вива. – это латынь?
– Да. Это латынь. Дерзким помогает судьба.
– А… понятно. Ты ещё и латынь выучил.
– Может, остановимся и поедим? – спросил Платон.
– Ой, нет… мне лучше сейчас водички только.
Бедная Вива… Платону было жаль дочь. Цезия Третья уехала и знать не знает, что Вива едет домой. Придётся отвезти крошку к бабушке. А бабушку она терпеть не может.
Действительно, тёща Платона лезла во всё подряд, не стесняясь выпачкать рукава. Подобную любопытную старуху нужно было поискать.
Первые десять лет жизни она заставляла Цезию Третью звонить ей по три раза на день, пока Платон не топнул ногой и не пригрозил жене разводом.
Нужно было тогда уходить, тогда Вива ещё не понимала жизни, а теперь для неё, подростка, всё вокруг чересчур ярко. И если он, Платон, уйдёт из семьи, неизвестно, как это повлияет на Виву.
Наверное, тогда он потеряет единственного человека, который верит ему, несмотря на то, что знает, какое он дерьмо.
Ещё в институте Платона окружали женщины, причём самые яркие, самые завидные. У него, правда, тогда была шевелюра, немодная, но провокационная. В то время будущая тёща звала его Волосатиком, а он пижонил в варёнках и старался продать что– нибудь у универмага «Будапешт».
Глупое было время. Наивное, как время детства человечества. И, вроде бы, двадцатый век подходил к концу, а люди, наоборот, тупели и растерянно глядели на приближающееся с Запада цунамическое волнение.
Знал ли кто – нибудь тогда, что сейчас, через четверть века нет ничего из того, что было тогда поставлено во главу угла.
Проклятый капитализм слизал шершавым языком всё, что дарило удовлетворение и покой людям старой формации. Они были голые, как перволюди, но капитализм нашёл, что с них содрать.
Он содрал с них кожу и оставил их тела кровоточащими и трепыхающимися в предсмертной агонии.
Вот прошло двадцать пять лет, а они всё колотятся.
Вива из поколения космополитов. Эти дети мира не знают ни струн, ни основ, ни осей, ни стержня.
Они ни на что не нанизаны, они как жировые комки, плавающие в доисторическом бульоне. И что с ними будет, тоже неизвестно.
Хорошо бы, если бы и их не сожрали их же дети.
– Чёртовы гидры. – сказал Платон.
– Гидра размножается почкованием… – ответила Вива.
– Да, я как раз про это самое и подумал.
– Папа, а ты не уйдёшь от мамы, когда станешь богатым и ещё больше знаменитым?!
Платон побледнел, бросил быстрый взгляд на Виву.
Вива глядела капризными глазами, и по нежным круглым её щекам катились крупные цирковые слёзы.
– Ты чего… чего ты… пупсик мой? Конечно, куда я могу уйти?
– Куда – нибудь к новой бабе. Или к новой тёлочке.
– Откуда ты всего этого набралась?
– Ниоткуда. Так спрашиваю.
Вива надула губки.
Платон понял, что она совсем выросла, но осталась пока его маленькой дочкой.
– Пап… слушай, меня мучает один вопрос.– сказала Вива.
– Ну? Какой?
Платон различал немного справа Ростов. Издалека, в чистом воздухе, мерцала крестами высокая соборная колокольня.
– Можно ли забеременеть во сне?
Платон крутнул головой и чуть было не ударил по тормозам.
– Что? Что ты говоришь?
– Я хотела у мамы спросить, но она нескоро приедет, а мне уже сейчас не терпится узнать.
– А почему тебе так не терпится?
– Потому что нас в лагере парни пугали, что мы типа будем спать, а они придут и…
– И?
– И это… Я не могу сказать.
– За что – же они вас так?
– Ну, мы их пастой во сне вымазали. Всех. А они потом на линейку припёрлись в пасте. Западло такое было… Блэт… Блэт…
Платон покачал головой.
– И что? У нас гугл отключили?
– А что гугл?
– Ну, просто когда отключают гугл, или он не ловит, дети начинают быть очень ласковыми с родителями и интересоваться подобными вещами.
– Нет, гугл я не спрашивала. Ступила. Так что? Можно?
– Нельзя.
– Фух… слава папе!
В открытое окно машины влетал прожжённый запах июльской степи. Его втягивало внутрь салона и Платон дышал им, словно хотел надышаться на всю жизнь соломенным, каменным, серым степным запахом.
***
– Это тётя Анжела. Ты её знаешь.– сказал Платон, представив Виву.
– Знаю. – буркнула она и схватив рюкзак за лямку потащила его в комнату.
– Помой руки и иди есть!
Платон вопросительно взглянул на Анжелу.
– Ты зачем приехала?
– Цезия Третья меня попросила поливать цветы. Она знает, что ты заморишь их, поэтому я приехала…
Анжела тряхнула густой чёрной гривой распущенных волос.
– Ты меня провоцируешь.– сказал Платон и коротко поцеловал её в маленькую родинку над верхней губой.
– Ты сам хорош.
– Не надо было сюда ехать, тем более светиться перед Вивой.
– Она уже не маленькая. Должна понимать.
Анжела вытерла по – хозяйски пол в коридоре и прошла на кухню, позёвывая, ждать Платона из ванной.
Он вышел через несколько минут с трудом уговорив дочь принять душ при чужом человеке.
– А это вообще кто? – прошипела Вива гневно.– Чё она тут делает?
– Мать дала ей ключи, она поливает цветы и кормит котов.
– А ты чего тогда делаешь?
Платон недовольно хмыкнул.
– Ты давай, мойся.
– Закрой дверь тогда!
Вива не любила мыться.
Когда она через полчаса вышла к столу, Анжела всё ещё сидела на материном стуле и пила кофе, накинув ногу на ногу и держа чашку двумя руками.
Платон сидел напротив и скоренько накалывал жареную картошку на вилку.
– Вива, поешь…
– Не хочу. И не называй меня Вивой. У меня имя есть
– Я Анжела, а тебя как зовут? – улыбнулась Анжела, поставив чайку с кофе.
– А меня зовут Варвара Платоновна Орешникова.
– Оу… Очень приятно. А я коллега твоего папы. Мы вместе играем в театре. Ваша мама просила за ним… за вами посмотреть и я пожарила вам картошки и вот… куролапок.
Вива сдержанно улыбнулась. Она немного расслабилась и села за стол, зачем– то пытаясь натянуть безразмерную футболку как можно ниже.
– Ты не стесняйся, я же девочка… – сказала Анжела.
– Ага… вижу…
И Вива нехорошо рассмеялась.
Платон метнул на неё суровый взгляд. Анжела сделала вид, что ничего не заметила. Она быстро отхлебнула кофе и поставила чашку, со звоном, на блюдечко.
– Мне уже пора… У меня у самой кошка одна.
– А я провожу.
Платон вышел в прихожую, Анжела немного расстроилась, но было видно, что слёзы готовы выкатиться из её глаз.
– Я бы хотела значить для тебя больше… – сказала она тихо.
– Больше… невозможно. – ответил Платон, боясь прижать её к себе.
– Возможно… Всё возможно. Ты просто привык жить в горе. Ты в этом горе сам себя теряешь.
Глаза Анжелы, чёрно – ртутные, блестящие, метнули искры. Она быстро вышла за дверь.
Платон потоптался с минуту, протёр глаза и тряхнул головой. Ему дико хотелось спать.
Он вышел к Виве. Та неподвижно сидела на стульчике у окна и смотрела вниз, на Москву.
– Что, началось да? – спросила она издевательски.
– Что именно?
– Кризис старого возраста.
– Среднего.
– Ага… среднего…
Вива налила себе чай и ушла в комнату.
– Ко мне не заходи. Я буду спать!
– Поела бы…
– Проснусь поем. Закажи пиццу! Картошку этой… я есть не буду.
Платон покачал головой, улыбнувшись.
– Вот женщины… вам имя вероломство…
VIII
Я слышала, что задумала Агриппина… Да, Луций должен стать императором, но только зачем снова кровь? Я хочу ему славы и чести Городу… А Британник, сын Клавдия! Он мог бы славно править, и мы бы не получили тех бед, которые сейчас окружают нас.
Я не знаю, о чём думают женщины, выходя за стариков, находясь сами ещё в поре цветения. Агриппина оплела Клавдия только для сына, и более того, стараясь ночью решать свои дела, которые днём приходилось откладывать, добилась того, что он стал послушен и мирен в её руках. Он сетовал ей на обманы предыдущих жён, он называл её «деточкой» и всех его женщин она осмеивала вместе с ним, всех бранила, поддакивая ему, и, если это насторожило бы любого другого мужчину, то Клавдий распалённо желал жалости, сворачиваясь, как собачонка, у ног Агриппины.
Удивительно было и то, что его племянница, обойдя более сильных и красивых претенденток, победив их, не стала зарываться… и её роль была неприметна ровно до тех пор, пока Клавдий не помер от кушаний, поданных на усладу его желудка.
Говорили, что это была она. И что это случайность… Но они не знают, что такое любовь матери, равная любви ко власти. Редкие люди осознают себя, дорвавшись до этой любви. Вот я Агриппина совсем сдурела тогда.
Если бы Мессалина не сыграла свадьбу при живом муже, да ещё при муже – императоре, то навряд ли бы Луций стал тем, кем он стал… Но только тот крайний поступок пошатнул терпение Клавдия и Мессалина была обречена.
А тут: случай на руку сыграл…
Та орава детей, которых наплодил Клавдий во время своих трёх супружеств уже не мешала Агриппине, когда она стала его новой женой. Он старался прятать от неё подросшего до власти Британника, а Агриппина старалась чаще показывать ему Луция, играя на его отцовских чувствах, что плохо, де, полусироте жить при дворе Императора.
Мальчик из рода Домициев тоже уже умел делать отчаянные глаза, упражняясь в артистизме, пугая Клавдия и мягча его квёлое сердце. Агриппина подсовывала юного Агенобарба и до того дошло, что Луций стал отчиму ближе родного сына.
О, горазд же был Клавдий пожрать! Именно так только можно сказать о нём, потому что прорва пищи попадала в его объёмное брюхо… Правда, он страдал страшными болями от своих пирований, но это не мешало ему жить дальше, легкомысленно заявляя, что он хочет убить себя, как только чувствует эту боль.
После Валерии Мессалины Клавдий страдал недолго. Он сумел справиться с собою, обозлившись на неё. А Агриппина умела его успокоить.
Агриппина и Клавдий женились в Новый год, и, казалось, это принесёт им новую жизнь. Они надеялись на добро. Агриппина в тот день получила в дар столько золота, серебра, шёлка, пурпура и драгоценностей, что их везли в процессии семьдесят всадников.
Справедливо упомянуть, что Клавдий оказался совсем ручным мужем, но его прихотливая изнеженность и бабьи капризы были отвратительны. Он любил пиры, во время их он упивался, наедался и становился эдаким добряком, жадно глотая вина и пищу. К тому же, видя красивых женщин, еле сдерживался, чтоб не засмеяться своим отвратным смешком, не пошутить как– то обидно на их счёт… И положение жены, на самом деле, для Агриппины всё более утрачивало свою важность. В одном они были похожи: оба любили смотреть на смерть… и не могли пропустить ни игр, ни травли.
А ведь Клавдий слыл дураком для всех вокруг, как и всякий дурак в глубине души считая остальных глупее себя, тем самым уподобляясь беззубой змее, которая потеряла своё единственное оружие, и надеется теперь только, что случайно не задавят её, полагаясь на свою пронырливость и гибкость. Таков и Клавдий: врал, молниеносно и внезапно, искусно придумывая, по нужде уворачиваясь, скользко, и всегда удачно.
Но прикидываться дураком, ещё до того, как он стал Императором после Тиберия, было ему любо. Тут сыграл и случай, ибо, после правления тиранов, даже дураки видятся народу избавителями.
Вот так оно и вышло.
Ведь наш Город – он глуп. Его разум – это разум черни. Его глаза жадны, и они алкают зрелищ. Это глаза толпы. Лицо его – это не Квирины, чистота и аромат, а Коровий рынок, закровавленный Цирк и вонючая Субура: вот там Город живёт и дышит, прерывисто и жадно. Город – это раззявленные рты нищеты и голодранцев, это мельтешащие клиенты, плебеи и трибуны. А высокие сердцами и думами выдавлены из тела города, как нагноившиеся занозы. Нобилитет так– же далёк от тех, кто может одним хлынувшим наплывом снести его дворцы и сады, лишь только почувствовав спазмы голода, оказавшись без раздач… И весь этот котёл варит и кипит. Всеми днями и ночами. Таков Город.
Хорошо рассуждать о том, что Рим – Город Божественный и Великий, любить его зной, журчание общественной воды в фонтанах, красный кармин избирательных кампаний на выщербленных стенах домов, его придирчивых сплетников, сидящих во фруктовых лавках Аргилета… Я любила даже пыль Рима, которая никогда не украшала моих ног. И говор толп, виденный мною из просторного окна, выходящего на Форум, тоже был мне любезен, как живоносный исток, но только потому, что я сама никогда не была в толпе.
Я всегда страдала от одиночества, даже находясь среди людей… ибо была лишена свободы с детства.
Тот, кто хлебнул этой горькой истины, никогда не отрезвеет.
При Тиберии мы могли ждать жестокости, при Гае – неожиданности, а при Клавдии – всего. То, что вчера было плохим, сегодня становилось хорошим, а назавтра вообще забывалось намертво. « Как? Это сделал я?»: Спрашивал Клавдий и тут – же отрекался от собственных поступков.
О, как он бесчинствовал! Он, впадая в гнев, был неумерен. Но, к ужасу всех, и находясь в покое, он был ещё неумереннее. Он творил безобразия, конечно, несравнимые с Гаевыми и Тибериевыми, тогда было намного хуже… Но все его безобразия блистали мраморным лицемерием.
Если Гай их творил от души, не стесняясь, не боясь и не стыдясь, удовлетворяясь и наслаждаясь ими, то Клавдий всё делал, то исподтишка, то, чтобы сохранить лицо, тайно.
Ну, будет об этом…
***
Мой господин, теперь зовомый Нероном, заимел сильного соперника. Этого Британника. Да, Британник был сказочно хорош собой… он просто очаровывал сходством с матерью, Валерией Мессалиной, с её пухлыми губами, ровным носиком, тонкой красотой, которая могла родиться разве что от подобной же красоты. И губя его, Агриппина не пожалела этот чудный цветок его невинной красоты, сорванный и брошенный в тлен.
Какие – уж тут Гемонии Тиберия могли сравниться с её тогдашней жестокостью!
Ведь она позволила собственному сыну убить его, а могла бы и подумать…
По сути, все правления начинаются с того, что людям замасливают глаза, обещая раздачи и дары.
Но потом за эти дары, нужно – же, взять своё?
Так вот, я хорошо помню, что пира не было. Нет, если бы Клавдий так не гладил при Агриппине своего Британника, не позволял ему почувствовать себя будущим Императором, не нарядил бы его в тогу совершеннолетнего, возможно, и сам был бы жив. Но Клавдий заспешил, засуетился… и стал есть грибы.
В тот вечер, задумчивости его не было предела, и я потом даже посмеялась, когда принесли ужин, что задумался он, стоя на пороге Бездны, из которой нет возврата.
Клавдий пил секстариями, и заставлял всё время плясать вокруг себя пятерых рабов.
Я старалась казаться весёлой, сидя в ногах одного из всадников и хохотала, чтоб не показать, что у меня всё дрожит, ведь я чувствовала, что моего патрона ждёт страшное! И снаружи и внутри я дрожала и вовсе не от волнения, а от скрытого, глупого восторга. Завтра Нерон станет Императором!
Клавдий в задумчивости переходил от козлятины к ракушкам, от полбы к запеканке, и, пока дошёл до грибов, наверное, перемешал в себе весь ужин, запитый тремя секстариями вина.
Я только наблюдала, и старалась не есть много. Клавдий, возлежа выше всех, изредка кидал взгляды на танцовщиков, которые кривлялись под музыку до того славно, что не хотелось никому глядеть на перекошенного и мятого Клавдия.
Не хотелось, но я глядела, пока он не дошёл до грибов, которые с удовольствием съел маленькой костяной ложечкой.
– Агриппина! – крикнул он через залу, перекричав немногих гостей, подобострастно располагавшихся ниже, на украшенных серебром ложах.– Иди ко мне!
Она поднялась, размяв затёкшую спину, поправила тунику, одетую поверх тёплой столы, и, набросив любимую свою паллу из тарентской серо – блестящей шерсти, подошла, и встала за спиной Клавдия.
Его голова светилась крупной проплешиной сквозь убранную сединой макушку. И лицо и голова взмокли, видно было издалека. Толстая шея, во многих местах порезанная неловким цирюльником, покраснела.
– Жёнушка, присядь подле меня, а то отошла себе и удалилась. – сказал Клавдий, жуя отравленные грибы.
Я дрогнула, боясь, что он и Агриппину накормит эдакой вкуснотищей.
– Поешь, это чудное лакомство, чудное… – проговорил Клавдий, так и не поворачиваясь ко жене.
Агриппина ответила, пригнувшись к мужниному уху, щекоча его взмокшие от усердия седины.
– Ты, пожалуйста, не переходи на килики… после секстариев, или, из – за стола тебя вынесут и опять будут вызывать рвоту… – донёсся до меня её голос.
Клавдий, откинув назад руку, пригнул её шею к своей правой щеке и громко поцеловал её, вымазав жиром.
Агриппина ушла, сделав рукою жест наблюдать.
От омерзения меня чуть не замутило… Ведь они в последнее время не ладили… Он, видимо, просто хотел какого– то свежего мяса… и сожалел, что не может жениться в пятый раз.
Глупый, глупый Клавдий!
Среди ночи в мою спальню прибежали Клавдиевы постельничие, которые обычно переносили его, или готовили на ложе. Это были уже немолодые мужчины, но они были так напуганы, что я вскочила от ужаса, не произошло ли что с моим Агенобарбом.
– Актэ! Иди к Агриппине! – закричал старший из них.
Я быстро накинула тунику и выскочила в перистиль.
Клавдий был зелен, но жив. Когда я увидала его поверх разбросанных и облеванных подушек, голова моя закружилась.
Его вырвало – и только, но он – жив.
– Ты переел.– ворчала Агриппина, вместе с постельничими меняя ему подушки и я присоединилась к ним.– И, верно, перешёл на килики, обойдя моё предупреждение. – сказала она, спокойно оправляя волосы, который расплелись в сплошную рыжую волну и чуть не падали в Клавдиеву блевоту, разбросанную по ложу.
Тот слабо улыбался, так– же лёжа, подёргивая глазами и чуть слышно бормоча.
– Ты была права, а я – перешёл на килики. – ответил он, хватая жену за запястье.– А ты… ты меня отравила, да?
Агриппина легко убрала руку и дала рабам убрать его, обмыть и перестелить постель.
Я носила воду из имплювия.
– Нужно промыть тебе желудок, или опять начнутся боли.– Сказала Агриппина равнодушно.
– Принесите тазы, миски и… килики. – поиздевалась она.– С водой. Будем промывать Императора.
Нерон тоже всполошился вместе со всеми. Он бежал как раз мне навстречу, из своих покоев, по едва освещённому переходу. Его стройная фигурка, ещё не потерявшая юношеской легкости, быстро приближалась к покоям отчима. А Британник спал.
– Матушка, – горячо зашептал он, – кто это поднял всех среди ночи? Что случилось?
Мать схватила его за плечи и прошипела:
– Иди, и промой ему желудок. И будь с ним, как сын. Пусть Британник спит, а ты, пасынок, бди. И бди так, чтобы дядюшка уже не увидел утра. Ты понял меня?
Я кинулась к ним с круглыми от ужаса глазами.
– Но этого нельзя! Нельзя! – шептала я.
Агриппина цыкнула на меня.
– Цель оправдывает средства, девочка.
Я так испугалась за Нерона, что сейчас жаждала только того, чтобы Клавдий поскорей прибрался.
Однако, метался весь дворец. И Нерон ещё раза два пробегал мимо, рассказывая с возбуждённым хохотом, как Клавдий всё блюёт и блюёт, и как он ловко всыпал ему свой любимый порошочек прямо в воду для промывания…
Наутро всё было кончено.
Я долго сердилась на свои ногти, которые, как – то, неохотно, царапали мне лицо в знак скорби. И, распустив волосы, качаясь и вопя, долго играла пальцами, чтоб найти достойную им позу выражения отчаяния и горя… так мне хотелось проводить Клавдия достойно… Но из зеркала на меня глядела прекрасная девица, у которой не горе, но торжество рвалось из глаз искрами. Я за всё теперь буду награждена! Это – мой триумф… Я лишилась патрона-императора, но я обрела любовника – Императора!
И подарок Нерону к семнадцатилетию… Уж он распорядится Римом!!!
9
Кузя обвешала старую грудь массивными бижутериями, накрасила губы ярко – розовой помадой и пришпилила чужие волосы.
От этого она становилась ещё более ужасной. Платон прекрасно понимал, что вынужден дотянуть до премьеры, а потом… А потом бежать, если всё сложится.
На вечер поэта Каминского пришла половина труппы. Сам этот Каминский был страшный хам и трепло, но он написал очередную великую вещь. Все вынуждены были пить с Каминским, хвалить его, восторгаться его идеями и образами. Одному Платону грезилось залезть в какой – нибудь тёмный угол, с бутылкой водки и сидеть там, как в бочке Диогена, пока его не начнут разыскивать.
Кузя привела его. Точнее, он привёл её. В чёрных перчатках по локоть, в шёлковом красном платье и с шиньоном на голове. Кузя была похожа на хорошо сохранившуюся мумию или на жену французского Президента Макрона.
За глаза её так и называли в последние месяцы: Макронша. Это страшно веселило актрисулек и костюмеров.
Особенно не украшало Кузю платье, как раз сделанное под стать красным льняным бинтам в которое она сегодня вырядилась.
– Наша – то шваброчка гляди как к Платохе прилипла? – кивнула подруга Инна Анжеле, когда в полусвет ресторана явилась Кузя со спутником.
– Да пусть развлекается. Это гадко, конечно, но всякую гадость можно пережить. – вздохнула Анжела и плеснула себе шампанского из бутылки.– Надо потерпеть. Есть ради чего!
– Лучше бы она вернулась к Дымникову.
– Вокруг Дымникова гора бабья. Он же сейчас заслуженный.
– Вот, когда– нибудь я тоже заслуженной стану.
Инна засмеялась. Платон услышал её смех и, повернув голову, встретился взглядом с Анжелой.
– Он меня увидел… – простонала Анжела. – Сегодня я напьюсь и наговорю ему всякого.
– Лучше не надо. Давай пей, но под моим присмотром. И вообще, я не верю, что раны могут так долго болеть. Да и какие там у тебя раны?
– Если это не укол трёхгранным штыком…
Платон отпустил Кузю и подошёл к столику, где сидели Анжела и Инна.
– А у меня сегодня жена возвращается домой.– сказал Платон.– Из Неаполя. Я поеду её встречать в два часа ночи… в аэропорт.
– Ммм… из Неаполя? На шопинг ездила? – спросила Инна отвлечённо.
– Дда… Каминский то пришёл? А то он всегда опаздывает…
– Да вон он уже возле Кузи.
– А… точно, точно…
Каминского трудно было не заметить. Он всегда ходил в красном свитере и в этом желании краснеть и выделяться напоминал лихого деревенского парня, недавно оказавшегося в городе.
– Дурак красному рад.– отрезал Платон, увидав Каминского у стойки бара.
На самом деле Каминский происходил из семьи номенклатурщиков и с детства ни в чём не нуждался.
Ему отчаянно нравилась Анжела, но он её раздражал.
Платон напрягался при виде Каминского и у него сжимались кулаки.
– Если этот… подойдёт, я дам ему по морде. – сказал он сразу, как увидал издалека длинную фигуру Каминского.
Лицо поэта всегда украшала улыбка, отчего Кузя за глаза называла его Гуимпленом.
Это бы не понравилось Каминскому ни при каких раскладах.
– А ну, налейте мне водки.– приказал Платон.
– Ты же за рулём.– улыбнулась Анжела.– И потом, мы пьём шампанское.
– Мне плевать.
– Послушай, но тебе же ехать за Тамарой!
Платон и слышать ничего не хотел. Он хотел крови и алкоголя. Или того и другого, но в другой последовательности.
***
Лениво поднявшись с ложа, Анжела потащилась навстречу звуку звонка домофона.
– Кого принесло? – прохрипела Платон ей вслед.
– Это Тамара.– отозвалась Анжела.– Твоя жена.
– Сколько времени? Где я?
Пока Тамара поднималась на лифте, Анжела бросила Платону одежду на постель.
– Вот мы и доигрались. Ты помнишь, что вчера сделал с Каминским?
– Нет.– замотал головою Платон.
– Ты был ретиарием и кричал, что поймаешь его, как рыбу. Снял скатерть со стола и ловил его по ресторану.
Платон закрыл глаза руками.
– Я идиот.
– Я бы сказала больше.
Анжела накинула халатик, выгодно оттеняющий её смуглую кожу и быстро заплела косу. Тамара уже стучала в дверь.
– Не тебя! Не тебя надо бить! Его! – закричала она с порога и жирные щёчки её затряслись, краснея на глазах.
Платон, помятый, с огромным следом на щеке от сладкого сна и жёсткой подушки, вышел из спальни.
– Приветствую… – он « отдал честь» ладошкой.
Цезия Третья похорошела за время отдыха и была одета с иголочки.
– Вива сказала, что ты домой не приходил.
– Нет, не приходил сегодня. – подтвердил Платон.
– Он тут ночевал… – сказала Анжела.
Цезия Третья упёрла руки в боки.
– Я что, дура? Думаешь, не вижу?
– Тамара, едем уже.– растерянно сказал Платон и обернулся к Анжеле.– Я опоздаю на репетицию. Но ненадолго. Мне нужно заскочить в одно место.
– Хорошо.– кивнула Анжела.
Платон послушно поплёлся за тяжеловесной Тамарой.
Они спустились вниз, не говоря друг другу ни слова и только в машине Платон спросил :
– Вива знает, что наш брак на ладан дышит?
– Знает… – вздохнула Цезия Третья.– Я ей сказала, что ты козёл.
– А зачем? Мудрая мать?
– Чтобы тебе было стыдно! Козлу!
– А это ничего, что я, как бы, выполняю все свои супружеские обязанности… и всё такое…
– Всё такое. Поехали!!! Всё такое!!!
Подбородки Цезии затряслись. Новый льняной костюм, плотно охватывающий её выдающийся живот натянулся от булькающего смеха. Из головы полезли горгонические змеи.
Платон замер.
– А… это что у тебя… что у тебя? – спросил он речитативом.– Что у тебя?
– Что, Платон? – испугалась Цезия Третья.
Платон стал отмахиваться от Цезии, расплывающейся в бесформенную жирную каракатицу.
Он затрясся, вжал голову в плечи и схватился обеими руками за руль.
– Отпусти меня! Отпусти, пожалуйста! – крикнул он.
– Идиот! Что вы там употребляли!
Цезия Третья испугалась ещё больше. Она выпрыгнула из машины, с яростью ударила босоножкой по колесу и ушла в сторону проспекта ловить такси.
Платон выдохнул.
Змеи и каракатицы пропали. Впереди, за лобовым стеклом на арке Императора Тита сидели два стервятника и тёрлись красными шеями друг о друга. За аркой, пинии, покрытые зеленцой первой листвы, как нежным загаром, в рассветных лучах солнца, выстроились идеальной перспективой, чтобы слиться в один зелёный пролесок за садами Марциала.
– Горе сабинянкам, Рэма сыны взнуздали своих жеребцов крутолобых… – прошептал Платон и выехал с парковки.
…
Платон боялся ехать домой, поэтому поехал к Кузе, на Бауманскую.
Он очень ожидал застать её одну, но дверь открыл какой -то кудрявый молодец в полотенце, едва держащемся на чреслах.
– Елена Дмитриевна дома? – спросил Платон, задыхаясь и, не дождавшись ответа, отодвинул молодца, как статую, перекрестил ларарий и вбежал в спальню Кузи
Та уже не спала, а так – же неоригинально завёрнутая в полотенце, над которым вилась вытатуированная на левой груди надпись: «Узус эст оптимус магистер», сидела среди разобранной постели с круассаном в руке.
Перед Кузей на овальном подносе стояла чашечка на блюдце, её любимая чашечка из кузнецовского фарфора, зелёная, с волнистыми краями.
– А! – подняла руку с круассаном Кузя и с него полетели тонкие лепестки теста.– Иди, иди как сюда! Дима! Сделай Платону латте!
Молодец, названный Димой, не изменив мраморного выражения лица, кивнул и исчез на кухне.
– Ну? – улыбнулась Кузя, когда Платон сел на край кровати.– Чего ты притащился сюда в такую рань? Опохмелиться?
– Ты же знаешь, что я не пью… с утра…
– А… да? Уже не пьёшь? Завязал?
– Давно уже.
– Ну а то, что ты вчера устроил у Каминского, что?
– А что я устроил? – чистосердечно спросил Платон.– Что– нибудь страшное?
Кузя пристально взглянула на Платона, сощурив глаза.
– Ты вместе с Каминским бил о голову бутылки. Ты поспорил с ним, что разобьёшь одну… А он сейчас в больнице, из– за тебя, с сотрясением мозга. А потом ты хотел замотать его в скатерть!
– Как так? От удара бутылкой?
Платон захохотал, ощупывая голову. Да, на макушке вылезла шишка. Хорошо, что он был не лысым!
– От удара хрустальным графином. – недовольно произнесла Кузя и откусила круассан.– У него же всё глобально, ты понимаешь? Бутылки не для него.
Платон сел возле постели Кузи. Наконец, молодец принёс поднос с чашкой и круассанами.
– А это что за шевалье Дарсини? Что за морда? – спросил Платон в упор, кивнув на парня.
Кузя засмеялась.
– О! Ну ты, виконт Де Вальмон! Ты сейчас другую роль играешь. Вызернись!
– Я не могу вызерниться. Я и виконт, и Нерон…
Молодец уже оделся, и из прихожей крикнул:
– В Баулах! В третий день Малых Квинкватрий!
– Благослови тебя Юпитер Высоколобый, милый мальчик. Договорились.
Дверь щёлкнула затвором. Кузя протянула руку.
– У меня нет для тебя тессер и ассов, но есть приглашение выпить и полежать рядом. Будешь «Хенесси»?
– Чёрт с тобой, матрона! Буду.
– Тогда сходи за ним сам, пока я наряжусь.
– Елена Дмитриевна, давайте заканчивать уже с этим римским карнавалом… – застонал Платон, отодвигая ногой поднос.
– Мы ещё не начинали! – торжественно сказала Кузя.– А этот мальчик! Этот мальчик – твоя смена!
Последнюю фразу Кузя не произнесла.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?