Текст книги "Приключения Оффенбаха в Америке"
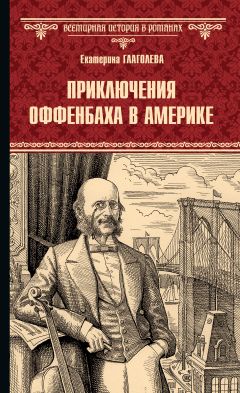
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Разумеется, больше всего мне хотелось увидеть музыкальный спектакль, поэтому через неделю после приезда я вновь побывал в театре Бута, где давали «Северную звезду» с английской певицей мисс Келлог – ей года тридцать два – тридцать четыре, и голос очень хорош. Оперу Мейербера плохо отрепетировали, ей не хватало цельности, особенно в финале второго акта. Хор и оркестр не поспевали друг за другом. Казалось, что слушаешь Вагнера. Меня развеселило, что в партере, среди зрителей, сидели несколько тромбонов и фаготов, время от времени подававших голос. «Кто бы это мог быть, – подумал я, – любители-добровольцы, явившиеся оказать бескорыстную (и непрошеную) помощь оркестру?» Впрочем, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять причину этой аномалии: в оркестре не хватило места, и духовые отправили за барьер.
Вагнер, строящий собственный театр в Байройте, хочет спрятать оркестр под сценой – наверное, его музыка звучит проникновеннее, если доносится из преисподней. Оказывается, он неоригинален: эту идею уже опробовали в театре «Лицей». Сам я там не был, поскольку театр закрыт на всё лето, но мне рассказывали, что музыканты, загнанные в яму, невыносимо страдали от жары и спасались от нее как могли. В первый же вечер скрипач развязал галстук и расстегнул жилет. На следующий день альты поснимали пиджаки и играли в одних сорочках. Через неделю уже все оркестранты перестали стесняться. И вот однажды вечером публика вдруг увидела, как из-под пола идет дым, началась паника – а это курили музыканты! После этого оркестранты мужественно надели фраки и вернулись на свое место в зале.
Имеется в Нью-Йорке и своя Опера, но над ней как будто тяготеет проклятие. Меня это сразу заинтересовало, ведь в молодости я долго не мог отделаться от ярлыка jettatore – человека с дурным глазом (возможно, я как-нибудь вам расскажу, это довольно забавно… хотя мне было не до смеха). Уверен, что и вам будет любопытно узнать эту историю, так что слушайте, а я пойду собирать вещи: завтра утром я отправляюсь в Филадельфию.
Интермедия: ПРОКЛЯТИЕ ОПЕРЫ
Оперный театр на углу Восьмой авеню и 23-й улицы выстроил нефтепромышленник Сэмюэл Пайк из Цинциннати, потратив на него миллион долларов. Зал, рассчитанный на тысячу восемьсот зрителей, но способный вместить вдвое больше, торжественно открыли в январе 1868 года «Трубадуром» Верди, после чего там за четыре месяца представили семь оперетт вашего покорного слуги. Однако Академия музыки с 14-й улицы составляла Опере серьезную конкуренцию, и через год после открытия Пайк продал свой театр Джеймсу Фиску, вице-президенту железнодорожной компании «Эри», который переименовал его в Гранд-Опера.
«Большой Джим», «Бриллиантовый Джим», «барон-разбойник» – какими только прозвищами ни наделили Фиска, который и вправду был большой оригинал. Он сделал головокружительную карьеру от лоточника до биржевого маклера, обогатился на аферах с ценными бумагами и к тридцати двум годам превратился из худосочного оборванца в тучного миллионера, вытянув кончики усов в тонкие стрелки а-ля Наполеон III. Свою контору он устроил на втором этаже Гранд-Опера и прямо из своего кабинета спускался в подземный ход, который велел прорыть от театра к особняку своей любовницы.
Пятиэтажный особняк с прислугой и обстановкой он подарил ей сам, а еще накупил ей платьев, изумрудов на двести пятьдесят тысяч, бриллиантов, жемчугов, и это не считая пятидесяти тысяч на мелкие расходы… Всё дело в том, что Джози Мансфилд не отдалась ему сразу, а заставила поверить в то, что она девушка бедная, но честная (хотя до этого ходила по рукам). В момент их встречи у нее было всего одно платье и давно не плачено за квартиру, но Джози пошла ва-банк и выиграла: после трех месяцев ухаживаний Большой Джим пал к ее ногам. Он был готов исполнить любой каприз своей красавицы, кроме одного – не дал ей роли в своем театре, где 4 января 1869 года состоялась американская премьера моей «Периколы».
В конце лета Фиск пустился в новую авантюру, начав скупать золото из правительственных запасов. В этом ему помогал Джей Гулд – президент той же самой компании. Я не финансист и избавлю вас от подробностей, в которых мало что понимаю. Скажу лишь, что их махинации ввергли в хаос экономику всей страны на несколько месяцев. В «черную пятницу», когда курс золота резко упал, вызвав панику на Уолл-стрит, Фиск забаррикадировался в Опере, опасаясь за свою жизнь. Но всё в конце концов обошлось: правительство спасло США от катастрофы, а подкупленный чиновник уберег Фиска с Гулдом от тюрьмы. На радостях Джози решила устроить у себя дома новогоднюю вечеринку, а Фиск пригласил на нее своего тайного партнера Неда Стокса, нефтепромышленника из Бруклина, попросив Джози быть с ним полюбезнее.
Она слишком рьяно взялась выполнять его поручение: Нед был моложе и красивее Джима. Скоро он сделался частым гостем в ее апартаментах. Фиску это, конечно же, не нравилось, а девице хотелось сохранить обоих любовников, потому что Стокс был не так богат. Не могли бы они и дальше дружить втроем? На это Фиск возразил ей со знанием дела, что нельзя ехать сразу на двух паровозах по одной колее, причем в противоположных направлениях. Джози порвала с ним, написав «окончательное» письмо, и стала ждать, когда он прибежит просить прощения. Но Фиск преспокойно завел себе другую любовницу, да еще какую – Селин Монталан!
Ах, Селин! Она-то умела и играть, и петь, и танцевать. В четыре года дебютировала в «Комеди-Франсез», а в шестьдесят шестом году сыграла шведскую баронессу в моей «Парижской жизни». Потом ей подвернулся богатый русский вельможа – Анатолий Демидов, который из политических убеждений женился на Матильде Бонапарт, сам оплатив ее приданое, а потом при всех дал ей на балу пощечину, когда она приревновала его к любовнице, хотя тоже ему изменяла. Селин успела родить Демидову трех детей, прежде чем он скончался в Париже. Тут началась война с Пруссией, и после Седанской катастрофы Селин Монталан уехала на гастроли в Америку. Фиск пригласил ее в свой театр играть «Великую герцогиню Герольштейнскую»; она оказалась в его вкусе – тоже пухленькая и озорная. Ей было тогда двадцать семь лет.
Джози Мансфилд не сдавалась: она подала на Фиска в суд за клевету, потому что он заставил ее бывшего слугу показать под присягой, будто она сговаривалась со Стоксом, чтобы выудить у Джима деньги. В ответ Фиск добился ареста Стокса за растрату и прибрал к рукам его нефтеперегонный завод, но суд не признал Стокса виновным и постановил выплатить ему десять тысяч долларов компенсации. Этого Стоксу показалось мало, он пригрозил опубликовать любовные письма Фиска, которые передала ему Джози, если тот не заплатит ему больше. Фиск подал на него в суд за шантаж.
Тем временем Селин Монталан вернулась во Францию, и Фиск стал искать ей замену. В начале семьдесят второго года он отправился в Большой Центральный отель, поднялся по лестнице для дам на третий этаж и вдруг столкнулся на площадке с поджидавшим его Стоксом, который дважды выстрелил в него из «кольта». Фиск представлял собой крупную мишень; первая пуля угодила в живот, вторая – в левую руку, которой он пытался закрыться. Совершив свое черное дело, Стокс бросился бежать, но его схватили. Фиск умер на следующее утро, успев назвать полиции имя своего убийцы. Тело выставили для прощания в фойе Гранд-Опера, и мимо гроба прошло не меньше двадцати тысяч человек, пока впятеро больше толпились на улице, дожидаясь своей очереди. Хотя в порядочном обществе Фиска порицали, простые рабочие с железной дороги искренне его любили и скорбели по нему. Среди них он был известен как «полковник Фиск», поскольку числился командиром 9-го пехотного полка Национальной гвардии Нью-Йорка. В этот полк были обязаны записаться все служащие, состоявшие у него на жалованье, и когда Фиск ухаживал за очередной своей пассией, то вместо серенад устраивал под ее окнами парад своего полка – надо полагать, в это время железная дорога не работала. Письма Джима к Джози всё-таки попали в печать, но читатели газет были разочарованы: в них говорилось только о любви и ни слова – о ловких махинациях.
Стокса судили целых три раза. Он уверял, что не нападал, а защищался, пытался обвинить в смерти Фиска неумелых врачей… В первый раз присяжные не смогли вынести вердикт, но прошел слух, что их подкупили, и дело отправили на пересмотр. Во второй раз Неда приговорили к смерти, однако он подал апелляцию. Наконец, в третий раз он отделался шестью годами тюрьмы, из которых отсидел четыре.
Джози Мансфилд уехала в Париж; сопровождавший ее стройный молодой человек на самом деле был женщиной, игравшей мужские роли в водевилях. В Париже у нее обнаружили рак, и она вернулась умирать на родину.
Между тем осиротевшая Гранд-Опера переходила из рук в руки, но каждый новый владелец неизменно разорялся: деньги утекали, точно вода в песок. В конце концов в театральном мире этот зал стали называть «Ионой», то есть приносящим несчастье, и ни один уважающий себя директор уже не хотел его арендовать.
Ах, зачем только в Гранд-Опера ставили мои оперетты? Чего доброго, начнут говорить, что это я развратил американское общество.
Картина четвертая: Филадельфия
Наша компания – Булары, Марецек и я – прибыла в Филадельфию в половине десятого вечера, в буквальном смысле слова умирая с голоду. Интересно, что перед отъездом я дал два банкета у Брунсвика: в честь моих музыкантов и для нью-йоркского бомонда – журналистов, артистов, финансистов, а также иностранных гостей, прибывших на Выставку (русский инженер Скальковский произнес длинную речь на превосходном французском), – но о двух этих пиршествах, последнее из которых завершилось лишь на рассвете нынешнего дня, мой желудок не сохранил ровным счетом никакого воспоминания; вот уж верно, что впрок наесться нельзя. Поэтому мы спросили у первого попавшегося туземца, где здесь хороший ресторан; он рекомендовал нам заведение француза Петри. Вскоре мы уже сидели там за столиком и стройным хором звали гарсона.
– Принесите нам для начала хороший жюльен.
Гарсон состроил гримасу.
– Не советую вам его заказывать: овощи слишком жесткие.
– Хорошо, обойдемся без супа… Лосось у вас есть?
– О, лосось! Конечно, есть! Причем давно. Он уже не первой и не последней свежести.
– Ну, принесите нам стейк с кровью.
– Повар их скверно готовит.
– Клубнику.
– Она гнилая.
– Сыр.
– Пойду поищу, он где-то бродит.
– Послушайте, гарсон, вашему хозяину, верно, от вас небольшая корысть?
– Мне важнее, чтобы клиенты были довольны.
Ответ достойный, вполне в духе «города братской любви», ведь именно так переводится название «Филадельфия», но что поделать: мы живем в мире наживы.
– На месте месье Петри я выставил бы вас за дверь.
– Месье Петри так и сделал, не дожидаясь ваших советов. Сегодня вечером я служу в последний раз.
Он поклонился, ушел… И мы прекрасно пообедали.
Отель «Континенталь» на углу Честнат-стрит и 9-й улицы оказался полной копией отеля на Пятой авеню в Нью-Йорке, только он кишел публикой, потому что американцы устраивали большой ужин в честь императора Бразилии – гостя Выставки, намеревавшегося ее покинуть.
В мой номер долетала музыка – не самый сыгранный оркестр исполнял попурри из «Орфея в аду». То ли так приветствовали отъезд дона Педро, то ли мое прибытие сюда. Возможно, и то, и другое. А может быть, оркестр только это и умел играть.
На следующее утро, в десять часов, я спустился в столовую на завтрак. Снова та же картина, что и в Нью-Йорке, но с одним примечательным отличием: здесь прислуживали только негры и мулаты. Я не стал выяснять, настоящие они или ваксовые. За тремя десятками столиков в огромной столовой сидели по большей части прекрасные дамы в роскошных туалетах, а вокруг них увивались сорок или пятьдесят негров. Они показались мне довольно привлекательными, а мулаты – и вовсе красавцами. Кстати, на стене я заметил портрет Александра Дюма-отца.
Да, я вспомнил еще один анекдот, который мне рассказал Жюль Жанен – король критиков. Дюма был завсегдатаем его ужинов, на которые собирался весь цвет литературного Парижа. На одном из таких собраний ему представили молодого американца, сына богатых родителей, и Дюма пригласил его к себе на завтрак на следующий день. Ему хотелось удивить иностранца своим «замком Монте-Кристо» в Пон-Марли, выстроенным в стиле Ренессанс, – с цветочками и ангелочками, гербами и вензелями, библиотекой, мавританской гостиной, музыкальным салоном и девизом, начертанным над крыльцом: «Я люблю того, кто любит меня». Обозрев всё это великолепие, гость спросил, слегка замявшись, правда ли, что в роду мистера Дюма были африканцы. «Да, – ответило солнце нашей исторической драматургии, – и я этого не стыжусь». «А кто был ваш отец?» – продолжал расспросы гость. Дюма показал ему портрет наполеоновского генерала-мулата в полный рост, при всём параде. «А ваш дед? – Он был похищен в Африке и продан в рабство на Мартинику[13]13
На самом деле дедом Дюма был французский дворянин Александр Антуан Дави де ла Пайетри. Купив на Сан-Доминго черную рабыню Мари-Сесетт Дюма, он прижил с ней четырех детей-мулатов (в том числе сына Тома-Александра Дюма, ставшего генералом при Наполеоне) и дал ей свободу.
[Закрыть]. – А ваш прадед?» Вот тут-то и проснулся африканский темперамент. «Обезьяной! – прорычал Дюма. – Мой род начинается там, где заканчивается ваш!» Если это правда (а у меня нет оснований не верить честнейшему Жанену), то отец Эдмона Дантеса замечательным образом предвосхитил теорию мистера Дарвина, наделавшую столько шуму в Америке.
После завтрака, захватив с собой Буларов, я отправился на выставку, чтобы осмотреть ее. Она открылась десятого мая, то есть три недели назад. В первый день туда набилось 186 272 человека (я почерпнул эту цифру из газет, американцы любят точность), хотя приглашения были только у ста десяти тысяч. Вот вам преимущество парка перед театром: нельзя никому отказать из-за отсутствия мест. Сто восемьдесят шесть тысяч! Ужас! Во всем Кельне не наберется столько жителей, там что-то около ста тридцати пяти тысяч с небольшим. Не хотел бы я очутиться посреди этой толпы. И не только из-за толчеи, отдавленных ног и неприятных запахов. Все газеты очень подробно описывали церемонию открытия, поэтому я составил себе представление об этом премьерном спектакле.
Предваряемые конным эскортом, президент Улисс Грант и его супруга прибыли к главному зданию Выставки и под энергичные звуки духовых и барабанов заняли свои места на эстраде, где к ним присоединилась императорская чета из Бразилии – дон Педро II и донья Тереза, первые правящие монархи, ступившие на землю первой Республики нового времени. Затем оркестр в сто пятьдесят человек под управлением Теодора Томаса сыграл гимны двенадцати стран-участниц и последним – «Да здравствует Колумбия», гимн США. Жанровым разнообразием эта часть концерта не блистала, поскольку почти все государственные гимны представляют собой военные марши. Когда они закончились, публика вздохнула с облегчением, но тут оркестр грянул «Марш Столетия», написанный Вагнером, – двенадцать минут шума и перекрывший его выстрел из пушки, который дал публике понять, что всё позади. Критик из нью-йоркской газеты не обнаружил в этом произведении «американского духа». Чего же вы ждали, приглашая немца? Сыграли бы лучше «Когда Джонни вернется домой» – старинную ирландскую балладу, переделанную под марш, для которого Патрик Гилмор (тот самый) написал новые слова. Я слышал этот марш и был впечатлен: никакой глупой помпезности, простота и внутренняя сила. Не зря он водил в бой и южан, и северян, но именно поэтому его и не станут исполнять сейчас в Филадельфии: про Гражданскую войну все стараются забыть, о президенте Линкольне и речи нет, у всех на устах только Вашингтон, Франклин, «Единство или смерть» и всё такое.
Вагнеру заплатили за его творение пять тысяч долларов, а раз уплачены такие деньги, пришлось слушать. Где большие расходы, там непременно есть женщина: мысль обратиться к Вагнеру принадлежала миссис Элизабет Гиллеспи из Дамского комитета по организации празднеств, а ей подсказал эту идею немец Томас. (Мадам Гиллеспи – правнучка Бенджамина Франклина, поэтому к ее мнению прислушиваются.) Вагнер милостиво согласился принять деньги: они нужны ему для театра в Байройте, бюджет которого составляет внушительную сумму в графе «дебет».
Не будем слишком строги к нему: разве кто-нибудь из нас отказался бы от больших денег за однодневку, слепленную кое-как? Во время парижской Выставки шестьдесят седьмого года толстяку Россини, уже лет десять как сочинявшему новые блюда вместо опер, заказали гимн для церемонии вручения наград, который назывался ни много ни мало «Гимн Наполеону III и его доблестному народу». Россини не присутствовал на премьере вместе с императорской четой и турецким султаном, хотя ему-то не надо было плыть через океан, а всего-навсего приехать в карете из Пасси. Гимн исполняли больше тысячи музыкантов и хористов (перечислив в партитуре все необходимые инструменты, Россини приписал: «Простите, что так мало»), в конце звонили колокола (французский, русский, итальянский и венгерский) и палила пушка. Журнал «Майский жук» поместил на обложку карикатуру: Россини дудит в трубу, одновременно раскачивая колокол и поднося запал к орудию. Извинялся он потому, что для торжественного закрытия Выставки пятьдесят пятого года Берлиоз собрал тысячу двести музыкантов и использовал электрический метроном, чтобы пять подручных дирижеров не сбивались с ритма.
Вы можете подумать, что во мне говорит черная зависть, ведь считается, что все музыканты завидуют друг другу. Да ни боже мой! Завидуют тому, чего не имеют сами, а талант всегда поклонится таланту. Я, например, боготворю Моцарта, преклоняюсь перед Мейербером, почитаю Обера и люблю Россини. К двухлетию «Буфф-Паризьен» я подготовил великолепное представление: «Директор театра» Моцарта, «Дон Брускино» Россини, «Куклы Виолетты» Адана! В зале были граф де Морни со своей супругой Софи Трубецкой, графиня Валевская, князь Понятовский, сюринтендант Императорских театров и префект парижской полиции, Россини же brillait par son absence[14]14
Блистал своим отсутствием (франц.).
[Закрыть]; он присутствовал на репетициях, но на премьеру не пришел, написав мне: «Жертвой – сколько угодно, соучастником – никогда!» И всё же он назвал меня «Моцартом с Елисейских Полей» еще при жизни – я хочу сказать, что он действительно произнес эти слова, а не журналисты вложили их ему в уста после смерти, покойник же не подаст на вас в суд за клевету. Некоторые усмотрели в моей любви к гениям попытку погреться в лучах чужой славы – но кто еще вернул бы блеск этим, увы, позабытым произведениям? Во Франции прежде знали только три отрывка из «Директора театра»; я добавил к ним еще четыре, взяв их из венской партитуры, и велел Галеви и Баттю переписать либретто. «Дон Брускино», который раньше считался шуткой молодого человека (во время увертюры скрипачи время от времени стучат смычками по пюпитру – экая экстравагантность!), теперь вдруг оказался «маленьким шедевром». Благодаря кому? Благодаря мне! Поэтому совершенно справедливо, что мой портрет соседствует с портретом маэстро на потолке Театра Россини, открывшегося к Всемирной выставке шестьдесят седьмого года (художник изобразил там еще Обера, Верди, Гуно и Виктора Массе[15]15
Виктор Массе в двенадцать лет поступил в Консерваторию и учился игре на рояле у Циммермана и композиции у Галеви. В двадцать два года он получил Римскую премию, в тридцать восемь стал хормейстером парижской Оперы. В промежутке он написал одиннадцать комических опер, в том числе две, считавшиеся шедеврами: «Галатея» (1852) и «Свадьба Жанетты» (1853). Фраза: «Ах, как хорошо безделье, когда вокруг нас всё бурлит!» из «Галатеи» в ХХ веке стала названием одной из передач на Международном французском радио. Рихард Вагнер не скрывал своего восхищения музыкой из «Свадьбы Жанетты», заявляя при этом, что опера Моцарта «Так поступают все женщины» оставляет его совершенно равнодушным. Музыка Массе была легкой, истинно парижской, хотя и тщательно выстроенной, требовавшей высокого исполнительского мастерства. Она нравилась широкой публике и доставляла удовольствие. Однако его звезда закатилась еще при жизни: к концу столетия музыка Массе казалась такой же скучной и заурядной, как и его внешность.
[Закрыть] – неплохая компания). И с младшими своими современниками я не менее обходителен! Когда музыку к «Улиссу» в «Комеди-Франсез» заказали Шарлю Гуно (а не мне), «великолепное ее исполнение оркестром» под моим руководством «умножило ее достоинства», как писали в прессе. А Лео Делиб? Я первым разглядел его талант и переманил к себе из «Фоли-Нувель», а когда в Опере поставили «Коппелию», несравненный его балет, разве ему завидовал я – автор «Бабочки»? Вовсе нет! Но Вагнер!
ДУЭТ ОФФЕНБАХА И ВАГНЕРА
Giocoso
Ремарка: роль Вагнера – мимическая: он всё время пытается что-то сказать, но не может и слова вставить. Оффенбах (1,84 м) смотрит на Вагнера (1,63 м) сверху вниз.
Оффенбах (на мотив арии Лепорелло с донжуанским списком):
Месье Вагнер,
вы великий композитор,
остроумный и несравненный,
и считались бы первым из первых,
но вот только пред вами стоят: (bis)
Моцарт, Гайдн, Бетховен, Вебер,
Мендельсон и Доницетти,
Шуберт, Глюк, Герольд, Беллини,
Галеви и Буальдьё,
Плюс Обер и плюс Россини
И, конечно, Мейербер.
Безусловно – Мейербер!
Вы утверждаете, что создали новую немецкую музыку, совершив то, чего никто прежде вас не делал, но разве музыка рождается из ничего – то есть из поврежденного ума одного человека?
(Вагнер делает протестующий жест.)
Нет, в самом деле! Вспомните, с чего вы начинали! Вашего «Риенци» фон Бюлов назвал «лучшей оперой Мейербера» и был совершенно прав. Собственно, этим и объясняется ее успех в Дрездене после отказа от нее парижской Оперы. Вы же приписали весь успех себе, а неудачи – проискам Мейербера, который был совершенно ни при чём: дирекция Оперы не открыла своих дверей двадцатишестилетнему мальчишке, сидевшему в долговой тюрьме, а публика не высидела бы спектакль, который длится шесть часов, это каждому ясно.
(Вагнер топает ногой.)
Что же касается провала вашего «Тангейзера», это неизбежное следствие вашего упрямого желания стать полной противоположностью Мейербера. Поймите, он богаче вас не потому, что он еврей, а потому что пишет прекрасную музыку и не делает ни долгов, ни одолжений!
(Вагнер становится красным, как рак.)
Припомните: когда вы рассказали сюжет «Тангейзера» Оберу, тот обрадовался, предвкушая красивое зрелище, и обещал вам успех, и что же? Вы репетировали целый год – целый год! Государственный министр граф Валевский, заведовавший культурной жизнью, даже просил директора Оперы напомнить вам, что парижский Императорский театр не имеет себе равных в Европе и его возможности устраивают всех французских композиторов, а также Россини, Верди и Мейербера. Вас вообще не пустили бы в этот театр, если бы не заступничество Меттернихов перед Наполеоном III. В вечер премьеры публика скучала, вас освистали, причем не только клака[16]16
Клака – наемные зрители, которые аплодируют или освистывают (по желанию нанимателя).
[Закрыть]. И зря вы обвиняли во всём продажную прессу и оскорбили Берлиоза, который якобы написал плохую рецензию за браслет, подаренный Мейербером его жене. Мой приятель Вольф, журналист из Фигаро и уроженец Кёльна, никаких браслетов не получал и был вполне объективен: «В ужасно скучном произведении, которое я услышал, есть настолько красивые места, что надлежит закрепить их в своей мысли, чтобы идти в ногу со временем», – вот что он написал после премьеры, на которой я тоже был и могу подтвердить его слова насчет скуки. Всего три представления вместо восьми после того, как вы целый год мучили оркестр и артистов! Обер потом клялся всеми святыми, что никогда не говорил, будто Вагнер – это Берлиоз, только без мелодии. Конечно, не говорил! Это сказал я.
(Вагнер тычет пальцем в Оффенбаха.)
Ах да, разумеется! Евреи не могут писать хорошую музыку, их интересуют только деньги! Я слышал, эта ваша брошюрка пользуется в Германии большим спросом среди других неудачников! Во Франции над ней могут только посмеяться – кстати, это единственный способ, каким вы способны развеселить публику.
(Вагнер мрачнеет.)
Да-да, вспомните ваш хор для водевиля «Спуск от заставы Куртий», который должен был звучать в финале, сопровождая пантомиму! То, что вы нагородили, было невозможно петь, поэтому пантомима прошла под сопровождение оркестра, труды либреттистов пропали даром, хористы не получили жалованья. А вот когда я написал «Рейнских русалок», вторгнувшись в вашу епархию немецких романтических легенд (либретто, кстати, сочинил Шарль Нюиттер – ваш поклонник и переводчик «Тангейзера»), репетиции в венском придворном театре Кернтнертор заняли меньше месяца, на премьере меня вызывали один раз после первого акта и по три раза после двух остальных, так что Эрминии, приехавшей из Парижа, не пришлось сгорать со стыда, совсем наоборот. Хор эльфов вызвал восторженные похвалы; аллегро до мажор из балета, в котором скрипки подражают гудению шмелей, сочли великолепной находкой. Ваших же «Тристана и Изольду» Венская опера ставить отказалась после семидесяти семи репетиций, которые окончательно свели с ума беднягу Алоиза Андера, мир его праху, лишив меня (и всё человечество) великолепного Франца[17]17
Алоиз Андер (1821–1864) – один из самых известных немецких теноров XIX века. Его настоящая фамилия Андерле, он родился в Либице в Богемии, дебютировал в Вене, на сцене Кернтнертортеатра, в 1845 году, сразу в главной роли (Страделла в одноименной опере Фридриха фон Флотова, друга юности Оффенбаха). Через пять лет он имел неменьший успех в опере «Пророк» Мейербера (Иоганн фон Лейден), затем блистал в «Лоэнгрине» Вагнера. Его голос был несильным и немного глуховатым, зато Андер, помимо красивой внешности, обладал большим актерским талантом и умел передавать голосом эмоции своего персонажа, благодаря чему стал кумиром венской публики. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, Андеру приходилось принимать стимулирующие средства. Над ролью Тристана из оперы Вагнера «Тристан и Изольда» Андер работал с 1861-го по 1863 год, но постановку отменили. В феврале 1864-го состоялась премьера «Рейнских русалок» Оффенбаха, где Андер исполнял роль Франца Вальдунга. К тому времени состояние его душевного здоровья уже внушало опасения, и Оффенбах был вынужден сократить партию Франца. В последний раз Андер вышел на сцену 19 сентября 1864 года в роли Арнольда из «Вильгельма Телля» Россини. Вскоре певец впал в безумие, его отвезли поправить здоровье в Вартенберг в Богемии (ныне Страж-под-Ральскем в Чехии), где он и скончался 11 декабря.
[Закрыть].
(Вагнер бормочет немецкие ругательства.)
Вы бросили вызов общественному мнению и тонкому вкусу, вот и весь ваш вклад в искусство.
(Оффенбах отворачивается от Вагнера.)
Простите, господа, я отвлекся и позабыл, что вам-то это совсем не интересно, вы ждете продолжения рассказа об открытии выставки. Wenn Sie mich entschuldigen würden… Бр-бр-бр. Миль пардон!
Тевтонский праздник продолжался. После молитв и благословений была исполнена кантата «Столетнее размышление Колумбии» на музыку Дадли Бака (он американец, но учился в Лейпциге), затем настал черед патриотических речей, длившихся несколько часов. Когда они закончились, вся публика со слезами радости подхватила «Аллилуйю» Генделя (тоже немца) в исполнении тысячи хористов, которая завершилась под аккомпанемент «Карильона столетия», заводских гудков и залпа из ста орудий. Президент и компания проследовали в Зал машин, где Грант и Дон Педро запустили гигантскую паровую машину Корлисса – самую большую в мире. Американцы любят, чтобы у них было всё самое большое. Паровую машину изобрели англичане, но им не пришло в голову придать ей такие размеры – высотой с четырехэтажный дом! Котлы гудели, поршни свистели, колеса крутились – по крайней мере, это зрелище было доступно и из самого дальнего ряда.
Все журналисты сравнивали публику первого дня Выставки со стадом овец: стоит кому-нибудь одному пойти налево или направо, как тысячи других тотчас устремляются туда же, толкаясь, пихаясь, крича, отдуваясь, ругаясь… Люди, явившиеся поглазеть на диковинки, ушли домой, вконец измученные и так ничего и не увидев.
Интерес публики к новой пьесе обычно спадает через две недели (за редкими исключениями типа «Орфея в аду», «Прекрасной Елены», «Парижской жизни»… остановлюсь на этом), поэтому мы рассчитывали всё осмотреть не торопясь и без помех. Ах, я совсем забыл, что сегодня воскресенье! Все павильоны Выставки закрыты. Вот уж благословенный Господом день! Нам попалось навстречу только несколько человек, выходивших из церкви с требниками в руках и похоронным выражением на лицах. Когда я ненароком улыбнулся, меня чуть не испепелили гневными взорами. Если бы я, не ровен час, рассмеялся, меня бы сдали в полицию.
Ничего не поделаешь, мы отправились гулять по Филадельфии.
Улицы великолепны, по ширине не уступают бульвару Османа. Справа и слева выстроились домики из красного кирпича, окна обрамлены белым мрамором. Там и сям можно встретить уютный маленький отель. (Для владельцев гостиниц Выставка – манна небесная, цены выросли втрое.) Но больше всего здесь церквей. Неужели хорошеньким жительницам Филадельфии надо замаливать столько грехов? Я бы простил им и так.
На площади, образованной пересечением Брод-стрит и Маркет-стрит, возводят новую ратушу – City Hall, которая вся покрыта строительными лесами; мне с гордостью сообщили, что она обойдется в сорок миллионов долларов, то есть двести миллионов франков. В Америке дорого – значит красиво.
Побродив еще немного по берегу реки Скулкилл (это какое-то голландское название) и совершенно не зная, куда себя деть (всё ведь закрыто), мы вернулись в отель удрученные. Нам посоветовали осмотреть Индейскую скалу в парке Фэрмаунт. Я нанял экипаж, и мы отправились.
Ехать пришлось часа два, и всё это время находишься в парке – гордости филадельфийцев. Я понимаю их чувства, поскольку в жизни не видел ничего более живописного: крошечные домики, прячущиеся за кустами, извилистые речушки под деревьями, прохладные долины, тенистые овраги, великолепные рощи и везде роскошная зелень! Время от времени на пути попадаются рестораны и кабаре, полные людей. Мужчины развалились в креслах-качалках или сидят на обычных стульях, но положив ноги на что-нибудь, чтобы были выше головы, – у американцев так принято. Перед ними – большие стаканы с красным, зеленым или желтым лимонадом: вы уже знаете, что крепкие напитки по воскресеньям запрещены.
Я видел такие стаканы раньше – они похожи на пивные, и сам напиток называют рутбир – «корневое пиво». Услыхав слово Bier, я возмутился: я родился и вырос в Кёльне, выпил целое море кёльша, мне ли не знать, что такое пиво! Насладившись янтарным цветом прозрачной влаги в запотевшем высоком стакане, нужно выпить ее залпом и на миг вознестись на вершину блаженства, пока легкая горчинка во рту не напомнит о том, что мы всё еще на грешной земле. Вот что такое пиво, а не сладенькая пенящаяся водичка доктора Хайрса!
Надо полагать, кое-кто из американцев разделяет мое презрение к содовой (но не любовь к благородным напиткам): пока мы катили по парку, с нами раз пять или шесть чуть не столкнулась одна коляска, которой правили два местных уроженца, пьяных в зюзю, – не думаю, что это лимонад так действует на организм. Эта парочка словно нарочно гонялась за нами. Мадам Булар была напугана, мы тоже нервничали, но наш возница оставался невозмутим. Доставив нас на место, он степенно спустился с козел и взял под уздцы лошадь двух пьяниц, попросив их выйти из коляски. Те отказались. Тогда к ним поднялся невесть откуда взявшийся полисмен, схватил одного поперек туловища и бросил на руки другому полисмену, который принял груз очень бережно. После этого первый полисмен взял вожжи и уехал вместе со вторым пьяницей. За всё это время не было произнесено и дюжины слов, всё делалось молча, чинно, методично. Чувствовалось, что номер хорошо отрепетирован.
Между тем мы достигли цели нашего путешествия – Индейской скалы. Это что-то вроде грота на середине крутого склона, поросшего лесом, и там, спиной к скале, стоит деревянный, ярко раскрашенный индеец, вглядывающийся вдаль из-под ладони. К гроту можно подняться – это развлечение для публики, не знающей, чем себя занять. Индеец раньше служил рекламной вывеской для гостиницы, которую несколько лет как снесли. Осмотрев эту достопримечательность, мы вернулись назад.
Не сумев приобщиться к достижениям прогресса в области искусств и ремесел, мы были вознаграждены необычным зрелищем. По улице дефилировала празднично разодетая толпа мужчин – одно из обществ, какие так любят создавать американцы. Флаги, знамена, костюмы, повозки – целая феерия, причем у каждой группы – свой духовой оркестр. В хвосте выступала в колонну по два дюжина музыкантов, дудя изо всех сил в свои тромбоны и корнет-а-пистоны. Дирижер шел посередине, играя на кларнете. Позади него – треугольник, тарелки и барабан. Можете себе представить, какая гармония возникала от сочетания этих инструментов! Больше всего меня порадовал барабанщик, лупивший палками по турецкому барабану, стараясь при этом удерживать его горизонтально, чтобы зрители могли прочитать написанную на нем большими буквами рекламу аптекаря.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































