Читать книгу "Приключения Оффенбаха в Америке"
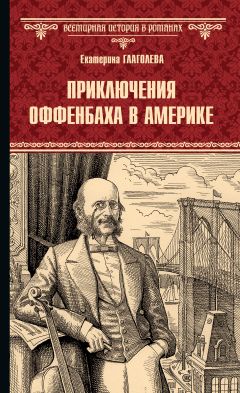
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Жуткая болтанка не прекращалась; всё, что не было как следует прикреплено, упало и разбилось; невозможно было ни стоять, ни сидеть. Желудок прыгал то вверх, то вниз, и никак нельзя было остановить этот гадкий танец, от которого выворачивало нутро. Я уже думал, что больше не увижу своих близких; «Эрминия была права» – эти слова давно вошли в пословицу среди моих родных и друзей…
Оставаться один в каюте я не мог; уже в понедельник мне устроили постель в салоне. Капитан и весь экипаж были чрезвычайно добры ко мне и проводили со мной часть ночи, всеми средствами стараясь меня успокоить.
– Вы бы только взглянули, как наш корабль погружается в волны и через минуту появляется из них во всем великолепии! – взывал к моему артистическому чувству Франжёль.
– Mein lieber Kapitän[3]3
Мой дорогой капитан (нем.)
[Закрыть], – отвечал ему я, – для зрителя видеть шторм со стороны, должно быть, чертовски интересно, aber как актер, получивший роль в этой пьесе, я нахожу ее вовсе несмешной.
В комической опере «Робинзон Крузо» есть сцена кораблекрушения. Конечно, я видел и море, и корабли, причем очень близко: летом в Этрета, а зимой в Ницце, но чаще с берега, поэтому, чтобы передать шторм, я шел путем всех композиторов: вот струнные резкими спиккато создают тревожное настроение, затем вступают духовые, изображая взбухающие валы, а литавры и барабаны – гром и брызги… Мог ли я знать, что своими ушами услышу музыку океана в самой его сердцевине и она отнюдь не поразит меня своей красотой! Этот монотонный шум ветра, натужное гудение машины, шипение волн, перекатывающихся через палубу – публика в театре не стала бы слушать такое и десяти минут, а мне приходилось выдерживать ее несколько суток! И они ещё смели критиковать мою партитуру!
В этом январе мы просмотрели ее с капельмейстером Венской Оперы – mein Gott, что за музыка, какая оркестровка! Я и забыл, какой шедевр написал! За день до этого я восторгался «Кармен» и жалел беднягу Бизе, не дожившего до своего триумфа, для которого всего-то нужны были приличные музыканты и хористы. Но что такое «Кармен» по сравнению с «Робинзоном» – так, мелочь, почти оперетта рядом с оперой, Яунер мне так и сказал. Он трижды сыграл финал второго акта на пианино – я не просил его, он сам захотел. Вот почему люди ходят в театр: им хочется красоты, которую они сами не способны отыскать без помощи искусства.
В самый разгар бури, когда почти все молились шепотом, предавая свою душу в руки Господа (и я не был исключением), молоденькая американка сказала своей младшей сестре: «Будь добра, попытайся сойти вниз и принеси мою хорошенькую шляпку: я хочу умереть во всей красе!» «А перчатки принести?» – уточнила младшая.
Самуил Маас, женившийся на моей сестре Изабелле, рассказывал, что его первая попытка попасть в Техас из Южной Каролины, где он жил прежде, окончилась неудачей: он зафрахтовал шхуну, нагрузив ее древесиной для постройки дома, и отправился в Галвестон, но судно разбило штормом о коралловые рифы, и ему пришлось добираться до берега вплавь. Несмотря на такие рассказы, Изабелла всё же уехала с ним в те гиблые места. Теперь у нее четверо детей и внуки, а с мужем она больше не живет – переехала в дом через улицу. Но меня-то, счастливого мужа, отца и деда, меня-то что погнало туда, в самом деле?..
Путешествовать для собственного удовольствия! Обман, красивая фраза. Удовольствия в этом мало, а сдвинуться с насиженного места человека заставит только пинок судьбы. Или алчность. Все великие географические открытия совершили пираты, разорившиеся купцы и работорговцы, а населяли новые земли висельники, каторжники, проститутки, диссиденты, гонимые на родине, и прочий люд, решивший сыграть с судьбой в рулетку, поставив на кон всё, что осталось, то есть свою жизнь. Вот и я еду за океан обирать аборигенов, но я же не собираюсь приставлять им нож к горлу, зачем же и мне платить по той же ставке?
Как хорошо, что у всего на свете есть конец! (Хотя применительно к жизни нас это и не радует.) Шторм продолжался целых три дня и четыре ночи, но затем выдохся и утих. Пятого мая мы подошли к Нью-Йорку, успев повеселеть и привести себя в порядок.
Наш пароход ожидали гораздо раньше и даже устроили морскую прогулку для нашей встречи. У Санди-Хука (узкой песчаной косы с маяком, преграждающей вход в гавань) стояли разукрашенные кораблики с венецианскими фонарями, на которые погрузились журналисты, зеваки и военный оркестр из семидесяти музыкантов. Конечно, американцы нам многим обязаны: это же французы помогли им выиграть войну за Независимость и продали им Луизиану по сходной цене. Правда, никто из находившихся на «Канаде» не имел к этому никакого отношения, но всё же мы могли рассчитывать на теплый прием. Поскольку мы всё не ехали, встречавшее нас судно всё дальше отдалялось от берега; на борту пели, смеялись, оркестр играл попурри из моих мелодий, но постепенно морская болезнь брала свое, не щадя и музыкантов. Получилось, как в прощальной симфонии Гайдна, когда музыканты один за другим прекращают играть, гасят свет на пюпитрах и уходят. Этим уйти было некуда, и теперь они исторгали из себя… отнюдь не гармоничные звуки.
Вслед за музыкантами к нам причалило другое судёнышко – с главными репортерами нью-йоркских газет. Оказалось, что встречали одного меня! Если бы я не был таким скромным, я бы возгордился. Пока продолжались манёвры в порту и разные таможенные формальности, я два часа отвечал на вопросы журналистов, стараясь не ударить лицом в грязь. К прибытию в Нью-Йорк мы уже были добрыми друзьями. К тому же мне рассказали замечательную историю.
Интермедия: КАРАНТИН
В конце прошлого века главным врагом нью-йоркцев была желтая лихорадка: от нее умирали тысячами. В 1799 году, по решению городского совета, на краю острова Статен построили Морской госпиталь, или Карантин, который со временем всё расширялся, взбираясь на холм, и через сорок лет насчитывал с дюжину больничных корпусов, способных вместить тысячу больных одновременно. Желтая лихорадка внушала такой страх, что суда, имевшие на борту заболевших, должны были вывешивать желтый флаг и становиться на якорь в Нижней бухте, ближе к океану. Если санитарный инспектор обнаруживал хотя бы одного больного на борту какого-либо судна в доках Манхэттена или Бруклина, корабль со всей командой отправляли в Карантин. Туда же свозили эмигрантов, заболевших по дороге холерой, оспой, желтой лихорадкой или тифом – подцепить на нижней палубе какую-нибудь дрянь было легче легкого, особенно для бедных ирландцев, едва таскавших ноги от голода. Умерших хоронили прямо на территории Карантина в безымянных могилах, закапывая по трое-четверо в одну яму. А выжившие потом селились в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, довольно далеко от Карантина. Зато до городка Каслтон от него было рукой подать, и местные жители считали морской госпиталь рассадником заразы.
В самом деле, трехметровый забор вокруг Карантина не был преградой для москитов, переносивших желтую лихорадку, а санитары и прочая обслуга часто бегали через дорогу в паб «Наутилус», где всегда было не протолкнуться. В итоге на Статене то и дело возникали очаги «черной рвоты», а недвижимость падала в цене из-за опасного соседства. В 1856 году Санитарное управление Каслтона строжайше запретило выходить из Карантина в город, а местные жители для надежности построили баррикады. Нью-йоркские власти попытались было перенесли Карантин на другой конец острова, но едва построенные корпуса сразу спалили. Через два года, летом, желтая лихорадка вернулась, и граждане решили истребить Карантин, точно Содом и Гоморру.
С наступлением темноты к нему ринулись толпы, вооруженные топорами и спичками: одна толпа вынесла ворота, другая сломала стену. Больных вытаскивали на улицу, а их соломенные матрасы поджигали; служителям не давали тушить огонь. Багровое зарево над Статеном было видно издалека. На следующий день, отпраздновав победу в «Наутилусе», поджигатели захватили с собой таран и снесли кирпичную женскую больницу, спалив заодно пирс и дома для врачей. Бездействовать далее власти уже не могли: из Нью-Йорка явилась сотня полицейских с пушкой, за ними следовала армия. Зачинщиков погрома арестовали; на суде они утверждали, что защищали свою жизнь и имущество, и судья с ними согласился: он сам владел недвижимостью в миле от Карантина.
Властям предстояло решить задачку не из легких: Карантин необходим, но устроить его нужно так, чтобы его нигде не было. Правительство оказалось в замешательстве, однако в Америке, в отличие от Европы, это состояние никогда не длится долго. Больных стали направлять в плавучий госпиталь, а тем временем землекопы уже взялись за дело. Раз обитаемый остров не хочет принимать больных, решили власти, надо построить два необитаемых, чтобы некому было возражать.
Так появились два островка с конторами, больничными корпусами и крематорием, куда направляют всех приезжих с подозрительными симптомами. Мне это не грозило: у меня настолько слабое здоровье, что нет сил болеть, поэтому я отправился прямиком на Манхэттен.
Картина вторая: Нью-Йорк
Нью-Йорк расчерчен, как по линейке, прямыми улицами и авеню – префект Парижа барон Осман пришел бы в восторг. Американцы не имеют привычки, как мы, называть улицы в честь людей, находящихся у власти, чтобы потом переименовывать всякий раз, как власть переменится. К примеру, я живу в Париже на улице Лаффита, которая до революции (самой первой) называлась улицей Артуа в честь брата короля, после казни короля получила имя революционера Черутти, с новым воцарением Бурбонов опять стала улицей Артуа, а после новой революции (1830 года) была переименована в улицу Лаффита, потому что на ней жил банкир Жак Лаффит – премьер-министр и министр финансов Луи-Филиппа. Как хорошо, что барон Ротшильд, мой сосед, довольствовался титулом короля банкиров и не искал для себя никакой должности в правительстве, иначе улицу переименовали бы снова. В Америке же, где каждые четыре года избирают нового президента, наш обычай вызвал бы большие неудобства: за двадцать лет одна и та же улочка получила бы побольше имен, чем самый знатный кастильский идальго. Поэтому американцы присваивают улицам и авеню порядковые номера. Никакой политики и ничего не надо менять.
Здесь есть, впрочем, одна улица, не подчиняющаяся правилам и пересекающая Манхэттен наискосок, но и она носит нейтральное название – Бродвей, «широкая дорога». Это самый оживленный район города, поэтому на Бродвее находятся театры и редакции главных газет. Если вам нужно поместить объявление в газету, оглядитесь вокруг, найдите самый высокий дом и смело заходите: там и будет редакция. Например, в здании «Нью-Йорк трибюн» десять этажей и еще башенка с часами. Ночью такой дом освещает своими огнями весь квартал. Во Франции газету называют светочем в переносном смысле слова, а здесь – в прямом.
Храм американской печати – лишь второе по высоте здание в Нью-Йорке; первенство за обычным храмом – церковью Троицы. Американские журналисты рассказали мне, что это уже третье здание, выстроенное на том же месте – лицом к Уолл-стрит. Первое погибло от огня во время войны за Независимость, второе развалилось под тяжестью снега, и тогда за семь лет построили эту церковь в готическом стиле – такую высокую, что ее сияющий золотом крест служит маяком для кораблей, заходящих в нью-йоркскую гавань. Семь лет! Кёльнский собор строят уже больше шести веков, и он до сих пор не завершен.
Нашу компанию доставили на трех извозчиках в отель на Пятой авеню, где нас дожидался Морис Грау. Это молодой человек, ему лет двадцать семь, но выглядит он на все сорок: работа без отдыха, заботы и неприятности состарили его до срока и убавили волос на голове. Он ведет самую лихорадочную и всепоглощающую жизнь во всей Америке, ведь ему случалось руководить пятью театрами сразу: итальянской оперой в Нью-Йорке, французским театром в Чикаго, опереттой в Сан-Франциско, английской драмой в Гаване и испанской комической оперой в Мексике. Теперь он переключился на организацию гастролей знаменитостей и начал с того, что привез в Америку Антона Рубинштейна, который дал двести концертов меньше чем за полгода – иногда по два концерта в день. Жаль, что мы с ним не встретились, интересно было бы взглянуть на него сейчас. Я знал Рубинштейна, когда ему было лет двенадцать, а мне двадцать два. Тоже еврей-выкрест, говоривший по-немецки, только из России. Он приехал в Париж поступать в Консерваторию по классу рояля, а его туда не приняли, поэтому через несколько лет он основал свою собственную Консерваторию – в Санкт-Петербурге. Мы с ним дали всего один салонный концерт: сыграли две части бетховенской сонаты для виолончели и фортепиано, а затем я исполнил соло «Большую фантазию на русские темы». Через два месяца, когда закончится контракт со мной, в Нью-Йорк приедет знаменитый итальянский трагик Росси, и Грау будет возить его по Америке целый год. Могу лишь посочувствовать обоим.
Мне, конечно же, не терпелось посетить театр. Грау рекомендовал театр Бута, но затруднился сказать, что именно там дают нынче вечером. В этом зале могут играть трагедию, комедию или оперу – смотря какая фантазия придет директору, снявшему помещение на год, на месяц или даже на неделю. Я немедленно отправился туда в сопровождении любезного мистера Бакеро; давали «Генриха V» Шекспира. Постановка была очень красивой; парочку идей можно будет занять для «Мадам Фавар»… Для того я и хожу по разным залам – восхищаясь как артист, но и прицениваясь, точно барышник на ярмарке. Сколько молодых дарований я привез в Париж из-за пыльных кулис провинциальных театров! А из Лондона мне доставили стадо овечек – почти как настоящих, не катившихся на колесиках, а топотавших по сцене с громким «бе-е». Я собирался использовать их для «Дон Кихота».
Люди совершенно утратили воображение; им подавай, чтоб на сцене было всё как в жизни. Во второй картине «Путешествия на Луну» декораторы в точности воспроизвели купол парижской Обсерватории, а в шестой царь Космос едет на настоящем белом верблюде в хрустальный дворец (какой переполох поднялся на бульварах, когда это животное вели в «Гэте» из Булонского леса!). Мы сами приучили к этому публику; директора театров вынуждены тратить огромные деньги на декорации, чтобы зритель, заплатив за билет, смог увидеть на сцене то, что каких-нибудь двести лет назад ему показали бы на улице бесплатно.
Когда Берлиоз ставил в Опере веберовского «Волшебного стрелка» (кажется, в сорок первом году), он со всеми переругался, потому что ему был нужен настоящий скелет для мрачного явления в третьем акте, а бутафорский, деревянный, его не устраивал. Директор заявил ему без экивоков, что больше не выделит ни франка на покупку реквизита, добывайте ваш скелет, где хотите, хоть собственный используйте. И Берлиоз в самом деле отрыл на каком-то чердаке самый натуральный скелет, так что публика чуть не поседела, а нескольким дамам сделалось дурно. А вот немцам было бы достаточно показать картинку с черепом и костями: музыка Вебера дорисовала бы остальное.
Мы покинули театр после второго акта, и Бакеро отвел меня в другой. Нью-йоркские театры не так велики, как здания газет, и все построены по одному образцу: обширный амфитеатр с большим количеством рядов; всего восемь лож: по четыре справа и слева у авансцены, галерка… Ложи, кстати, пустовали, хотя зал был полон: лучшее общество предпочитает партер и балкон первого яруса. Давали комедию, но я был не способен ее оценить, поскольку не настолько хорошо владею английским. Мы потихоньку ушли; в вестибюле мой спутник указал мне на господина средних лет, стоявшего у кассы, и сказал, что это директор. Он уже разорился раз семь, но в этом сезоне, кажется, собрал превосходную труппу.
– Где же он взял деньги? – удивился я.
– Ему одолжили люди, которым он должен, в надежде вернуть себе всё за счет хороших сборов.
Ах, если бы в Париже рассуждали так же!..
Вернувшись из театра в отель, я увидел толпу, собравшуюся под балконом, поверх которого было написано большими буквами: Welcome Offenbach! Везде сияло электричество, было светло как днем. Оркестр из шестидесяти музыкантов устроил мне серенаду: играли из «Орфея» и «Великой герцогини». А уж аплодисментов-то, виватов! Мне пришлось выйти на балкон, точно Гамбетта[4]4
Леон Гамбетта (1838–1882) был лидером Республиканского союза. Разъезжая по всей стране и произнося пламенные речи с балконов лучших зданий, он способствовал тому, что французы смирились с новым режимом, установленным после Франко-прусской войны и разгрома Парижской коммуны (Третья Республика). Своим успехом на выборах в Законодательное собрание весной 1876 года республиканцы были обязаны именно этим выступлениям.
[Закрыть], и громко крикнуть: «Thank you, sir!»[5]5
Спасибо, сэр! (англ.)
[Закрыть] – фразу, в которой даже французские цензоры не нашли бы ничего фривольного или подрывающего устои власти. Американцы, похоже, остались разочарованы: надо полагать, они ожидали, что я спляшу на балконе канкан или сделаю что-то в этом роде. Их привлекла сюда заметка в «Нью-Йорк таймс», где говорилось, что «г. Оффенбах уже давно открыл беспроигрышный способ нажить богатство – поставить свой музыкальный дар на службу безнравственности». Они явились строго осудить безнравственность, предварительно насладившись ею, а я оставил их голодными.
В Европе понятия не имеют, что такое американский отель. Всё под рукой. При каждом номере, состоящем из спальни и гостиной, – туалетная комната, ванная и таинственное помещение, помеченное буквами WC, – никаких умывальных тазов и ночных горшков! Первый этаж гостиницы представляет собой огромный базар, торговый город, где представлены все ремесленные цеха. Есть свой парикмахер, свой шляпник, свой портной, свой аптекарь, свой книготорговец, даже свой чистильщик обуви. Можно войти в отель голым, как Адам, и заросшим, как Авессалом, а выйти этаким графом д’Орсе, законодателем мод. Нет только полиглотов. Среди двухсот коридорных не найдется ни одного, говорящего по-французски. Это очень досадно, когда сам не говоришь по-английски, хотя и немного понимаешь этот язык.
Платя за номер двадцать долларов в сутки, вы получаете право есть весь день. С восьми до одиннадцати завтрак, с полудня до трех часов ланч, с пяти до семи вечера – обед и с восьми до одиннадцати – чай. На следующее утро, едва я вошел в огромную галерею обеденного зала, где выстроились в ряд полсотни столов, ко мне подскочил метрдотель и отвел на свободное место. (Со временем я узнал, что сопротивляться его воле бесполезно: не пытайтесь возражать, что вы предпочли бы сесть там или сям, надо делать, как велено. Метрдотель тут хозяин, он подсадит к вам за столик, кого захочет, и точка.) Гарсон сразу принес мне большой стакан воды со льдом, хотя я и не просил его об этом. Затем другой гарсон принес меню, где были перечислены восемьдесят блюд дня (я не шучу). Я выбрал три, но позабыл указать, какие именно овощи хочу для гарнира, и мне принесли все пятнадцать видов. Таким образом, я враз оказался перед тремя десятками тарелок: с супом, рыбой, мясом, гарнирами, вареньями, плюс десерты, каких нашлось не меньше десяти. При виде этого изобилия у меня закружилась голова и пропал аппетит.
В Париже я обычно обедал у Петерса на бульваре Итальянцев, в кафе Биньона или в «Золотом доме» на углу улицы Лаффита, где я живу, но с недавних пор полюбил кафе «Риш» рядом с Оперой. Там уже усвоили мои вкусы и всегда подают мне одно и то же: три ложечки яйца всмятку с половинкой корочки хлеба, кусочек котлетки из ягненка размером с орех, ложечку картофельного пюре и дольку яблока или груши. Я не люблю подолгу просиживать над тарелкой и тороплюсь поесть, чтобы закурить сигару. О, сигара! Само это слово исполнено volupté – сладострастной неги. Сначала предварительные ласки: отрезание кончика, раскуривание, и, наконец, этот горячий, сладкий вкус дыма, обволакивающий нёбо! (У меня есть drei Passionen, три страсти: сигара, женщины dann noch игра. Все три возбуждают, заставляя кровь быстрей бежать по жилам, дарят ни с чем не сравнимые моменты наслаждения и неизменно рождают в моей голове новые, чудесные мелодии.) В «Риш» я всегда сижу за круглым столиком недалеко от входа, за который подсаживаются мои друзья – либреттисты, журналисты; мы говорим о чём угодно, кроме работы. Для деловых обедов я снимаю там же или у Петерса cabineto particolioso. Если же я не могу выйти на улицу, обед из «Риш» присылают мне на дом, пока кухарка гремит кастрюлями, стряпая для Эрминии и детей. Я всю жизнь был худым и вряд ли когда-нибудь растолстею, какие бы усилия ни прилагали для этого в Америке, разве что лопну. Но последнее не входит в мои планы.
Итак, я очень быстро позавтракал, поскольку меня занимала лишь одна мысль: поскорее увидеть крытый сад Гилмора, где мне предстояло выступать.
Мне рассказали, что это бывший вокзал или что-то в этом роде, где знаменитый мистер Барнум, забавляющий публику показом уродов и всяких диковинок, устраивал цирковые представления, гонки на велосипедах и сражения между ковбоями и индейцами. Год назад его снял Патрик Гилмор – главный дирижер военных оркестров, участник Гражданской войны и организатор двух музыкальных фестивалей в Бостоне, для которых построили Колизей, вмещавший сначала шестьдесят, а затем и сто двадцать тысяч человек; на один из этих фестивалей он смог залучить Иоганна Штрауса из Вены. И вот теперь мне предстояло увидеть, во что капельмейстер 22-го пехотного полка, совершавший концертные туры по Европе, превратил бывший цирк.
Посреди зарослей тропических растений сооружена эстрада для оркестра на сто – сто двадцать музыкантов. Кругом фонтаны, лужайки, цветы, клумбы, по которым свободно гуляет публика. Прямо напротив входа – большой водопад, чтобы развлекать зрителей в антрактах имитацией Ниагары. Цветные фонарики образуют эффектную радугу, везде сияют тысячи огней. По обе стороны от эстрады – небольшие шале на семь-восемь человек: удачная замена театральным ложам. Любители слушать музыку с высоты могут занять места в амфитеатре или на большой галерее с обычными ложами, в общей сложности в зале могут разместиться восемь-девять тысяч человек. Всё вместе отдаленно напоминает Зимний сад в Париже, на Елисейских Полях, который когда-то пользовался бешеной популярностью, но просуществовал всего четыре года и был снесен, кажется, в пятьдесят первом, потому что управлявшее им общество разорилось. А какие веселые там закатывали балы! Зал Гилмора же еще этой зимой служил местом для молитвенных собраний, поэтому я был рад убедиться, что ни одна пальма не завяла от скуки.
В восторге от зала, я стал расспрашивать директора об оркестре; он заверил меня, что нанятые им сто десять музыкантов – лучшие в Нью-Йорке.
Директор Теодор Томас – немец из Нижней Саксонии; это мужчина лет сорока, усами и выражением лица напоминающий портреты Бисмарка. Мне рассказали, что он с шести лет выступал в концертах – отец обучил его игре на скрипке. Меня это не удивляет: с тех пор как Леопольд Моцарт с триумфом провез своего юного сына по королевским дворам Европы, каждый немецкий музыкантишка мечтает о том, что у него родится сын-виртуоз. И как только у него рождается сын, отец пытается сделать его виртуозом. (Мой отец тоже заставлял нас с Юлиусом играть в пивных и намеренно скостил мне два года, чтобы мое дарование выглядело моложе.) К десяти годам Теодор практически кормил всю семью, играя на свадьбах и танцах. Потом Томас-старший увез своих домашних в Америку в погоне за лучшей долей, и там Томас-младший играл в оркестрах, объехал все Штаты с сольными концертами, сам продавая билеты и публикуя в газетах рекламные объявления о себе. Скрипачом он был весьма посредственным и уже собирался вернуться в Германию, чтобы наконец-то обучиться своему ремеслу, как вдруг в Америку явился наш великий Жюльен, мир его праху, – дирижер от Бога, витавший по этой причине в облаках и не умевший считать деньги. Совершенно разоренный провалом в Лондоне своей оперы «Петр Великий», он сбежал от кредиторов, прихватив с собой два десятка музыкантов, а остальных набирал уже на месте. Семнадцатилетнему Томасу посчастливилось оказаться в их числе. Научившись у Жюльена управлять оркестром, он сменил смычок на дирижерскую палочку и с шестьдесят четвертого года, когда ему не исполнилось и тридцати, уже давал летние концерты в Нью-Йорке, Филадельфии, Цинциннати, Сент-Луисе… В октябре семьдесят первого он вместе с оркестром своего имени явился в Чикаго, но оказалось, что накануне ночью большая часть города сгорела, включая Оперу Кросби, где они должны были выступать. Выгодный ангажемент сорвался. Эта неприятность ударила его по карману, однако Томас быстро нашел выход из положения. Чтобы отличаться от других, он сделался популяризатором произведений Вагнера, используя свое знание человеческой психологии: каждому хочется почувствовать себя избранным, которому дано то, что недоступно серой массе, поэтому богатый сноб притворится, будто восхищен «музыкой не для всех», лишь бы не прослыть любителем вульгарной пошлости. Надо всё же отдать Томасу должное: он сумел собрать превосходный оркестр, используя самый надежный способ – деньги. Он хорошо платит, а потому всегда может рассчитывать на дюжину первоклассных исполнителей, не отстающих от него ни на шаг, куда бы он ни поехал.
Здешние музыканты входят в большое и могущественное общество, вне которого существовать невозможно. Любой, кто желает играть в оркестре, обязан стать его членом, исключений не делается ни для кого. Меня предупредил об этом Булар, которого в прошлый приезд сюда заставили вступить в общество, чтобы провести пару репетиций.
Общества, общества! Я сам состою в Обществе драматургов и композиторов, пишущих для сцены, и исправно плачу в него взносы. Оно еще ни разу не встало на мою защиту, зато, когда я был директором театра, меня то и дело вызывали «на ковер»: зачем я ставлю в своем театре свои произведения? Да потому что они приносят деньги, черт побери! Я не настолько богат, чтобы позволять себе провалы! Публика штурмовала «Буфф-Паризьен», но сборов всё равно не хватало на покрытие расходов, а они приговорили меня к штрафу в пятьсот франков. Пятьсот франков! Для театра на триста мест, где билет стоит полтора-два франка! Председателем Общества был тогда Огюст Маке – тень Александра Дюма-отца[6]6
На обложке первого издания «Трех мушкетеров» стояли два имени: А. Дюма и О. Маке, впоследствии Маке судился с Дюма из-за авторства. Его часто называют «литературным негром» Дюма.
[Закрыть]. Тень всегда зла на солнце, хотя без солнца ее и не было бы.
Да, создавая (на ровном месте, заметьте!) «Буфф-Паризьен», я обещал ставить произведения молодых авторов, чтобы дать им возможность заявить о себе, и делал это. Я даже организовал конкурс молодых композиторов, для которых двери Оперы и «Опера-Комик» были закрыты – как, впрочем, и для меня самого: мне было тогда тридцать семь лет, а всем известно, что раньше сорока пяти на улицу Лепелетье не стоит и соваться.
В мире парижских театров есть три музыкальных кита: Опера, «Опера-Комик» и «Комеди-Итальен»; они получают субсидии из казны, как «Комеди-Франсез» и «Одеон». «Театр-Лирик» (бывшая «Опера-Насьональ») присоединился к ним только с 1864 года, после отмены привилегий. Подле них, на почтительном расстоянии, плавали «Водевиль», «Варьете», «Жимназ» и «Пале-Рояль», где разрешалось исполнять музыкальные номера, а «Буфф-Паризьен» бултыхался среди совсем уж мелкой рыбешки. Но я взялся доказать, что, хотя размеры сцены имеют значение – так же, как и количество актов, оркестрантов и актеров, – на качество музыки всё это не влияет. Публика никогда не уходила из «Буфф» неудовлетворенной!
Так вот о конкурсе. Из семидесяти восьми кандидатов отобрали двенадцать; шестерым из них дали либретто «Доктора Миракля», и первый приз (тысячу двести франков и медаль за триста франков, из которой пришлось сделать две) поделили Бизе и Лекок, ученики Фроманталя Галеви. Оба остались недовольны, особенно Лекок, усмотревший в решении жюри искательство и предвзятость и считавший, как все калеки[7]7
Шарль Лекок страдал от врожденного костного туберкулеза, заставлявшего его с детства ходить на костылях.
[Закрыть], что к нему несправедливы. Золушке необходима фея-крёстная, чтобы попасть на бал во дворец, но охмурить принца, то есть публику, должна она сама, разве нет? Именно. Оперетты каждого из победителей сыграли по одиннадцать раз – всего одиннадцать! А на моего «Крокефера, или Последнего паладина» ломились целые толпы; в последний день карнавала пятьсот человек ушли ни с чем, не достав билетов! Бизе потом обратился к опере (Берлиоз ядовито писал в своей рецензии на «Ловцов жемчуга», что мы потеряли великого пианиста, читавшего с листа произведения любой сложности, – намекал, что композитора мы не приобрели), и после «Кармен» я готов простить Жоржу всё, тем более что бедняга уже умер. Зато Лекок вознамерился всем доказать, что он лучше меня, и после нескольких провалов всё-таки имел успех с «Дочерью мадам Анго» и «Жирофле-Жирофля» – «приличными» опереттами. Я слышал, что их собираются ставить даже здесь, в Америке. Ну ничего, мы еще посмотрим, надолго ли хватит у него пороху. Я-то могу писать, как он, а сможет ли он перещеголять меня?
Но я отвлекся. Я здесь гость, не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь. Когда началась репетиция, я дал музыкантам сыграть полтора десятка тактов и остановил их.
– Простите, господа. Мы только начали, а вы уже позабыли о вашем долге!
Мои слова привели их в недоумение.
– Как! – продолжал я. – Вы знаете, что я не состою в вашем обществе, и позволяете мне дирижировать?
Это всех развеселило. Подождав, пока стихнет смех, я добавил наисерьезнейшим тоном:
– Поскольку вы не удосужились сказать мне об этом, я сам прошу вас принять меня в ваше общество.
Мне стали возражать, я настаивал, говоря, что для меня большая честь – вступить в их союз, и в итоге сорвал продолжительные аплодисменты. Теперь мы стали одной семьей, и уже ничто не могло нарушить совершенной гармонии – в прямом и переносном смысле.
Оркестр в самом деле подобрался отличный: нам потребовалось только две репетиции на каждое произведение, составлявшее программу концерта. Одиннадцатого мая, в четверть девятого вечера, я занял свое место у пульта, встреченный фанфарами и аплодисментами довольно многочисленной публики. Мы сыграли увертюру к «Вер-Веру», романс из «Прекрасной Елены», танец дикарей из «Робинзона Крузо», увертюру «Прогулка вокруг Орфея», увертюру к «Острову Тюлипатан» (в Америке эту оперетту еще не ставили), «Скажите ему» из «Великой герцогини Герольштейнской» (скрипка пыталась заменить собой голос божественной Шнайдер… как голос Антонии в «Сказках Гофмана»!), марш монахов из «Ненависти», увертюру к «Хорошенькой парфюмерше», марш из «Короля-Моркови», наконец, новый вальс, который я сочинил специально для Выставки, и попурри «Оффенбахиана», которое даже пришлось бисировать. Несмотря на успех, я всё же чувствовал, что публика слегка разочарована: никто не пел и не плясал, а слушать несколько часов кряду симфоническую музыку, пусть и отменную, этим господам помогала лишь мысль о деньгах, потраченных на билеты.









































