Читать книгу "Но случается чудо"
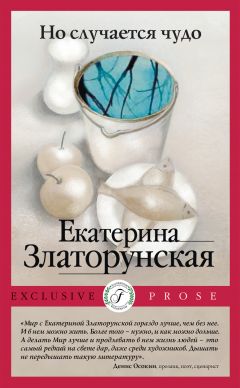
Автор книги: Екатерина Златорунская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Мне надо его убить? – спросил Павел Сергеевич.
– Зачем?
И они посмотрели друг на друга, не понимая зачем.
– Витя, нам надо идти.
Дмитрий Константинович уже шел к двери, сонный, растерянный, задерживаясь руками о кресла, стулья. Его шатало.
– Как на корабле, пол качается, – сказал он.
– Тебе плохо? Слабость? Голова кружится? – спрашивала Лика.
– Душа качается. – И снова повторил: – Надо идти.
Они вышли втроем в сырое холодное утро. Шли быстро, почти бежали. Лика Витальевна впереди, лязгая зубами, Дмитрий Константинович с Витей за ней.
– Помнишь, я готовила Инне жемчужные ванны? – спросила Лика. – Мне это снилось. Ванна, засыпанная жемчугом, и в ней Инна, в жемчуге по плечи. Я счищала ладонью жемчуг, прилипший к мокрой розовой коже, мелкий, крупный, и жемчуг падал на пол со стуком. Пол белый, жемчужный. Ты целовал ее кожу и глотал жемчужины, одну за другой, словно водяные капли. Я смотрела на вас, и мне было больно.
Она рассказывала это неизвестно зачем, не стесняясь мальчика:
– А потом ты сказал мне – у тебя внутри жемчуг. Посмотри. Ты подошел и прижался лицом к моему животу. Ты спросил – видишь? Легкие – в них жемчуг, пузырьками. Ты дышишь жемчугом. Я так тебя ненавидела. Все плохое началось из-за тебя, мне даже казалось, что война началась из-за тебя.
– Ты не любила меня.
– Я не успела.
– У меня больное сердце, и я курил. Тебе было все равно, что мне нельзя, а про Павла Сергеевича не было. Ты переживала за него, нервничала, когда он пил коньяк.
– Ты не защитил меня.
– Я не мог.
– Как не мог?
– Она бы написала на вас, понимаешь?
Они вышли к железной дороге.
– Лика, вот здесь расстанемся, нам надо дальше идти.
И задрожало платье вокруг ее колен, как подбородок в предчувствии слез.
Лика хотела обнять Дмитрия Константиновича, но он стоял, скрестив руки у груди, опустив голову, и обняла мальчика, и обнимала его так, как будто не могла с ним расстаться, целуя пыльные волосы, худые плечи.
– Лика, отпусти, мы пойдем.
Он взял мальчика на руки.
Она не знала, что сказать последнее, важное, просто смотрела им вслед, потом крикнула:
– Спасибо, что пришли.
После отъезда Дмитрия Константиновича и Инны о случившемся старались не вспоминать. Дни проходили по-прежнему, но Лике ничего уже не было нужно. Утром и после обеда – процедуры, вечерами же Лика заходила к Павлу Сергеевичу и сидела, сидела, просительно чего-то выжидая, какого-то прощения, но он молчал, что-то писал, не поднимая на нее глаз, потом спрашивал:
– У тебя нет никаких дел?
Она вставала, шла на улицу. А на улице, в танцевальной раковине, прижимались друг к другу пары, и она думала – как все закончилось быстро-быстро.
На теннисном корте, пустом после дневной игры, два мальчика перебрасывались мячом. Она попросила:
– Научите меня.
– А мы сами не умеем.
– Но вы же играете. Покажите как.
– Берете ракетку и бьете по мячу.
– Эту?
– Эту.
– Тяжелая.
– Тяжелая, это вам не бадминтон.
В темноте не было видно ни рук, ни ног.
– Так?
– Нет, не так. Сначала надо просто научиться бить по мячу. А потом уже через сетку. Понимаете? Вот так высоко подбросить мяч, а потом уже бить по нему. Это очень сложная игра.
– Я не смогу.
– Бросайте мяч, а теперь отбивайте, бейте.
Мяч перелетел через сетку, шлепнулся в песок.
Лика сняла сандалии. Шелестело море, и патефон пел кому-то: «Спи, мое бедное сердце».
– Я не буду вам мешать, играйте.
Она села на скамью возле пляжа. Шум волны сливался с ударами теннисных ракеток. Она еще видела мяч, как он летал туда-сюда, и ракетки скользили в темноте прозрачными светлячками, но темнота становилась все сильнее, исчез мяч, исчезли мальчики.
Длинный сон
Сначала Вера Константиновна перестала есть, потом пить, лежала, не просыпаясь, в белой сорочке, вся сама белая, под тяжелым одеялом, придавившим ее слабое тело к кровати. Она была еще жива, но о ней говорили все больше в прошедшем времени. Распоряжались в ее квартире, как в своей, искали какие-то вещи – чистое белье, полотенца, брали то, что раньше не посмели бы трогать, заходили во все комнаты, и в любимом кресле Веры Константиновны, напротив телевизора, сидел зять ее дочери, смотрел новости, и ему делали замечания шепотом, и он шепотом отвечал, что не громко и никому не мешает.
А Вере Константиновне снился сон, что она идет по лесу, одна, как уже снилось много раз в последние две недели, и она забыла, когда начался этот длинный сон. Шла всегда тяжело, медленно, и лес был всегда разный – то хвойный, то лиственный, надвигался стеной или сползал вслед за ней по склону. Сквозь шум листвы она слышала голоса, но не понимала, кто говорит и что. Все было далеко. И ничего не было, кроме леса.
Она вошла в дубовую аллею, и сразу стало темно. Прямые дубы с высокой узкой сжатой с боков кроной, словно сложенные зонты, стояли тесно друг к другу. Она шла под черным сводом, как по тоннелю, и снова думала – было ли это в ее прошлом, таким все было знакомым и в то же время чужим, новым. И, пытаясь вспомнить забытое, Вера Константиновна догадалась, что лес – это и есть то беспамятство, из которого она не может выйти.
В конце аллеи деревья сходились клином, сжимали ее со всех сторон, почти нечем было дышать, но она упрямо протискивалась между ними и незаметно для себя оказалась по другую сторону черной изгороди, на спускающейся в полукруг домов дороге.
Шел редкий снег. Вера Константиновна увидела, что она в пальто и в пуховом платке, повязанном на черный шерстяной берет. Все было точно так же, как на фотографиях в альбомах, где она уже в последний год не узнавала себя и только читала свое имя, год снимка и не верила, спорила, злилась, не она, не она.
Придерживая платок у шеи, она стала спускаться дальше, к старой церкви, где когда-то хранилось зерно и были сняты купола, а еще раньше там венчались ее отец и мать. Вдруг, безо всякого предупреждения, она увидела их вдалеке. Стояли порознь и звали ее. И она, как в детстве, испугалась, не зная, к кому идти, потому что всегда так и были порознь, несмотря на венчальную икону в бумажных розах, обернутую в рушник и спрятанную под кроватью. Мама подбежала к ней, маленькая, черноглазая, с выпуклым ртом, словно выпяченным для поцелуя, целовала в обе щеки и тянула, звала куда-то. Она была такая молодая, моложе Веры Константиновны, словно ее внучка, такая, какая появлялась в воспоминаниях, когда ядовитый туман, наползший и скрывший жизнь, вдруг начинал таять, и сквозь него проступало островками забытое прошлое.
Быстрее, быстрее надо идти, думала Вера Константиновна, боясь, что снова начнется лес. Она бежала туда, за церковь, где был прямоугольный дом с деревянными полами, две снятые комнаты на втором этаже, и со второго этажа лестница прямо на улицу с длинного опоясывающего дом балкона, на котором собирались все соседские дети и с которого их прогоняли раз за разом. На балконе сушилось белье на длинной веревке и крякало от ветра, как старая утка.
Калитка была открыта, на ней висел вытканный черными цветами рушник. На заднем крыльце дома стояли женщины, все незнакомые, и ждали ее. Мать была среди них. Отец, в барашковой шапке, в казачьем кожухе, шел за Верой Константиновной, тяжело прихрамывая, не улыбаясь. Она остановилась, чтобы подождать его, но он махнул рукой – иди, я догоню. Вера Константиновна вздрогнула от страшной мысли и прокричала, ей казалось, что он не расслышит, не ответит: «Ты когда умер? Нам ничего не писали. Мы искали тебя». И он снова замахал рукой – потом, потом.
Две женщины, покрытые черными платками, молча пропустили ее. Вера Константиновна увидела, что одна из них держит стакан с пшеницей, в котором кренилась к краю незажженная свеча. Рядом с матерью стояли еще женщины, незнакомые. Одна, в черном пальто до пола, смотрела зло, словно прожигала взглядом, а другая, с тяжелой молочной косой, отчего-то не спрятанной в шлычку, поцеловала ее сухими бумажными губами. И Вера Константиновна вспомнила, как в детстве, среди сложенных мертвых тел в амбаре, нашли, опознав только по этой косе – сытой, откормленной, вываленной на чье-то тело, – ее бабушку и что эта женщина и есть она.
На втором этаже, в пустой комнате, мать из белого узла вытащила холщовую рубашку, с которой срезала кружева. Вера Константиновна, стесняясь своего тела, кожи, висящей, как спущенные чулки, надела холодное белье. Мать покрыла распущенные волосы платком и сказала одними губами: «Иди». И снова Вера Константиновна поняла, что нельзя спрашивать, что будет какое-то потом, когда все станет ясно. Она вышла на балкон и удивилась, как много вокруг людей. Женщины в кружевных платках, в шелковых парочках – по одну сторону балкона, мужчины в черкесках и бешметах – по другую. И все они, незнакомые, закрывали выход к крыльцу, она хотела бежать вниз, но не могла прорваться сквозь эту стену. Они пели, и она слышала, как вдруг «Ох, бабочка, бабеночка моя» перекрывалось громким старушечьим «Да воскреснет Бог». Вера Константиновна понимала, что надо выбраться, спуститься вниз, но не могла дышать от тесноты навалившихся на нее спин. Она хотела крикнуть, но кто-то опередил ее и крикнул: мама, и ее обожгло от этого крика.
– Воздуха, – шептала большая, как раздувшееся тесто, женщина, и Вера Константиновна стала повторять: «Воздуха, воздуха», – теряя сознание, спускаясь на пол. Но кто-то ее подхватил и на руках спустил с лестницы. И этому кому-то равнодушный женский голос задал вопрос:
– Она уходит?
– Уходит.
– Принимай дары! Сейчас будут одаривать, жених идет, – кричали ей сверху, с веранды, но она уже не могла различить ни их самих, ни их голосов. Ничего вокруг не было, кроме молодой березовой рощи. Это же моя роща, я ее сама посадила, еще в сорок шестом, когда была лесничим, вспомнила Вера Константиновна.
Ей казалось, что деревья растут быстро и она идет через шумный молодой лес, ее лес. Вдалеке она видела мужчину. Он стоял, не оборачиваясь, ожидая ее. И чем ближе она подходила, тем больше узнавала его. Забыла, а вот он стоит. Ей было страшно, что и он забыл ее, прошло столько лет, страшно своих рук и лица, и своей жизни, и всего, что было после его смерти. Она останавливалась, не могла сделать последние шаги, и он, словно почувствовав ее страх и нерешительность, обернулся. Она узнала его.
– Пойдем, надо идти, – сказал он.
И она пошла.
Молодильные яблоки
А был ли это сад?
Аня уже не помнила, но мама называла это место садом. Они приезжали к бабушке в деревню, вдвоем, без папы, хотя и он тоже, но быстро уезжал обратно. Осенью сад тлел, сырел и чах, стоял запущенный, яблони – неприбранными, и долго гнилой запах витал над ним, как душа над истлевшим телом.
Зимой же стоял, закованный в снежные латы, метели налетали на него и рвали во все стороны.
Летом же он цвел, как некрасивая женщина в минуты любви и нежности: странный, неловкий, засаженный криво, искромсанный с боков, заросший крапивой, травой, обведенный покосившимся забором, но пахнущий, цветущий, плодоносящий.
Росли вишневые деревья – гнутые, кривые с маленькими красно-коричневыми вишенками. В вишенках жили червяки и оставляли после своего ухода черные ранки.
Червяки жили и в яблоках.
Яблони были высажены далеко за баней. Первые ряды: светло-серые стволы яблонь с круглоголовой кроной, за ними – кудрявые; пыльные яблони паслись за оградой забора, как дикие кони. Туда, вглубь, идти было нельзя. Под дикими яблонями жили две птицы, похожие на ворон, но не вороны: одна с белым клювом, ходила, подгибая ноги, и переворачивала яблоки с румяного бока на гнилой, а другая сидела на ветке и смотрела ночами на Аню.
А за старыми яблонями начинался ведьминский лес – сухой, сломанный, переплетенный, и никто там не жил, даже ветер. А за ведьминским лесом – сад с молодильными яблоками. И если пройти через вороний пост, лабиринт ветвей ведьминского леса, через сон, мор, то можно в этом саду сорвать яблоко, все внутри золотое, и золотая слеза закруглится и покатится с надкуса по губам.
Но все такие походы – ночью, во сне; а днем все пряталось. Яблони стояли широкие, как крестьянские бабы, и Аня делила яблоки на летние и осенние. Летние – округлые, широкие, бело-зеленые, под скользкой кожицей мякоть в тонких сероватых трещинках. Мама называла их папировками, но Ане слышалось пахучее, сделанное как будто из тонкой серой бумаги слово «папироски».
Еще зрели яблоки – сизые, с восковым налетом, темно-красные, под их кожицей текла бледно-красная кровь. Звались они звездочками.
Из летних яблок варили варенье, как и из смородины и малины. Смородина – черная, белая, красная – висела на кустах стеклянными шариками.
Малина – абрикосовая, пурпурная, бордовая, в белых усиках, мерещилась Ане невиданным насекомым, и страшно было глотать, и сладко.
Вдали от всех рос крыжовник. Он был кислым, несмотря на сходство с виноградом. Ягоды зеленого крыжовника казались Ане воздушными шариками с полосками, а розово-красные – головками птиц с крошечными клювиками.
Цветы росли отдельно, словно разбрызганная на ковре краска – золотая, синяя, пурпурная. В цветах жили мухи.
И хотя сад был окружен забором, он куда-то уходил прочь своими ветвями, травой, стелился дальше, сплетался с другим близким ему миром, и границы между ними были зыбки.
В саду стояла баня и текла узкая и мелкая река. Вдоль нее нависали волосами плакучие ивы. На деревянный мосток изредка выпрыгивала лягушка – малахитовая шкатулка с выпуклыми янтарно-черными глазами. Она сидела среди травы и горестно урчала. На этом мостке мама мыла посуду, а Аня вытирала ее синим полотенцем с красным вышитым яблоком.
Из какого дерева была выстроена баня, из березы или сосны, никто уже не помнил. Вокруг бани росли лопухи с подорожниками – влажные бутылочно-зеленые утром и темно-синие вечером.
Мама прикладывала подорожник к царапине.
– Не плачь, не плачь, давай я подую на ножку, – и приговаривала что-то, дышала теплом на ранку, а подорожник холодный, гладкий.
Тихий ветер стоит над деревьями, листья движутся вверх-вниз, и кажется, что они осыпаются на землю, но они все целы.
Такая была радость, чистая, в том месяце – красные яблоки, желтые яблоки и зеленые горькие несозревшие сливы, их срывали и бросали на землю. И варенье.
Так закончилось воскресенье. Вечером мама уехала в город.
Аня плакала.
– Приеду, ты проснуться не успеешь.
Утром мама не приехала. Аня тосковала, сидела на крыльце до обеда и обеденный сон прогоняла от себя, но все-таки заснула вместе с бабушкой. Во сне кто-то открывал и закрывал калитку, но не входил. Когда Аня проснулась, мама с бабушкой в саду обрывали малину.
– Я его не пущу, если приедет, – повторяла бабушка, и обе они трясли малину, как врага.
На столе под яблоней стояли эмалированные тазы с лоснящимися ягодами. Варенье из них варили на много зим. Варили с утра и до вечера. Ягоды с сахаром кипятили в тазах, и долго оставался запах, оседавший пылью на листы смородины, малины.
Банки с вареньем, ярко-пурпурным, сахарно-коричневым, уносили в дом, завернув в полотенца, как новорожденных, ставили в погреб, свежее варенье почему-то бабушка берегла, запрещала есть сразу. И там, внутри стеклянного заточения, оно темнело много зим, наливалось кровью, старело, пахло вином, и когда наконец его открывали, слой белого снега плесени с синими цветами застилал его мармеладное нутро. Аня просовывала палец через этот пенистый снег и выковыривала кусочек.
– Как ты долго спала, – мама улыбалась Ане, но Аня чувствовала, что под ее улыбкой пряталось что-то холодное и темное.
Они с бабушкой в белых платках, у мамы – смуглая открытая спина, двигались лопатки.
У Ани болела голова, казалось, что волосы слишком туго стянуты в косы, но они были распущены.
– Дай я повяжу тебе платочек, – просила мама, но платок не повязывала, продолжала бросать ягоды в бидоны, в них уже не оставалось места, а ягоды все тукали и тукали. Ане казалось, что они превратились в птиц и стучат клювами по дну. Она прижалась к маме.
– Не могу на тебя смотреть, – говорила бабушка.
– Не смотри, – повторяла мама, отталкивая Аню.
– Ребенка покорми, ты же мать.
– Ничего не говори, ничего не говори, уйди, уйди, – мама встала, задела бидон, ягоды рассыпались по траве.
– Анечка, пойдем в дом, пойдем, моя хорошая, – бабушка заглядывала в лицо, от нее неприятно пахло чем-то кислым. Аня отворачивалась.
– Просто уйди, – повторяла мама.
– Мой дом, – возмущалась бабушка, – мой дом, не пущу его.
Она ушла, они остались вдвоем – Аня и мама.
Аня клала малину в рот, ей казалось, что в рот заползают гусеницы, мохнатые, кислые. Она тут же выплевывала ягоды на землю.
Мама перешла с малины на вишню. Стоит, спрятавшись в тени.
– Мама, ты где?
Выходит.
– Мама, ты плачешь?
– Нет.
Аня трогает глаза. Мокрые ресницы. Плакала.
Мама чистит вишню окровавленными пальцами. Косточки в бидон, раздавленную вишню в таз. Обычно, когда Аня брала из тазика очищенную вишенку, мама говорила: эту нельзя, бери вот ту с косточкой, только косточку выплевывай. А сейчас не говорила ничего.
Можно было все. Можно было встать и уйти, мама не заметит, можно было есть и с косточкой и без. Можно было, но ничего не хотелось.
Хотелось спать, ломило тело, как будто солнце пролезало внутрь через маленькие трещинки в коже и жарило кровь. А все другое – то, что снаружи, – было холодным: трава, ведро, даже платье.
– Иди в дом.
Но Аня не шла, перебирала ягоды, как мягкие цветные бусины, и пальцы окрашивались фиолетово-синей краской, не смывавшейся мылом, и пахли потом во сне чем-то кислым и розовым.
Аня все хотела спросить маму, кого не пустит бабушка, но боялась спросить, потому что знала кого. И с ужасом ждала, когда этот кто-то приедет.
Он приехал вечером, когда солнце было уже красное. Мама не пошла его встречать. Машина урчала. Он долго не выходил. Аня обрадовалась, хотела выбежать, но мама не двинулась, и Аня осталась с мамой.
– Я привез продукты, – сказал папа.
Аня, не выдержав, побежала к нему, а мама осталась около тазов и бидонов, опустив голову. Аня остановилась на середине пути, и никто из них не позвал ее. Аня вспомнила, что у нее болит горло, спина, и заплакала. Отец подошел и взял на руки. Его рубашка пахла молоком и чем-то сладким. И был он другой, и пах по-другому.
– Тебя бабушка не пустит, – шепнула Аня.
– Пустит, пустит, – растерянно повторял он, но в дом не пошел, а вернулся в сад.
Мама в белом платке – он один проступал белым через темноту – чистила купленную у соседа рыбу. Рыба, еще живая, билась в ведре, серебряная, резная, и мама счищала чешуйки, блестевшие на помосте, в ночи, в сумерках. Удары ножа, чешуя, как сбруя.
Комары летят, гудят, плачут.
– Иди спать, – говорит мама.
Но Аня не уходит, сидит, дрожит.
– Ты горячая? – мама кладет руку на лоб, рука холодная, пахнет жестяным ведром. Убрала, и снова жарко, но запах остался тенью на лбу.
За спиной ходит он. Он ходит туда-сюда. Хочется обернуться, но нельзя. Что-то страшное. Пусть скажет, чтобы не было страшно. И обернуться хочется. Ну пусть он скажет, засмеется. Летит чешуя, скользкая, серебряная, тонкими щепками.
Рыба живая, бьется в ведре, елозит по дну. Страшно открывает рот, глотает последний воздух. Скоро умрет. Чувствует реку, чувствует, что может уплыть.
– Она хочет в реку?
– Кто?
– Рыба. Ты ее сейчас убьешь?
– Кого?
– Рыбу.
Голоса такие живые, бьются, как рыба о ведро, река то движется, то замирает, и каждый всплеск, как шлепок. Поднимается тихая волна, рыба открывает рот, и он там, стоит и, может быть, сейчас уйдет. Пусть уйдет. Бабушка все равно прогонит. Пусть уйдет. И мама перестанет плакать.
– Зачем ты приехал? – спрашивает мама. – Зачем ты приехал?
Он что-то говорит, но не так, как всегда, а мама дрожит, у нее стучат зубы. И у Ани стучат.
– Зачем ты приехал? Зачем ты врешь?
О чем он врет? Мама отодвигается от них спиной, чешуя летит, вот она на коленке – сырая, слюдяная.
Отец курит сигарету.
– Иди, – говорит мать, – иди в дом.
Аня встает и идет.
– Я посвечу фонариком, – говорит отец. Ане хочется обнять его коленку, но она не обнимает, проходит мимо. Деревья легли ничком на землю, затанцевали. Ноги дрожат, Аня не знает, куда наступить, чтобы не в темное. Но отец догоняет, его огромная тень доводит ее до крапивы: беги.
Отец уже выключил фонарик и снова спустился к маме. Аня не может пройти через изумрудную хищную крапиву, возвращается к бане, садится на лавочку.
– Я ненавижу тебя. Меня тошнит от тебя, – говорит мама.
Аня чувствует, как ветви вишни качаются, пахнет рекой, кислыми листами, острой махоркой. И страшная птица ждет знамения, чтобы вылететь из своего логова и клюнуть прямо в сердце.
– Я приезжала, а ты не ночевал дома.
– Ночевал.
– Не ночевал. Я оставляла книгу под подушкой. Ты ее не вынул. Ты не спал в кровати.
– Я спал.
– Нет. Я приехала специально. Холодильник пустой.
– Я не ел дома.
– Ты не жил дома.
– Жил.
– Нет, нет, – говорит мама.
Ее голос что-то вырывает из Аниного сердца, и ветви колышутся все сильнее, царапают спину.
Надо спрятаться под лавку, думает Аня, но под лавкой темно. Холодная скользкая трава забирается под кожу, как насекомое.
Аня заходит в теплую баню. Мухи жужжат в темноте.
Слышно, как мама повторяет: «Ненавижу, ненавижу, ненавижу», отец то появляется, то уходит, то большой, то маленький, Аня просит его:
– Возьми меня на ручки, мне холодно.
Он берет, несет в сад, мутно-серый.
«Как много пыли, – думает Аня, – как много пыли». Пыль лежит на деревьях, вишни блестят сквозь пыль, как варенье через голубую плесень.
– Это не пыль, это снег, – говорит отец и опускает Аню на землю. Ноги у Ани голые, снег холодный.
– Сколько же ягод, – мама в белом платке поднимает с земли яблоки, засыпанные снегом, словно сахаром, дает Ане, но Аня отворачивается, плачет.
– Надо, надо, глотай.
Заталкивает яблоко в рот. Аня выплевывает, но мама снова сует ей в рот, и она глотает яблочную гниль.
Мухи садятся маме на платок, отец сгоняет их в сторону, и они жужжат серым роем, и сквозь них, как через туман, желтым глазом смотрит на Аню птица, а за птицей – яблоня, вся в золотых яблоках.
– Молодильные.
Аня тянет к яблоку руку, но птица срывается с ветки, летит на Аню желтым страшным глазом и разбивается яблоком.
А потом снилось еще что-то длинное, невыносимое, как скрип качелей или весел в уключинах лодки, и закончилось. Аня вышла в сад. Молодой, новый. Аня пошла к реке, где должна сидеть мама и чистить рыбу.
Чешуйки прозрачные блестели среди травы, как слезы. Вот дорожка к реке, вот помост, но реки нет, высохла, вместо нее только высокая трава, овраг, и ивы, расступившись, смотрят на Аню, и птица с белым клювом катает яблоко, туда-сюда, тук-стук.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































