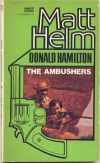Читать книгу "Крепостная графиня"

Автор книги: Елена Арсеньева
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Елена Арсеньева
Крепостная графиня
Раба ли я, или подруга – знает Бог.
Е. Ростопчина
Пролог
– Не желаете ли, господа, все-таки примириться?
Берсенев криво улыбнулся. К чему дурацкие вопросы? Впрочем, этого требует дуэльный кодекс… Ах, как напыжился его противник! Полнейшее ничтожество, расфранченный хлыщ, блестящие лайковые перчатки которого, кажется, составляют его единственное право на звание человека. У этого господина такой вид, словно он впервые прилично оделся. Надо думать, и дуэльное оружие он возьмет в руки впервые, а стало быть, не попадет в цель.
Эх, жаль! Берсенев будет держать хорошую мину при плохой игре, однако он-то знает: с такой охотой принял вызов именно потому, что решил предоставить судьбе шанс. Как это аттестовали его на днях: «С такой хандрой просто неприлично появляться между людьми! Первый раз вижу человека, который утратил вкус к жизни после получения столь громадного наследства!»
Он утратил не вкус к жизни. Он утратил счастье всей своей жизни!
Некое имя прошелестело в его памяти, словно цветущая ветвь сирени. Странное, прекрасное имя. Раньше он слышал его не раз, но тогда оно звучало обыкновенно, казалось совершенно обыденным. И лишь применительно к ней, к ней одной…
Берсенев очнулся, почувствовав вдруг, что все уставились на него: и этот юнец, Станислав Белыш, его новоиспеченный знакомец и секундант, и секундант противника, и сам противник, прорычавший:
– Мириться с этим негодяем? С этим ничтожеством? Да ни за что на свете!
– Довольно, – попросил Берсенев почти ласково. – Вы уже все сказали, что следовало, и этого вполне достаточно, чтобы я убил вас десять или десятижды десять раз. И, может быть, хватит время терять? Я еще надеялся быть сегодня на Конской площади: если помните, вчера по вашей милости я так и не купил себе жеребца взамен моего ненаглядного Байярда.
И тут же он спохватился – зачем кому-то знать о Байярде, об Адольфе Иваныче, о побегах и предательствах, невозвратимых потерях?
Его противник как-то странно, конфузливо хохотнул. Его одежда, смешки, его нависшие черные брови и рейтарские усищи казались нелепыми, театральными. Да и фамилия была подобающая: Софоклов. Не фамилия, а словно бы дурной театральный псевдоним. А предлог, под которым он вызвал Берсенева?! Якобы тот обесчестил его сестру!
Услышав это, Станислав Белыш, который до сей минуты взирал на Софоклова насмешливо, помрачнел:
– Ну, коли за сестру… За сестру я бы тоже стрелялся с кем угодно!
Берсенев же только плечами пожал. В жизни не знал он ни одной мамзель Софокловой, не то чтобы бесчестить ее! Разве что в былые времена, когда путался с певичками или девками из нумеров? Но среди них отнюдь не встречалось невинных девиц… Вранье, конечно, какое-то. А, вранье – да и ладно, не все ли равно, отчего помирать?
«Актеришка, – тоскливо подумал Берсенев. – Ну, надо надеяться, стрелять-то тебя выучили на подмостках, или ты просто подымал картонный, раскрашенный пистолет, в то время как за сценою кто-то кричал: «Ба-бах!», в лучшем случае ударяя в деревяшку?»
Он нахмурился. Мучительное воспоминание проплыло в голове, и это опять было связано с нею, с его незабываемой пропажею: как она выскочила на сцену в синем китайковом сарафанчике, полотняной рубашке и новеньких лапотках, а поодаль ударили чем-то деревянным, словно бы выстрелили, и она вздрогнула в притворном испуге, проговорила: «Ах, вот он идет!» – и на ее лице было такое чудесное, несравненное выражение пробуждающейся любви, ожидания, надежды, что у Берсенева сердце зашлось, ибо он возмечтал, чтобы лишь к нему одному, никому иному, были бы устремлены отныне ее любовь, ожидания и надежды!..
Берсенев тряхнул головой, вызывающе улыбнулся противнику и, повинуясь команде Станислава: «Начинаем. Разойдитесь, господа!» – пошел в густой, как молоко, туман.
Ну что ж, он готов к любому исходу. Дела вполне в порядке. Несколько необходимых писем были написаны ночью, а в их числе – распоряжения по имениям, а также – еще одно, самое для Берсенева важное. Оно было запечатано в конверт с надписью: Станиславу Белышу, а внутри находилась записка, в которой Берсенев поручал своему молодому приятелю исполнить его предсмертную волю и отыскать, пусть и через год, и через десяток лет, некую особу… Здесь Берсенев перечислял все сведения, какими только располагал о ней. Скудны были они, и слабо верилось, что Станиславу удастся совершить то, что не удалось ему самому. Впрочем, оставалась еще надежда на небеса, которые могут проявить снисходительность к последней, предсмертной просьбе.
Да он что, уже почти уверился, что падет от руки этого, как его там… Софоклова?
Берсенев невольно усмехнулся. Чудеса! Чем дальше, тем меньшее отвращение вызывал в нем Софоклов. Конечно, он был негодяй – но какой симпатичный негодяй! Правда, иногда он становился по-вчерашнему патетически гадок, этак старательно отвратителен. Однако сейчас, когда туман надежно скрыл его ужимки, Берсеневу вдруг показалось, что всю эту отвратительность Софоклов нарочно напускал на себя, и его кошмарные манеры, и повадки, и само оскорбление, за коим последовал вызов, – не более чем спектакль, маскарад. Вообще удивительно, как это Софоклову удалось до такой степени его раззадорить, чтобы поставить на грань выбора между жизнью и смертью.
И тут его размышления были прерваны окликом, долетевшим из белой туманной завесы:
– К барьеру! Сходитесь, господа!
«Пора!» – сказал себе Берсенев и двинулся вперед, отсчитывая шаги и напряженно всматриваясь в мутную кисею, маячившую перед его глазами.
«Один, два… Может быть, вовсе не стрелять? Нет, наоборот, лишь завижу Софоклова, надо выпалить над его головой, а потом уж дать возможность ему… Расстояние-то плевое! Пять, шесть…»
Берсенев поднял руку с пистолетом и невольно вздрогнул, когда впереди забрезжили очертания человеческой фигуры. Как, уже? Он не ожидал, что так скоро… К тому же проклятый туман забавлялся со зрением. Софоклов сделался выше, тоньше, а ужасающие цвета его одежды мутно почернели.
«Семь, восемь…»
Берсенев вскинул пистолет повыше, чтобы пуля наверняка прошла над головой противника.
«Девять… десять!»
Он медленно потянул курок, и…
И нога его скользнула по гладкому корню, словно нарочно вылезшему из земли. Пистолет дернулся вниз, палец резко рванул курок.
Грянул выстрел.
Черный силуэт, качнувшись, высоко взметнул руки – и боком повалился наземь.
Берсенев застыл на месте, медленно опуская отяжелевший пистолет.
– Черт… упал! Ссылка на поселение или крепость от шести лет и восьми месяцев до десяти лет.
– Ну что вы! Не более трех! Уж поверьте, я дело знаю.
– А ежели убит?
– Тогда на поселение пойдет, не миновать. Да и нас не помилуют.
Перебрасываясь короткими, отрывистыми фразами, секунданты со всех ног летели к упавшему.
Берсенев, с трудом заставив себя тронуться с места, медленно шел туда же.
Голова его была пуста до нездешнего гулкого звона, а белые волокна тумана мешались с кровавой мутью, застилавшей глаза.
Секунданты оказались проворнее, вместе подскочили к Софоклову, вместе склонились над ним – и вместе, резко, будто по команде, отпрянули с одинаковым восклицанием:
– О Господи!..
«Наверное, все-таки убил! – похолодел Берсенев. – И, наверное, какая-нибудь ужасная рана. В лицо… может быть, в глаз!»
Его передернуло от ужаса; кое-как заставил свои деревянные ноги передвигаться быстрее.
Тяжело подбежал, навис над головами секундантов – и вдруг замер, как они, потом так же отпрянул – и тоже помянул Господа.
Этот человек, лежавший на тропе, неловко подогнув ногу и разбросав руки, в одной из которых был пистолет… он не был Софокловым! Весь в черном, в высоких «веллингтоновских» сапогах и мягкой «калабрезе», нахлобученной так глубоко, что повисшие поля прикрывали пол-лица, он был одет иначе и выглядел иначе!
– Кто это? Кого вы пристрелили, милостивый государь? – отрывистым, неприязненным тоном спросил секундант Софоклова. – Это убийство, знаете ли, чистейшей воды…
Не слушая, Берсенев распахнул просторный черный сюртук лежащего, да так и ахнул, увидев, что правое плечо все залито красным. Но не только это поразило его в самое сердце. Набухшая кровью белая рубаха ощутимо вздымалась на груди!
– Женщина? – изумленно прошептал секундант.
– Неужели?..
Внезапно Станислав Белыш, издав какое-то неразборчивое восклицание, схватился за шляпу, рванул – и… и тонкие русые волосы хлынули мягкой волной. Станислав сдвинул их дрожащей рукою – открылось нахмуренное лицо, такое бледное, каких не бывает у живых людей, а только у мертвых… или у призраков.
«Призрак, – подумал Берсенев. – Конечно, это призрак!»
И тут же он услышал чей-то глухой, совершенно незнакомый голос, отчаянно зовущий:
– Арина! Господи Боже мой! Арина!
«Это я говорю, – с усилием осознал он. – Это мой голос. Странный какой!»
Мысль мелькнула – и исчезла. Он протянул дрожащую руку к любимому лицу, и вдруг что-то больно рвануло его за плечо.
Оглянулся, тупо уставился на своего секунданта – тоже смертельно бледного, с расширенными, безумными глазами.
– Вы убили мою сестру, милостивый государь! – воскликнул Станислав срывающимся голосом. – Мою сестру! И позвольте вас спросить, какого черта вы называете ее Ариной?!
Глава I
Веки вечные
«…Если папа узнает – убьет!» – отрешенно подумала Ирена, и в этот миг настойчивый рот Игнатия заставил ее чуть разомкнуть губы.
«О Господи! Я целуюсь! Я в самом деле целуюсь!» Ирена едва не вскрикнула, однако при всем желании сделать это было затруднительно: мешали горячие губы Игнатия.
На миг перед мысленным взором промелькнули вытаращенные глаза Лидочки Константиновой, которая потрясенно слушает снисходительный рассказ Ирены о том, что, собственно, и есть поцелуй; потом с некоторым сожалением Ирена вспомнила, что Лидочка Константинова отныне – всего лишь тень невозвратимого смольненского прошлого; потом всякие детские глупости улетучились из головы Ирены, и она подумала, что, пожалуй, надо как-то отвечать Игнатию, а не стоять столбом. Ведь пока что он целует ее, а слово «целоваться» как-никак предполагает участие двоих…
Но она не знала, что делать. А потому решила повторять все его действия – ведь повторенье, как известно, мать ученья. Поговорка сия употреблялась обыкновенно в ином смысле, однако сейчас Ирене было не до казуистических тонкостей.
Игнатий тихо охнул и так крепко прижал Ирену к себе, что она услышала (а может быть, ей это просто почудилось), как захрустели обручи кринолина. «Наверное, эти кошмарные юбки нарочно придумали, чтобы не давать влюбленным крепко прижиматься друг к другу!» – сердито решила Ирена.
Дыхание Игнатия сделалось прерывистым; Ирена и сама задыхалась в его крепких объятиях, однако и не помышляла прервать их.
Кровь стучала в висках.
«Я сейчас упаду в обморок! – изумленно подумала она. – Лишусь чувств от страсти! Так вот она какая – страсть!»
Вдруг губы Игнатия, оторвавшись от ее рта, скользнули по шее к изгибу плеча и прижались к нему, точно раскаленное клеймо.
Ирена испуганно вскрикнула, уперлась руками в его грудь, и Игнатий выпустил ее мгновенно, повесил голову, бессильно опустив руки.
– Вы отвергаете меня… – прошелестел чуть слышно.
«Ого! – едва не воскликнула Ирена. – А что было только что? Это называется – отвергать?! Еще чуть-чуть – и мы дошли бы до… до…»
Тут мысли ее бестолково заметались, ибо она не знала, до чего бы они дошли. Наверное, до того самого обряда, который превращает девушку в женщину.
«Она стала женщиной!» – произнесла мысленно Ирена голосом Лидочки Константиновой… И вот она уже идет в своем светло-зеленом платье с белыми рукавчиками и воротничком по дортуару[1]1
Дортуар – спальня в закрытом учебном заведении.
[Закрыть], или встает из-за парты в классной комнате, или приседает в реверансе на уроке танцевания, а изо всех углов смотрят на нее девчонки, умирая от любопытства, и шушукаются, почти не размыкая губ, как исхитрились научиться переговариваться – первейшая из наук! – под неусыпными взорами классных дам: «Она стала женщиной! Сокольская стала женщиной!»
Вздор. Никем она не стала. Как Ирена ни наивна, она все-таки не та конфузливая до дикости, потешная, жеманная институтка, какой вышла из Смольного два года назад, и прекрасно понимает, что от первого в жизни поцелуя дети еще не рождаются. Но не смешно ли, что для нее еще имеют какое-то значение прежние институтские каноны?!
Там, в Смольном, они сидели в заточении, как сказочные царевны в замке Кощея. Все только и ждали выпуска. Жизнь представлялась сплошным балом под звуки вальса и мазурки. Почти все подружки уже нашли в этой бальной круговерти постоянного кавалера: вышли замуж. К хорошеньким, пылким и неопытным смольняночкам (особенно с приличным приданым) сватались весьма охотно. Отец Ирены (с ее согласия) отверг трех или четырех серьезных претендентов на руку дочери, а уж сколько признаний в любви до гроба выслушала она сама на балах и вечеринках от знакомых (преимущественно юнкеров, приятелей Ирениного брата Станислава) и незнакомых молодых людей – того и вовсе не счесть! Конечно, эти «вальсирующие вздохи» она никогда всерьез не принимала, хотя первое время ей становилось страшно, что, отвергнув кого-нибудь, она вынудит несчастного на самый отчаянный шаг. А ведь среди них, затворниц-смольнянок, дикарок, попадались такие дурочки, которые были всерьез убеждены, что, если кавалер во время бала приглашает на мазурку (почему-то именно мазурке отводилась сия роковая роль!), это означает предварительное сватовство, за которым незамедлительно последует формальное предложение. Одна девушка, достоверно знала Ирена, прождав напрасно несколько дней своего кавалера с предложением, была так скандализована этим, что бросилась к своему брату-юнкеру (он был из приятелей Станислава, почему Ирене и сделались известны подробности происшествия), умоляя его стреляться с человеком, по мнению девушки, опозорившим ее.
Бог ты мой! А что же говорить тогда о таких поцелуях, как тот, которым Игнатий только что наградил Ирену? Ведь, если принимать институтские каноны, он только что обесчестил ее!
С досадой девушка прикусила губу. Все-таки в ее образовании имеется существенный пробел. «Обесчестить» – загадочный синоним не менее таинственного «сделать женщиной»…
Игнатий стоял, прижав руку к груди, сверкая огромными черными глазами.
Сердце Ирены сладко заныло. «Господи, как он красив!»
Она нервно сплела пальцы. Из всех писателей она более всего любила Стендаля, пожалуй, потому, что мир его прозы был населен бледными, страстными, замкнутыми красавцами и у всех были черные волосы и черные глаза: у Жюльена Сореля, у карбонария Пьетро, у… как его там звали, этого восхитительного юношу из «Пармской обители»?! Забыла… стыд какой! А впрочем, карбонарий Пьетро был вроде бы белокурый…
Впрочем, Ирена, которой до дрожи нравились бледные романтические брюнеты с пламенным взором, с легкостью перекрашивала в жгуче-черный цвет всех книжных блондинов. В ее воображении даже Тристан был черноволос! И хотя черты их расплывались и менялись в ее воображении, однажды она поняла, что все ее любимые герои имели вполне определенные черты: безукоризненно очерченные дуги бровей, волну иссиня-черных кудрей, ниспадающих на высокий бледный лоб, изысканный профиль, яркий рот – и глаза… огромные черные глаза, зеркально-сверкающие, миндалевидные, с чуточку опущенными внешними уголками, что придавало им отрешенное, печальное, мечтательное выражение. Ирена в жизни не видела человека красивее Игнатия и, хотя она была высокого, пожалуй, преувеличенно высокого мнения о своей наружности, чувствовала себя рядом с ним довольно-таки бледной, пожалуй, даже бесцветной и с восторгом ловила каждую мелочь, которая свидетельствовала: этот ошеломляющий красавец истинно в нее влюблен. Стоит только послушать, что он говорит!
– Я люблю вас! Люблю так страстно и нежно, как никто и никого еще не любил со времен сотворения мира. Тот огонь, который вы зажгли в моем сердце, не погасит даже вся мощь Ниагарского водопада!
«Где это? – вдруг подумала в ужасе Ирена, которая страшно растерялась и почувствовала себя испуганной девочкой на уроке, к которому не приготовилась. – В Африке? В Америке? Кажется, там Стэнли встретился с Ливингстоном? Или, наоборот, Ливингстон со Стэнли… Идиотка! Это было возле водопада Виктория в Центральной Африке!»
Вспомнив правильный ответ, Ирена неожиданным образом приободрилась и наконец сообразила потупиться, как подобает воспитанной девице: до этого она во все глаза глядела на Игнатия, впитывая его слова так же самозабвенно, как несколько минут назад принимала его поцелуи (и отвечала на них, заметьте себе!).
– Ах, я люблю вас! – Игнатий поднес к губам руку Ирены, осыпав ее мелкими поцелуями, и губы его были столь горячи, что ей почудилось, будто на кисть брызнули раскаленные искры, прожигавшие даже сквозь перчатку. – Я люблю вас безумно, я готов отдать жизнь за вас, но…
– Но?.. – с трепетом переспросила Ирена, во всю ширь распахивая глаза: какое здесь вообще может быть «но»?!
– Но я прекрасно понимаю, что этим признанием я подписываю себе смертный приговор! – звонким, срывающимся голосом произнес Игнатий. – Ваши родители никогда, никогда не согласятся на наш брак! А это значит… значит…
«Застрелится! Непременно застрелится!» – подумала Ирена со сладким ужасом.
Ей даже в голову не пришло, что Игнатий может утопиться – топятся в романах обыкновенно разочарованные или обманутые девицы – или повеситься: эту неэстетичную смерть выбирают несостоятельные должники, промотавшиеся картежники, пустившие по миру свое несчастное семейство, и прочие скучные люди.
Нет, романтический герой должен непременно стреляться! И сию же минуту пылкое воображение нарисовало стройную фигуру Игнатия, беспомощно раскинувшуюся на кремовом обюссонском ковре (почему-то именно этот ковер, украшающий ее комнату, представился Ирене). Рука Игнатия сжимала еще дымящийся пистолет. Ирена подходит к нему, вынимает пистолет из еще теплых пальцев – и короткое, страшное рыдание сотрясает ее тело. Она прижимается губами к похолодевшим губам Игнатия… Пальцы-то еще теплые, но губы уже почему-то похолодели, вот странно! Нет, не так: губы тоже чуть теплые, в них догорает последний пламень страсти (о Боже! как это прекрасно!). Итак, она прижимается губами к его чуть теплым губам, которые еще недавно так жарко, так пылко целовали ее, приставляет к виску ледяное (непременно ледяное!), пахнущее порохом дуло – и спускает курок, вы только подумайте, в ту самую минуту, как отец с матушкой распахивают дверь, восклицая: «Мы согласны на ваш брак, дорогие дети! Благословляем вас!»
Глупые мечтания, достойные какой-нибудь первоклашки в кофейном платье![2]2
В Смольном ученицы младших классов носили платья кофейного цвета, средних классов – голубого, а старших – светло-зеленого.
[Закрыть]
Да никогда в жизни родители не дадут своего согласия на их брак, даже если Игнатий и Ирена застрелятся вместе! Можно вообразить, какими глазами они будут смотреть на этот черный фрак, означающий, что Игнатий не обременен никакой государственной службой. Форменную одежду гражданских и военных чиновников шили из цветных тканей, в строгом соответствии с рангом. Скажем, в ярко-голубом ходили жандармы…
Бр-р! Ирена так и передернулась, вспомнив ослепительный мундир жандармского полковника Нифантьева, первым посватавшегося к ней. Кстати, этот оттенок голубого даже в модных журналах назывался цвет «жандарм». Но сукно нифантьевского мундира было преотличное. Не то что на фраке Игнатия – слегка порыжевшем. Ну, сын графа Лаврентьева мог бы позволить себе настоящий дорогой «вороний глаз»!
Может быть, сей граф, отец Игнатия, не так уж богат? Она слышала о людях, у которых от роскоши предков остался лишь титул. Может быть, Игнатий едва сводит концы с концами, только виду не подает? Ну, фризовой шинели, как на каком-нибудь нищем заседателе, она на нем, во всяком случае, не видела!
И вдруг Ирена с изумлением ощутила, что небрежность туалета Игнатия ее очень мало волнует. Она, которая готова была презирать какого-нибудь соискателя своей руки за то, что он надевал коричневые замшевые перчатки там, где требовались единственно серые лайковые, или даже если позволял себе надевать перчатки на улице, уже выйдя из дому (непростительный моветон, так же как даме завязывать на улице, а не дома, ленты шляпки!), – она почувствовала, что при мысли о возможной бедности Игнатия горячая волна умиления залила ей сердце.
Кому судьбою непременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил назло Вселенной —
Сердиться глупо и смешно! —
вспомнила Ирена строчки Пушкина. На мгновение ей даже стало жаль, что граф Лаврентьев все-таки баснословно, просто-таки несусветно богат (по словам Игнатия, в своей Нижегородской губернии он слыл притчей во языцех из-за роскоши своего дома, доходности имения и изысканности привычек). Как было бы чудесно, когда б Игнатий оказался бедным офицером. Лучше, конечно, разжалованным в солдаты из-за того, что вступился за честь сестры, которую обольстил какой-нибудь негодяй! Если у него есть сестра, конечно…
Нет, тогда отец уж точно скорее выдал бы Ирену за Нифантьева, известного своим тяжелым нравом, вдобавок чуть не вдвое старше ее, а ей никак, ну никак не улыбалась перспектива оказаться на веки вечные в ежовых рукавицах какого-нибудь немолодого, своенравного ревнивца, зависеть от него, от его прихотей всецело, но не чувствовать при этом ни малейшей радости, не узнать счастья любви, не трепетать при встрече с ним, как она всегда трепетала, лишь завидев Игнатия, не изведать тех заветных любовных восторгов, о которых столь красноречиво повествуют многоточия на самых напряженных страницах романов, а также знаменитое «потом»: «Потом она стояла у окна и долго провожала взором удаляющуюся фигуру человека, которому теперь принадлежала вся, без остатка, и телом, и душою. Наконец решилась обернуться и взглянуть на смятую постель…»
Ирена едва не вскрикнула, так сильно заколотилось сердце. Она хотела принадлежать душою и телом! Всецело! Она хотела оборачиваться и взглядывать на смятую постель – что бы там ни происходило, на этой постели! Она хотела, наконец, узнать, что же именно там происходит! Она хотела любви: такой же сумасшедшей, безумной, страстной любви, которую, согласно семейным преданиям, изведали все женщины их рода!
Ну что ж, если родители никогда и нипочем не дадут согласия на брак с Игнатием, а она сама страстно желает видеть своим мужем только его, его одного, – значит, надо сделать так, чтобы они согласились.
Ирене приходилось украдкой слышать две-три истории о том, как некая девица, забывшись, отдалась (необычайно волнующее, хотя и совершенно непонятное слово!) какому-нибудь молодому человеку, вследствие чего вскоре была сыграна свадьба. Может быть, отдаться Игнатию (что бы ни означало это действие) или хотя бы сказать маме с отцом, что она это сделала?.. И вдруг Ирена почувствовала, что не вынесет ужаса в глазах матери и отцовского презрения, не сможет поступить, как согрешившая горничная. Да-да, теперь она вспомнила, у них была подобная история с молоденькой горничной Агашей, только-только взятой из деревни. Она отдалась (или, может быть, у крепостных это называется иначе, не столь многозначительно и пугающе?) отцовскому камердинеру Емелиппу и вскоре кинулась в ножки барыне, винясь в грехе и сознаваясь, что брюхата (ну уж это слово – уж точно пригодно лишь для дворни или вовсе для крестьян!). Ирена до сих пор помнила, как брезгливо сказал отец про Агашу:
– Окаянная девка! Не утерпела, сучка молоденькая.
Менее всего на свете она желала бы, чтобы отец когда-нибудь так отозвался о ней, чтобы в глазах у него появилось такое же ледяное отвращение!
Нет, она просто не перенесет этого! Значит, у них с Игнатием все должно быть по-другому. «Отдаться» ему можно только после венчания – никак иначе. И явиться к отцу с матерью уже потом, спустя некоторое время, в качестве вполне законной супруги молодого графа Лаврентьева – и с чистой совестью.
Однако что же молчит Игнатий? Почему не скажет, наконец…
И она даже отшатнулась было, когда Игнатий внезапно рухнул перед нею на колени (под ухоженной, тщательно подстриженной травкою английского газона, чудилось, земля загудела!) и, сжимая ее руки, сбивчивым, захлебывающимся речитативом выкрикнул:
– Умоляю вас, Ирина Александровна… Вы прекрасны, обворожительны! Все другие барышни угасли перед вами, как звезды перед солнцем… Я люблю вас, люблю!.. Ирена, обожаемая, ненаглядная, будь моей женою! Не отвергай несчастного, для которого ты – весь свет, вся жизнь! Все надежды мои на счастие связаны с тобою, одна ты можешь спасти несчастного, которого…
Голос Игнатия пресекся, он быстро опустил голову.
Ирена, высвободив одну руку, коснулась его подбородка, заставив поднять лицо, и сердце ее пропустило один удар от счастливого открытия: глаза Игнатия были полны слез.
«Господи! – воззвала она в изумлении. – Да он и впрямь любит меня!»
В жизни не видевшая мужских слез (не принимать же, в самом деле, во внимание расплывчатых воспоминаний о детских слезах Стасика, который лет до семи был столь плаксив, что даже младшая сестра дразнила его «рева-корова»!), Ирена была воистину потрясена в эту минуту. Жизнь предоставила ей чарующую возможность сделаться истинной героиней романа, вдобавок – несказанно осчастливив любимого человека на веки вечные.
Эти самые «веки вечные», неожиданно взбредя в голову, почему-то растрогали Ирену едва ли не больше, чем слезы в глазах Игнатия, было в этих словах что-то роковое, бесповоротное. Ирена вдруг ощутила себя тайной христианкой, которая бросается под жадными взорами язычников на арену, где погибают ее собратья по вере. Самопожертвование – вот как это называется! Конечно, она навлечет на себя гнев родителей, однако… Игнатий! Игнатий будет счастлив! Ну а родители поймут ее, когда она скажет, будто Игнатий уже приставил пистолет к виску, готовый немедля застрелиться, ежели она не согласится бежать с ним!
«Вы слышали? Ирена, знаете, такая красавица, дочь графа Александра Белыш-Сокольского, к ней еще сватались самые завидные женихи… Вообразите, сбежала с возлюбленным! Нет, вы не подумайте ничего плохого: он баснословно богат и тоже человек из общества, сын графа Лаврентьева. Не понимаю, почему ее родители так противились этому браку: из этих молодых людей получилась великолепная пара!»
Ирена возбужденно сверкнула глазами, вообразив подобные разговоры, и вдруг ее словно ледяной водой окатили: ни слова о бегстве не было пока что сказано Игнатием! С чего вообще Ирена взяла, будто его мысли к этому обращены? Может быть, он сейчас же поднимется – и прямиком отправится к ее отцу? Хотя нет, не получится. Ни отца, ни матушки нет в городе: они гостят в Петергофе и воротятся лишь к исходу недели, через три, а то и четыре дня. Ах, какая чудная, какая благоприятная пора для тайных свиданий, а затем и для тайного венчания!.. Ну просто грех не распорядиться случаем. Ирена в жизни не простит Игнатию, если тот сию же минуту не утрет слезы и не скажет…
И снова ей пришлось испуганно отпрянуть, потому что Игнатий вскочил с колен столь же внезапно, как давеча рухнул на них, – и надвинулся на Ирену, так сверкая глазами, что ей почудилось, будто из них сыплются настоящие искры – как от бенгальских огней.
– Жизнь моя и смерть в руках ваших! Согласны ли вы бежать со мною, чтобы венчаться тайно, а затем, заручившись благословением моего отца, пасть в ноги вашим родителям, умоляя их о прощении? Говорите сразу: да или нет, не то…
Он умолк, и рука его скользнула за борт сюртука.
У Ирены сладко замерло сердце: сейчас Игнатий выхватит наконец пистолет!.. Нет, пистолет за отворотом на груди не поместится. Может быть, хотя бы кинжал?.. И чтобы не дать себе окончательно разочароваться при мысли, что и кинжал вряд ли спрятан в жилетном кармане Игнатия, Ирена выпалила:
– Да! Да, я готова!
И зажмурилась, чтобы лучше освоиться с мыслью: слово сказано, жребий брошен, жизнь круто поворачивает по новому руслу, изменяя прежнее течение – на веки вечные!