Текст книги "Ваш милый думает о вас"
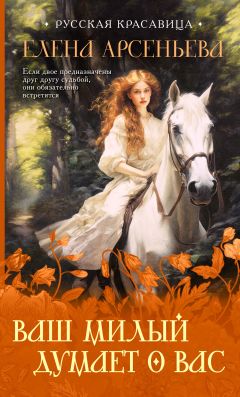
Автор книги: Елена Арсеньева
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Садовник-брюнет
Хор только что завершил традиционную «увертюру» про душку-колонеля, и раздались звуки рояля. Мадам Люцина придержала Юлию за дверью:
– Ах, какая божественная, божественная музыка!
Мелодия и впрямь была прекрасна. Гармонию звуков не могла испортить даже плохая игра.
– Полонез Огиньского! – вздохнула мадам. – Говорят, пан Михаил-Клеофас был лучшим композитором среди дипломатов и лучшим дипломатом среди композиторов!
Полонез Огиньского… Адам обожал его. А князь Никита Ильич не упускал случая припомнить другого Михаила Огиньского, Михаила-Казимира, гетмана Литовского, лидера польских конфедератов, которого в пух и прах разбил Суворов в семидесятых годах, так что пан гетман без памяти бежал во Францию, зарекшись отныне называть русских «быдлом».
Юлия поджала губы. Ох, не вовремя, не к месту пришли эти воспоминания! Нет, прочь!
Тряхнув головой, она решительно шагнула в комнату, так, что мадам Люцина даже замешкалась от неожиданности. В этот вечер дебюта Незабудки в парадной зале было не очень многолюдно: на премьеры приглашались только свои люди, постоянные клиенты, которые удостаивались чести сорвать первые цветы удовольствия: не более семи-десяти человек. В центре возвышался знаменитый стол для «плетения венков» – обитый красным плюшем, похожий на окровавленный жертвенник.
Сейчас на нем под музыку Огиньского, которую выбренькивала на рояле рыжеволосая Пивонья, облаченная в алый шелк, лениво извивалась Ружа в обнимку с каким-то садовником. Взгляды, которые она дарила молодому человеку, были бы способны растопить небезызвестный Ледяной дом, и возбуждение, охватившее садовника, было видно всякому: ведь на его теле не было и лоскутка! И Юлия оторопела на пороге, осознав: в отличие от девиц, разодетых в свои цвета, все мужчины были голым-голы, хотя спектакль еще не начинался.
Она невольно зажмурилась, но мадам Люцина железным перстом толкнула ее в бок: «Не стой столбом, мужичка!» – и та открыла глаза, изобразила улыбку, помахала рукой – все как ее учили! – молодым людям, которые тотчас окружили ее и принялись осыпать комплиментами ее голубой наряд, ее фигуру, ее волосы. Никто не прикасался к Незабудке, таково было суровое правило Театра: пока дебютантка не выбрала себе садовника, рук не распускать.
Юлия словно в тумане видела окружавших ее самцов. Только трое еще не присоединились к сборищу ее почитателей и сидели у рояля; один поглаживал спину играющей Пивоньи, а двое других были увлечены беседою. И Юлия едва не расхохоталась истерически, услыхав, что эти мужчины, сидящие в гостиной публичного дома, самозабвенно превозносят до небес французскую армию, Французскую революцию, а также гильотину, в которой видели спасение страны, и не только Франции – Польши тоже. Речи Посполитой, свергнувшей гнет России, надлежало непременно обзавестись гильотиной, на которую будут сведены все оставшиеся в Польше русские – и все пленные, захваченные в разразившейся войне.
– Кроме великого князя Константина! – со смехом воскликнул один из беседующих, и голос его показался Юлии знакомым. – У этого кацапа и впрямь великая душа: он без боя отдал Варшаву варшавянам!
– Вопрос – кому? – пробормотал первый. – Будущее в тумане. На престол могут втащить кого угодно.
– Да не все ли равно? Пусть и впрямь Польша станет аристократкой, пусть ее королем станет Чарторыйский, пусть австрийский принц – лишь бы она была независимой от проклятой России!
– Вы что, еще не читали манифест революционного сейма от 20 декабря? Лялевель[22]22
Иоахим Лялевель – лидер польской революции, демократ.
[Закрыть] там расшаркался: «Нами не руководит никакая национальная ненависть к русским, представляющим собою, как и мы, великую ветвь славянского племени». Как вам это нравится?! Добрососедство с великой Россией! Это ли не предательство?! Так что, друг мой, словечко «проклятая» становится немодным.
– Поистине, среди русских хороши были только пятеро повешенных в Санкт-Петербурге после событий на Сенатской площади и их сотоварищи, звенящие кандалами в Нерчинске. Будь моя воля, я бы всю Россию заковал в кандалы!
Как ни отвратителен был Юлии предмет их беседы, она невольно прыснула: два молодых человека, явившихся в бордель, беседуют о политике, выплевывают бессильную злобу, словно забыв, куда пришли, зачем пришли, словно забыв, что оба вовсе голые!
– Господа, господа! – Похлопала в ладоши мадам Люцина, и Пивонья прекратила терзать рояль. – Нынче в нашем милом театре премьера. Представляю вам очередную дебютантку. Ее имя…
Она помедлила, и этого мгновения как раз достало, чтобы двое беседующих прервались, обернулись к девушке в голубом, взглянули на нее со вниманием – и один из них изумленно воскликнул:
– Юлия!
И ей тоже хватило этого мгновения – чтобы увидеть его лицо, и узнать, и понять, что теперь она окончательно погибла, ибо это был… Адам.
Адам!
Золотоволосый красавец, словно изваянный из мрамора, стройный, изящный… а ноги-то у него какие тощие и кривые, словно от другого тела отрезаны! Вот странно – Юлия не замечала этого прежде, когда он был одет. И почему-то сплошь поросшие густым черным волосом до самых чресел!
Откуда он здесь?! Как он здесь?! Зачем?!
«Да за тем же, зачем и прочие, – холодно усмехнулась Юлия. – И, верно, он здесь завсегдатай – ведь на премьеры зовутся только «друзья дома»!»
Она-то мучилась угрызениями совести, изнемогала от стыда, ощущала себя предательницей, потому что введена была в роковое заблуждение тьмой, и ночью, и своей любовью к нему! А он, расточая ей нежнейшие признания, через час бежал сюда и валялся с распутной Ружей, ленивой Пивоньей, глупышкой Фьелэк – да и со всеми с ними враз. С него станется! Ах, потаскун, пакостник, блудодей, кощунник! Да как он смел глумиться над любовью! Вот сейчас Юлия скажет ему! Все скажет, что думает! Ведь, если порассуждать, она здесь очутилась из-за него. Он сейчас узнает, что совершил!
Юлия уже набрала в грудь воздуху, оттачивая словцо поострее, уже хищно блеснули ее глаза, она уже приоткрыла рот, готовясь обрушить на Адама град упреков и оскорблений, – да так и замерла, словно подавилась своими же словами, ибо внезапная мысль, пронзившая ее, была ядовитее змеиного укуса: а что будет, если Адам в ответ назовет фамилию ее отца? На свой позор она уже закрыла глаза, но позора этой отважной, честной фамилии вынести не сможет! Господи, не допусти!
– Юлия, боже правый, – повторил между тем Адам, и недоверчивое изумление на его лице сменилось кривой усмешкою. – Ты здесь?! Так значит, Сокольский ошибался, говоря, что ты дочь… – У него перехватило горло, и как ни была напряжена, потрясена Юлия, она не смогла не заметить, что рука Люцины вдруг ощутимо задрожала, и мадам испуганно воскликнула:
– Проше пана, здесь нет имен! Здесь только цветы и садовники! Нашу дебютантку зовут…
– Юлия! – бормотал Адам, обратив на слова мадам Люцины не более внимания, чем на мушиное жужжание. – Так значит, ты лгала мне все это время?! Лгала с утонченным бесстыдством?! Ты просто шлюха, а не племянница горничной у Аргамаковых, или за кого ты там себя выдавала, и уж тем паче не та, за кого принял тебя Сокольский?! А он-то клялся, что невзначай обесчестил тебя, что должен отыскать, что ты теперь от него никуда не денешься! Поделом ему! Хорошенькое его ожидает разочарование, когда он узнает, что ищет шлюху, а вовсе не дочь русского…
– Проше пана Кохайлика! – истерически взвизгнула Люцина, и Юлия не вдруг сообразила, что Кохайликом в Цветочном театре кличут Адама Коханьского. – Проше пана Кохайлика! Мы не называем никаких имен! Сей новый на нашей сцене цветочек зовется Незабудкою, и сейчас ей надлежит избрать себе садовника. Итак, Незабудка, приглядись, выбери: будет ли у тебя садовник блондин, садовник брюнет, рыжий, шатен, русый? Ты должна быть внимательна!
Мадам Люцина, не останавливаясь, тараторила остальные правила игры, встречаемые смехом и восторженными криками гостей. Они оставляли других девиц и выстраивались перед Юлией. А она стояла будто к полу приклеенная, не сводя глаз с тонкого, красивого лица Адама, на которое медленно восходила лукавая улыбка, а глаза зажигались похотливым огнем.
– О, так ты должна выбрать себе садовника?! – промурлыкал он. – Сделай милость, окажи мне эту честь, пусть у тебя будет садовник-блондин. Выбери меня, и клянусь, Незабудочка, ты этого никогда не забудешь!
В нем просыпалась чувственность, и весомое доказательство сего неудержимо восставало из густой черной шерсти, покрывавшей его бедра.
«Меня сейчас вырвет! – с ужасом подумала Юлия. – Прямо сейчас! Я больше не могу!»
Она отшатнулась от Адама и наткнулась на стоявшего рядом мужчину – того, с кем он беседовал о гильотине. Она его и не разглядела толком, да и теперь было все равно, только бы оказаться подальше от этого Кохайлика, внушавшего ей даже не отвращение – какой-то темный ужас, поэтому она схватила за руку этого незнакомца и напористо повлекла за собой прочь из залы, сопровождаемая улюлюканьем, хохотом и непристойными пожеланиями оставшихся ни с чем гостей.
– Садовник-брюнет! – оповестила всех Ружа. – У Незабудки садовник-брюнет!
Краем глаза Юлия успела увидеть, что Адам ринулся следом, однако мадам Люцина проворно заступила ему путь.
– Так у нас не принято, пан Кохайлик, – сказала она тихо, но твердо.
Ни на миг не замешкавшись, Адам попытался оттолкнуть мадам, но та вцепилась в проемы двери и стояла непоколебимо, как скала.
– Так у нас не принято, – повторила Люцина, и в голосе ее зазвенел металл. – Или вы хотите, чтобы пан Аскеназа закрыл для вас кредит в нашем Театре?
«Ох, да он даже блудит в долг, этот загонов шляхтич!» – с презрением подумала Юлия, а что было в парадной зале потом, узнать не удалось: перед нею оказалась дверь ее опочивальни, куда она и вбежала.
Захлопнула дверь, повернулась, бурно дыша, – да так и села на кровать, ибо ноги подкосились.
Поистине, нынешний вечер выдался неистощимым на неожиданные встречи! «Садовник-брюнет» тоже оказался знакомым Юлии. Это был Валевский.
* * *
– Пан Ал… пан… – заикаясь проговорила Юлия, и он ответил почти так же, как там, на станции, где она увидела его впервые:
– Зовите меня лучше пан Флориан[23]23
Имя Флориан происходит от латинского слова «florus» – цветущий.
[Закрыть]. Это имя не хуже прочих! И весьма соответствует обстановке!
При этом он хихикнул, и Юлия, приглядевшись, поняла, что ее «садовник» изрядно пьян. Его даже пошатывало, взор блуждал, а рассеянное выражение лица доказывало, что он видит происходящее вполглаза и слышит вполуха.
«Может, он сейчас свалится и уснет и все обойдется?» – с надеждой подумала Юлия, однако расчеты ее тут же и рухнули: пан Флориан с некоторым усилием вынудил оба глаза не разбегаться в разные стороны, а вперил их в грудь Юлии и, пробормотав:
– Что-то на тебе больно много лепестков, Незабудка! – принялся срывать с нее одежду столь сноровисто, что оторопевшая Юлия ощутила себя луковкой в руках опытного повара: уже через мгновение шелуха платья была с нее сорвана, остались только голубые чулочки с подвязками. Они-то и произвели на пана Флориана поистине сногсшибательное действие. Он уснул так внезапно, будто умер, – и только громкое сопенье выдавало, что он вполне жив.
* * *
Юлия тупо глядела в потолок, не зная, плакать или смеяться, как вдруг почувствовала чей-то взгляд, и чуть не вскрикнула, увидев Шимона Аскеназу, стоявшего в дверях и глазевшего на обнаженные тела Юлии и пана Флориана. При этом он отчаянно гримасничал, делал какие-то безумные жесты, и Юлия не тотчас поняла, что пан Шимон всего лишь просит ее выйти с ним из комнаты.
Что, уже пора снова идти к гостям? Но почему в глазах Аскеназы такой ужас?
Немало всем этим озадаченная, Юлия поднялась и, прижав к груди охапку своих шелковых одежек, вышла в коридор, желая сейчас только одного: поскорее одеться.
– Слушайте, барышня! – пробормотал Аскеназа трясущимися губами. – Не стойте так, как будто у вас совсем отнялись ноги!
Юлия даже вздрогнула, до того эти слова напомнили ей жуткую суету в доме старой Богуславы. Она даже оглянулась невольно на кровать – но пан Флориан вполне жив, тихо, ровно сопит… Тут пан Шимон, потеряв терпение, схватил ее за руку и потащил по коридору, беспрерывно бормоча:
– Нужно бежать, бежать!..
– Дайте хоть одеться! – прошептала Юлия, вырывая руку. – Что за спешка, не пойму?!
Ей тоже стало страшно. Наверное, поляки напали-таки на след убийцы горбуна, а значит, есть угроза и для Аскеназы. Однако даже если сейчас вокруг их Театра стоит полк жандармов с кавалерией и артиллерией в придачу, Юлия никуда не пойдет, прежде чем не оденется по-людски. Она так и сказала Аскеназе, и тот мученически возвел к небу глаза:
– Ты, барышня, жалкий шекель, а он взыщет с меня за тебя как за меру золота! – простонал он.
Юлия подняла брови. Еще совсем недавно, насколько она помнила, в эту фразу пан Шимон вкладывал совсем другой смысл! И кто взыщет? Тот самый загадочный патрон? Но почему?!
Они вошли в комнату Юлии, и тут Аскеназа плюхнулся на плюшевый пуф и заплакал, тихонько всхлипывая и стеная:
– Пропал, пропал бедный еврей!
Юлии стало и смешно, и жалко его. Подошла, наклонилась участливо:
– Да в чем дело-то, пан Шимон, голубчик? Что случилось? Могу ли я помочь?
– Где была моя бедная голова?! – вскричал Аскеназа и ощупал названную часть себя, словно не веря, что она по-прежнему сидит на его толстой короткой шее, а не бродит по улицам как неприкаянная. – Где был мой бедный разум? Мой папа говорил мне: «Шимон, сынок! Ты должен не только слушать ушами, но и смотреть глазами! Только тогда ты услышишь то, что хотел тебе сказать вельможный пан, а не просто слова, которые он сказал!» Вот-вот… А я забыл. Забыл! – Он ткнул себя перстом в грудь. – Что говорил мне вельможный пан? Он говорил: «Аскеназа, ты плут, но ты не посмеешь мне отказать! Иди на улицу Подвале, в дом, что рядом с костелом Ченстоховской Божьей Матери. В этом доме живет горбатый служка. У него прячется женщина. Служка – плохой человек. Возьми эту женщину от него и дай ей кров и пищу. Помоги ей!»
Так сказал мой патрон. И что сделал плут Аскеназа? Он пошел на улицу Подвале в дом рядом с костелом. Он увидел… Панна сама знает, что я увидел! Я сказал панне: надо бежать! И мы побежали. Я привел панну в свой Театр, дал ей кров и пищу и решил помочь заработать несколько денег. Так, мелочь! Не для того, чтобы разбогатеть старому Шимону, нет! Борони Боже! Я подумал: чем плохо, когда молодая панна встречается с молодыми панами и имеет потом злотый-другой на булавки? Я думал, мой патрон будет говорить: «Ты плут, Аскеназа, но я тобой доволен!» И что же случается? Ко мне прибегает бедная Люцина – и ее лицо от страха имеет вид, как будто кто-то немножко сидел на нем! – и говорит, будто мой патрон ищет панну Юлию! Будто она принадлежит ему!
– Ваш патрон?! – вскричала Юлия столь же панически, как и пан Шимон. – Да кто такой ваш патрон?! Кому это я принадлежу?!
– Нет, ну почему все кричат на бедного еврея? – внезапно успокоившись, устало спросил Аскеназа. – Почему никто ничего не скажет ему прямо, простыми словами? Почему он должен не только слушать ушами, но и видеть глазами?! Вот вы скажите, барышня, – вы ведь умница, да? – вы когда-нибудь видели еврея с лорнетом? Нет? Так и я нет! Так почему все хотят от старого Шимона, чтобы он видел сквозь стены и умел читать чужие мысли?.. Нет, нет! Кончено дело. Одевайтесь, барышня. Я пошел покупать вам дом. Сегодня я вас туда привезу, и вы будете ждать там пана Сокольского. А я умываю руки, как тот Понтий Пилат!
Он двинулся было к двери, да Юлия успела поймать его за рукав.
– Подождите, – пробормотала она непослушными губами. – При чем тут Сокольский? Вы говорите, что Зигмунд Сокольский – ваш патрон?! Вашего Театра, что ли?
Аскеназа поглядел на нее с жалостью:
– Эх, барышня! Что Театр! Театр – это так, мелочь! Пан, о котором вы говорите, – патрон всей жизни моей!
И, с силой вырвавшись из цепких пальцев Юлии, он вывалился за дверь, бросив на прощание:
– Одевайтесь поскорей, ради Христа, ради Боженьки!
* * *
Юлия так и сделала. Брезгливо отпихнув в угол голубую кучку незабудкиных лепестков, достала из комода теплое дорогое белье, из гардероба – темно-серое бархатное платье и белую кружевную шаль: стараниями Люцины у каждого «цветочка» были туалеты для улицы, красивые и дорогие. Вот и приспел случай их обновить. На ноги надела теплые сапожки: погода на дворе стояла неласковая. Расчесала волосы, заплела туго-натуго косы, села перед зеркалом уложить их на затылке – да так и замерла, глядя на свое лицо, к которому словно прилипла ошеломленная маска.
Да уж… что за день нынче? Богат, ох богат и щедр на потрясения! Сначала выяснилось, что ее бывший жених – завсегдатай публичного дома по прозвищу Кохайлик и похабник каких мало! Потом ей выпало оказаться наедине с побочным сыном Наполеона Бонапарта. Ну а под занавес Цветочный театр приберег для нее самую забавную мизансцену: оказывается, в бордель-то она попала благодаря Сокольскому.
Что ж, выходит, он следил за ней? И послал пана Шимона к Яцеку, зная, что от горбуна можно ждать всякой подлости? За это, конечно, спасибо, пан Шимон подоспел вовремя, но ведь и без Аскеназы Юлия убежала бы из дома Богуславы, непременно убежала бы! Куда – это другой вопрос. Одно ясно – не в публичный дом!
А между прочим – не врала ли пани Люцина насчет мстительных поляков, которые без сна и отдыха ищут злобную русскую, убившую их ненаглядного Яцека? Да кому он нужен, горбатый мерзавец! Скорее всего, Люцина просто нашла средство хорошенько припугнуть дурочку Незабудку, чтобы удержать ее у себя. Наверняка надеялась на похвалу «патрона». Или впрямь полагала, что Юлия войдет во вкус ремесла? Но нет, не вошла! Более того – прониклась отвращением и к ремеслу, и к замыслам «патрона»! И теперь сделает все, чтобы убежать отсюда и никогда больше не попадаться ни на глаза, ни в руки этого проклятого Сокольского.
Нет, сейчас не время для ярости, которая слепит глаза и отнимает силы! Обо всем этом Юлия подумает потом, позднее и, кстати, о мести этому негодяю! А пока…
– Скорее отсюда! – воскликнула она. – Но как? Куда?
В окно? Высоко, второй этаж! Ничего, не привыкать стать! Прыгнула со второго этажа у себя дома – и как-нибудь, жива осталась! Авось и сейчас бог спасет! Юлия схватилась за раму, с усилием дернула – и тут чья-то рука легла на ее руку.
Женская рука! Люцина? Будь она проклята!..
С криком оглянулась, замахнулась, готовая уничтожить всякую преграду на своем пути – и оторопела: это была Ружа.
– Чего тебе? – прошипела Юлия. – Иди своей дорогой, а мне не мешай!
– Ну не через окно же! – усмехнулась Ружа. – Иди со мной – я выведу! Тебе помогу и сама уйду!
Зимняя дорога
…Она не глядя схватила за руку того, кто стоял рядом с отвратительным Адамом и повлекла его за собой.
– Русый садовник, русый! – закричала Люцина, а Незабудке послышалось: «Русский, русский!».
Быть того не может! Незабудка повернулась поглядеть – и темно-серые, прищуренные глаза Зигмунда ласково улыбнулись ей. И вдруг он, усмехнувшись, схватил Незабудку за волосы и грубо рванул, а потом вдруг так резко оттолкнул от себя, что она полетела на пол с криком: «Нет! Не бросай меня, не оставляй меня!»
Тело так и загудело от удара.
– Юлишка, ты жива? – послышался где-то вверху встревоженный голос, и синие глаза испуганно взглянули на Юлию.
Она с трудом пошевелилась, пытаясь сесть. Ее конь переминался рядом, виновато поглядывая на свою хозяйку, хотя какова же была его вина, что она уснула в седле да и грянулась оземь? Ох как больно!.. Но, кажется, все цело, она упала довольно удачно: на ошметки прошлогодней соломы, припорошенные снежком. Снег таял на лице, а на губах таял ее последний, отчаянный крик: «Не оставляй меня!»
Ну что за чепуха! Приснится же такое! Задохнувшись от ненависти к самой себе, она резко села, но голова так закружилась, что пришлось снова опуститься наземь.
– Не лежи, заснешь! – Ружа бросилась поднимать ее, и Юлия едва смогла пробормотать:
– Погоди, не могу…
Все плыло, все плясало перед глазами, тошнота подкатывала к горлу. Не головой ли ударилась? Господи помилуй, такой путь позади, уже почти всю Польшу прошли, близок Буг, а там и русские войска стоят, – и вот теперь быть выбитой из седла!
Почему-то болела не только голова, но и волосы, словно кто-то немилосердно дергал за них. Юлия приоткрыла глаза, с усилием вгляделась. А, вот в чем дело! Она не просто так упала во сне – ее дернула за волосы разлапистая сухая ветка. Не Зигмунд, нет, – только ветка.
Почему-то от этой догадки стало легче, муть ушла из глаз, предметы перестали двоиться. Ружа осторожно приподняла ее сзади, вынуждая сесть, – головокружение показалось уже не столь нестерпимым. «Все обойдется, все обойдется», – мысленно твердила Юлия, бессмысленно водя глазами по бесконечной, мутно-серой равнине, кое-где утыканной зелеными елками, уныло свесившими ветви под тяжестью талого снега. И это январь! Боже ты мой, ну что за слякоть, что за грязь! Если и дальше будет сеяться с неба эта морось, последний снег сойдет, на дорогах сделается настоящая каша. Нет, нельзя тут рассиживаться! Если кони увязнут в грязи, им ни за что не добраться до вечера к постоялому двору, а ночью может снова ударить мороз.
– Помоги мне, – с усилием пробормотала Юлия и кое-как встала, подталкиваемая Ружей.
Постояла, зажмурясь. Вот бы теперь еще какая-нибудь небесная сила забросила ее в седло!
– Давай руку, – послышался голос откуда-то сверху, и Юлия тупо подчинилась, не тотчас сообразив, что это не упомянутая небесная сила явилась ей на помощь, а Ружа сидит прямо на крупе коня и силится втащить подругу в седло.
Удивительно – пусть и не с первой попытки, но Юлия все же взгромоздилась верхом, мимолетно поблагодарив себя за то, что настояла ехать в мужском седле, хотя там, в конюшне Аскеназы, откуда они тайком увели коней, были всякие седла. В дамском она сейчас нипочем не усидела бы!
Ружа соскользнула наземь, подняла юбки, чтобы не запачкаться, и зашлепала к своему коню, лениво подбиравшему с земли грязные лохмотья соломы. Она то и дело оглядывалась на Юлию, и та махнула рукой, попытавшись улыбнуться:
– Ничего, не тревожься! Спасибо тебе, Ружа!
Та покачала головой; синие глаза ее были серьезны:
– Ванда.
– Прости. Конечно, Ванда…
* * *
Итак, ее звали Вандой. Если бы не она, Юлия недалеко ушла бы от дома Аскеназы и уж точно до сих пор даже не выбралась бы из Варшавы, в которой все совершенно изменилось: деньги не имели прежней цены, на всякого, в ком подозревали русского, смотрели косо, угрожающе, а заслышав русскую речь, каждый считал себя вправе скликать жандармов, чтобы задержали «шпиона великого князя».
Превращение ленивой, истеричной и порочной Ружи в деловитую, умную, осторожную Ванду произошло мгновенно, как будто для этого достаточно было сменить шелковые розовые оборки на простое шерстяное платье, смыть с лица краску и разобрать гребнем массу фальшивых кудрей, убрав волосы в гладкую косу цвета воронова крыла. После сего Ванда оказалась не столь обольстительно-красивой, как Ружа, хотя главная примета ее красоты осталась при ней: редкостное сочетание черных волос и синих очей. В остальных же чертах появилось что-то негармоничное и незавершенное, словно Ванда в детстве обещала быть красавицей, да не сдержала слово. У нее были изящные маленькие ушки – это примета высокого происхождения женщины. Ванда уверяла, что она из младшей ветви бедного, захудалого дворянского рода, некогда имевшего несчетные земли близ Кракова, а теперь владевшего только знаменитым своей историей, хоть и обветшавшим селом Могила, где Ванда и родилась. Юлия не знала, чем сие село знаменито, однако она очень опасалась, что Ванда предложит ей гостеприимство в сей Могиле, что звучало устрашающе. Но, по счастью, Ванду нимало не влекло на запад: ей надобно было в Вильно, а это хоть и не самый ближайший и прямой, а все же путь, ведший на восток, в Россию, почему Юлия охотно и осталась спутницей этой девушки, которая была куда практичнее, чем она сама, и заботилась о ней как старшая сестра.
Она сумела отпереть запертую конюшню Аскеназы, чтобы покинуть Варшаву этой же ночью, не задерживаясь: ведь утром их непременно станет искать полиция. Она сумела уговорить Юлию, что взять коней – вовсе не кража, а лишь возмещение за все страдания, которые они претерпели в Цветочном театре, – следовало бы получить и больше, да недосуг. Впрочем, у Ванды водились немалые деньги, которыми она оплачивала все их ночлеги, постои, еду, которыми дала взятку караульным у заставы, чтобы те выпустили, не задерживая, «двух сестер», которые получили внезапное известие о болезни своей матери, живущей в Остроленке, и так спешили к ее одру, что даже подорожные документы не успели выправить. Она говорила и плакала с такой убедительностью, что караульные сами едва не зашмыгали носами. Но главную роль сыграли, конечно, деньги. И если даже у Юлии мелькали смутные подозрения, что не все состояние Ванды – подарки щедрых «садовников», что некоторое количество злотых Ружа попросту стащила в комнате Люцины, в которой знала каждый закуток, то свои догадки она держала при себе. Кто она вообще была такая, чтобы судить эту загадочную девушку, так щедро, так самоотверженно предложившую ей помощь?!
Гордая, избалованная жизнью Юлия очень кстати припомнила изречение Теренция о том, что жизнь – это игра в кости, и если тебе не выпала та, которая нужна, постарайся как лучше распорядиться той, которая тебе выпала. А выпала ей Ванда, никто иная, потому Юлия не стала ломаться и петербургскую барышню из себя разыгрывать, тем паче что сама была отнюдь не беспорочна как агнец, и не добра как голубь. Ведь если Ванда была всего лишь падшая женщина да воришка, то она, Юлия, убийца. За дело, нет ли прикончила она Яцека – вопрос второй. От первого все равно никуда не денешься: убила – и ушла не оглянувшись. Неведомо, знала ли Ванда о сем ее деянии. Ни словом, ни полсловом никогда на эту тему не заговаривала да и вообще ничего у Юлии не выспрашивала, как если бы понимала: вынудив другого человека открыть его тайну, придется поступиться, в обмен на эту откровенность, и каким-то своим секретом. Так они и ехали, то лениво переговариваясь, то погружаясь в унылое молчание, то спеша вновь прервать его, но, словно по уговору, не касались ни подлинного прошлого своего, ни планов на будущее, ни воспоминаний о Люцинином театре.
Как ни странно, религия занимала немалое место в разговорах девушек. Как и следует истой шляхтянке, пусть и соступившей с пути добродетели, Ванда была ярой католичкой: не пропускала ни единой придорожной каплицы[24]24
Каплица – часовня (польск.).
[Закрыть], чтобы не сойти с коня и не прочесть «Патер ностер», чем немало замедляла путь. Она даже еще в начале дороги предложила Юлии провести некоторое время в Белянах, монастыре на Висле близ Варшавы, очистить душу покаянием и исповедью. Юлия нечаянно ухмыльнулась, не ко времени вспомнив услышанное (опять же – подслушанное) в разговоре отцовских приятелей о какой-то даме: «Была девушкой легкого поведения – стала невинной старухой!» – и отказалась наотрез, решившись лучше потерять расположение Ванды, чем подвергнуть опасности свою бессмертную душу, ибо православную церковь она любила за ее истину и добросердечие, а неумолимый, навязчивый диктат католичества всегда оставался ей чужд и даже страшен. Поляки ведь уверены, что одни только католики могут угодить богу, а иноверцы – все исчадия дьявола!
Разумеется, Юлия ничего такого не говорила Ванде; впрочем, та ничуть не была огорчена и обижена ее отказом, а словно бы вздохнула с облегчением, из чего Юлия поняла, что дела ее ждут в городе Вильно и впрямь неотложные и весьма спешные. Однако, против воли, двигались они не больно-то спешно, и это немало раздражало Юлию, хоть Ванда, оказавшаяся, ко всему прочему, девицей достаточно образованной, и не уставала ей напоминать прописную истину всех путешествующих: «Chi va piano – va sano!»[25]25
«Chi va piano – va sano!» – соответствует нашему «Тише едешь – дальше будешь!» (итал.).
[Закрыть] Конечно, время года для путешествия верхом они выбрали премерзостное! Хорошо хоть, Польша – страна небольшая, и потому страннику не составляет труда так рассчитать путь, чтобы провести ночь не в прошлогоднем стогу, а в относительной чистоте и тепле корчмы. Удавалось и поесть досыта, и помыться.
Природа кругом была уныло однообразна, однако Юлия постепенно стала находить свою поэзию в этих затуманенно-белых полях; отсыревших, дрожащих березовых рощах; в этих желто-зеленых хвойных островках; в горьковатом запахе можжевельника, которым напоен был воздух; в этой чужой, мертвенной тишине, нарушаемой лишь шевелением нагих ветвей да чавканьем копыт по раскисшей земле. А если вспомнить, что каждым шагом своим конь все далее уносил ее от Варшавы, от расплаты за убийство Яцека, от пребывания в Цветочном театре, от позорных притязаний Сокольского, приближая к незанятым мятежниками российским землям, где – Юлия не сомневалась – она тотчас отыщет отца с матерью, – если задуматься об этом, то тяготы пути были не так уж и тягостны.
Но вот нынешний день что-то неудачен выдался! Как ни крепилась Юлия, чувствовала она себя из рук вон плохо: зыбкая поступь коня по разъезженной дороге вызывала мучительную тошноту. Ах, если бы лечь! Но впереди нигде ни признака корчмы, хотя, по рассказам, она уже с час как должна была появиться. Не сбились ли они с пути? И спросить не у кого: случалось, днями проезжали странницы, не встретив ни единой живой души.
– Эй! Эгей! Добрый человек!
Истошный крик Ванды нарушил сонное оцепенение Юлии, и она вскинулась, вгляделась в белесую мглу: и впрямь, по обочине дороги тащится какая-то согбенная, уродливая фигура. Огромный горб возвышался на плечах, и Юлия прикусила губу, чтобы не закричать от ужаса: призрак Яцека медленно приближался к ней, словно бы порожденный ее нечистой совестью, нездоровыми, сырыми миазмами чужой, враждебной земли…
При звуке женского голоса призрак горбуна замер, затоптался неловко, словно примеряясь, как бы это половчее провалиться сквозь землю, потом с явной неохотой выпрямился – и Юлия ахнула, когда горб его свалился с плеч и плюхнулся в расквашенный сугроб. Горб оказался изрядным вьюком, а призрак Яцека – заморенным мужичонкой, который, сдернув треух и понурив голову, покорно ждал, пока к нему приблизятся вельможные пани.
Юлия оглядела его морщинистое лицо, ветхую одежонку и подумала: жаль, что у нее своих денег ни гроша, но, может быть, Ванда не поскупится на мелкую монетку для этого несчастного за те сведения о дороге, которые он им сообщит?
Ванда принялась деловито расспрашивать, и выяснилось, что сведения сии весьма для путешественниц неприятные: они сбились с пути, и теперь, чтобы добраться до корчмы, им надлежало воротиться на версту – то есть как раз к тому месту, где Юлия свалилась с лошади, – а потом поехать не влево, а вправо. Теперь же им не предстояло встретить на пути ни единой корчмы: только еще через три версты должен был появиться замок пана Жалекачского.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































