Текст книги "Дочки-матери. Мемуары"
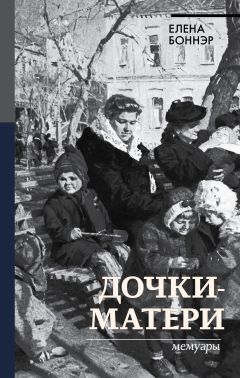
Автор книги: Елена Боннэр
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И я, и Егорка полюбили Сарру, она была очень добрая и веселая, даже несмотря на непогоду. Она и Миша очень любили «правильно воспитывать детей», так я про себя определила их отношения с нами. Они нас никогда не наказывали, даже громко не ругали, но все надо было делать вовремя, все доедать, без конца мыть руки и говорить «спасибо» и «пожалуйста». Егорка до того старался быть не хуже других (он был самый маленький), что договорился до фразы: «Сарра, пожалуйста, дождь идет», и она, как мои «все двери черные», тоже вошла в поговорку, став определением чрезмерного рвения в каком-либо деле.
В августе из Москвы «в отпуск» приехала мама. Она почти каждый день приезжала на дачу из Ленинграда, но ночевать не оставалась, а уезжала в город, где тоже «в отпуску» был папа. Он на дачу не приезжал.
Мне кажется, папа стеснялся и одновременно тяготился обществом маминых родных, всегда при них был молчалив, никогда не смеялся и вообще по возможности старался с ними не встречаться. Причем никаких «контровых» отношений у него с ними не было – просто они не получались.
Позже, когда мы в Москве жили очень просторно, у нас часто проездом или в командировку останавливались «мамины» родственники, а когда приезжала Батаня, то почти каждый вечер приходили «ее» гости. Папа, если он возвращался домой при них, почти беззвучно здоровался и проходил в свою комнату. Потом он звал меня и просил: «Принеси чайку, ну и еще чего-нибудь вкусненького». – «Что?» – «А что там у них есть?» Я перечисляла все, что есть на столе, стараясь ничего не упустить, он говорил, что принести. Я шла в столовую, наливала ему чай, собирала на тарелку все, что он просил, или больше, и относила ему. При этом я видела, как Батаня поджимает губы и лицо у нее становится злым, а все гости за столом замолкают и смущены. Но мне было все равно. Так же, как я считала, что пусть меня бьют или режут на части, я все равно буду шляться где захочу, так и папа может пить чай, где хочет. Я приносила ему чай, и он, заговорщицки улыбаясь, начинал напевать: «Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь. Веселый разговор…» или: «Говорила сыну мать – не водись с ворами, тебя в каторгу сошлют, скуют кандалами…» Даже сегодня, написав эти строчки, я начинаю плакать. «Тебя в каторгу сошлют, скуют кандалами» – как знал…
Батаня про себя возмущалась. И не только про себя. Однажды после ухода гостей, уже ложась спать (когда она приезжала в Москву, то спала в моей комнате), она сказала: «Дикарь, форменный дикарь, азиат. А ты ему чаек носишь! Можно подумать, что он твой отец!» Я закричала на нее ужасно, вскочила и замахнулась книгой, но не ударила. Мы молча смотрели друг на друга, в одиннадцать лет я была уже чуть выше ее, потом отвернулись и молча легли каждая в свою кровать. Больше никогда Батаня при мне не говорила: «Он пришел» или «он ушел», а всегда «папа» или «отец».
Среди маминых родных были и исключения – те, к кому папа относился всегда тепло, не чувствуя себя скованным, по-дружески и даже по-родственному. Прежде всего это был Матвей, мамин старший брат. Они подружились еще в Чите, и до последних дней приезд Мота (только последние годы это бывало редко) для папы был таким же праздником, как приезд Агаси, Бронича, Шуры Брейтмана или других самых близких его друзей. С Матвеем папа играл в шахматы, они уходили играть в биллиард и подолгу вечерами, ночами разговаривали, и папа буквально взрывался очень громким, заразительным смехом. Я думаю, если б у папы был брат, то он к нему относился бы так же, как к «Мотьке», потому что их отношения были совсем братские. Очень хорошо, тоже по-родственному, папа относился к маминой двоюродной сестре Раисе, может, потому, что в те ленинградские годы, когда там был папа, мы жили вроде как одной семьей. Из старшего, не маминого поколения, папа любил дядю Саню, тетю Роню и ее маму.
Мама привезла на дачу карандаши и краски и учила нас (троих девочек) рисовать, а Сарра все лето учила петь. И в том, и в другом я была самая неспособная, но Сарра этого не говорила (я сама понимала), а мама все время говорила мне «Какая бездарь», как будто я сама не видела, что даже какой-нибудь цветок и то у меня не получается. В то лето у меня все время болели зубы и постоянно текло из носа. Мама придумала прикалывать мне к платью английской булавкой носовой платок, чтобы я его не теряла. Я нарочно отстегивала его и зарывала где-нибудь в песок, хотя ходить без него было плохо – нос всегда был мокрый, но я делала это вполне сознательно, «назло». Мне кажется, что я тогда никого не любила и все время жаждала сделать что-нибудь «назло». Только в небольшой кухоньке-кладовке, где Нюра готовила, мыла посуду и спала, я ненадолго «отходила». Но там было очень тесно. Как только Нюра видела, что я успокаиваюсь, она начинала меня прогонять. Да и Сарра считала, что детям «там не место».
Зубы мои стали болеть всерьез, и мама несколько раз водила меня к зубному в курортную поликлинику, каждый раз мне там вырывали по одному зубу. Орала я при этом невероятно, до судорог, и не так от боли, как от страха. По дороге домой, уже после экзекуции, я через каждые несколько шагов демонстративно выплевывала не в платок, а на землю слюну с примесью крови и говорила маме: «Ты что, не видишь, что я истекаю кровью?». Мне очень нравилось слово «истекаю» и казалось, что уж оно должно победить мамину бесчувственность. Но мама коротко отвечала: «Не вижу» – и мы шли дальше, а она даже не брала меня за руку.
В это лето я верила маминым словам, что я некрасивая. Вся моя злость на то, что Сестрорецк оказался не тот, на дождь, на окружающих, зубы, насморк и то, что я «бездарь», сделали свое дело. Это нашло свое документальное подтверждение. Есть фотография, где сняты все дачники, кроме мамы, но уже с Батаней – она сделана, когда мы вернулись в город. Там взрослые и трое хорошеньких детей – Игорь, Зорька, Майка. И я – высоконькая девочка, подстриженная под челку, со злым, резким лицом. У меня поджаты губы, и я смотрю в объектив так, что то ли сейчас расплачусь, то ли разобью фотоаппарат.
Еще до того, как кончилась дача, мама меня в той же поликлинике показала «ухо, горло, носу», и он велел меня оперировать. Мама повезла меня в город. Я была рада нашим комнатам, теплу, которого не было на даче, Батане. Вечером мама меня купала, это было новым, так как, сколько я себя помню, меня купали няни – Тоня, а потом Нюра; и, расчесывая мои волосы после мытья, мама вдруг сказала легко и весело: «Удивительно красиво они у тебя, Люська, лежат. Когда ты вырастешь, тебе ничего не надо будет с ними делать, а это очень облегчает жизнь». И голос, и слова, и мамина интонация, в которой были и любовь, и любование, – это было так неожиданно для меня и так ново. Как ново было и то, что, когда мама мыла меня, она напевала: «Руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок… Руки вымою и бегу к нему…» Я помнила эту песню «Кирпичики» еще из Читы – это там я ее впервые услышала от мамы же, но все эти годы она ни разу ее не вспомнила и вообще почти никогда ничего не напевала.
На следующее утро меня повезли на операцию. Мне удалили полипы и миндалины. Как я орала, рассказать невозможно. Так же потом орала моя Таня, если ей надо было взять кровь из пальца, зачинить зуб или сделать что-нибудь подобное. Что при этом чувствовали мама и папа, я поняла, когда подобную операцию делали ей, и врач, уже снимая с рук перчатки, сказала: «Не дай Бог, чтобы я еще когда-нибудь увидела эту девочку. Я не знаю, что с ней сделаю». От врача папа вынес меня на руках, и мы поехали домой на машине, хотя ехать было близко. Операция была где-то на Невском, почти напротив Гостиного двора, у какого-то частного врача. А дома было все, как раньше: обед на розовой скатерти и друзья: Аля с Мишей, Рая, еще кто-то, и все приносили мне мороженое, которое я ела, лежа на кушетке. А они сидели за столом, ели Батанины пирожки, и папа с мамой, смеясь, рассказывали, как я орала, но это было совсем не обидно.
На дачу я больше не поехала, потому что она скоро кончилась.
* * *
В городе все изменилось, и наш дом стал другим. Мы уже не вернулись в нашу детскую. В ней поселились приехавшие из Иркутска Раины папа и мама. В столовой и комнате, где когда-то жили Андрюшка с Асей, поселились родители и сестра писателя Юрия Либединского. Раньше он изредка приходил к папе, но его родных я увидела впервые. Еще кто-то чужой поселился в комнате, где жил Бронич, а потом А. Мы с Нюрой и Егоркой стали жить в па-маминых двух маленьких, а Батаня – в своей.
Хотя наша квартира стала коммунальной, но в первые годы детей, кроме нас с Игорем, в ней не было – все соседи были бездетные. Они (соседи) с калейдоскопической быстротой менялись – все куда-то уезжали-приезжали, меняли свои комнаты на какие-то другие, и очень скоро из тех, кого папа поселил, в квартире остались только трое – Рая и ее родители. Рая жила с нами с 1927 года и была совсем «своя» мне и Егорке, мы даже удивлялись, когда кто-нибудь объяснял нам, что она «двоюродная», настолько это было нам странно. «Родной», а не «двоюродной» она и осталась на всю жизнь. Раин отец, Лазарь Рафаилович Боннэр, родной брат отца мамы (не знаю, младший или старший), был нам с Игорем как дед, мы и звали его всегда «деда» и очень к нему привязались, но особенно, когда после 1937 года стали ленинградцами во второй раз.
Не знаю, чем он занимался до революции, но никакой профессии у него не было, и работал он ночным сторожем на каком-то складе. Все родные относились к нему чуть насмешливо и считали пьяницей. Слова «алкоголик» тогда, кажется, еще не было. Приходя с дежурства, дед выпивал половину четвертинки водки, а вечером, допив остальное, любил побыть с нами, внимательно слушал наши рассказы о дворе, о школе и прочих наших делах и событиях. Я читала ему стихи (за неимением других слушателей). Мне кажется, что общение с ним было особенно важным для Игоря, так как после арестов 37-го года других мужчин поблизости не было – только бабушки, тетки и более дальняя, но все женского пола родня.
У деда под кроватью стоял большой ящик с гвоздями, шурупами и разными инструментами. Я до приезда в Ленинград в 37-м году, кажется, даже молотка, кроме как в школе, на уроке труда, не видела, а тут вдруг все это полюбила и (не без помощи деда) стала скоро признанным мастером для всех соседей по починке штепселей, пробок, плиток, примусов, керосинок и прочей такого рода утвари, которой в те годы в употреблении было несравнимо больше, чем сейчас. И ломалась она постоянно, а стоила по тем доходам – дорого. Я также стала всем и все прибивать и подправлять – разные там полочки, дверцы, скамеечки. Эта любовь к тому, чтобы сделать своими руками, сохранилась и по сей день, только силы на это не сохранились. Игорь тоже научился работать руками от деда, но не знаю, сохранил ли он привязанность к этому в дальнейшей жизни.
Деда умер в ленинградскую блокаду одним из первых среди наших родственников. Его жена баба Феня не отличалась ни простодушием, ни добротой деда. Она была прижимистой, если не жадной, умела как-то все прибрать к своим рукам и из любой жизненной ситуации извлечь личную выгоду. До революции в Иркутске она держала меблированные комнаты с пансионом. Через ее квартиру прошли многие бывшие ссыльные, которым не разрешалось возвращаться в Центральную Россию, и уже на моей памяти она много и упорно собирала с них какие-то бумаги и свидетельства и в результате этой активности сумела добиться персональной пенсии, хотя вся ее трудовая деятельность и до, и после революции заключалась только в ее меблированных комнатах. Как говорила (не очень-то добро, но, видимо, метко) моя бабушка, «Федосья сначала обирала, а потом справки собирала».
Еще когда мы жили в Москве, баба Феня приезжала на какие-то съезды МОПРа, и я ходила с ней на очень представительное собрание в Колонный зал, где выступала Землячка, а потом мы ездили к ней ужинать. Собрание это запомнилось тем, что оно почти разрушило мое до того существовавшее представление о деятелях МОПРа, уж очень все они были респектабельные, хорошо одетые и упитанные и, хотя вспоминали о своих мучениях в разных прошлых и существующих застенках неведомых заграниц, но их облик и даже слова и сама манера говорить как-то не совпадали с изможденным лицом, смотрящим из-за решетки на значке МОПРа, который я носила в те времена. А уж ужин! Таких закусок даже я, живущая при папы-маминых пайках, никогда не видела. Там я впервые попробовала ананас, и там были коробки конфет каких-то невероятных размеров. Разложенные в них по рядам фигурные шоколадки были завернуты в блестящую серебряную, золотую, красноватую и зеленоватую фольгу. До этого фольгу на конфетах я видела только серебряную и называла ее, как все мои сверстники, «золото». Одну из таких коробок мне дали с собой. Кажется, этот ужин стал завершением бабы-Фениного хождения за бумагами, и, получив самую важную – от Землячки, она вы2ходила свою персональную пенсию. А какая судьба потом постигла тех, кто давал ей эти бумажки?!
Недобро я написала о ней. А она по-своему хорошо к нам относилась. Ко мне вполне терпимо, так как меня очень любила ее дочь, а Игоря просто любила, покупала регулярно какие-то вещи, на которые умела где-то получать ордера, купила первый в его жизни костюмчик с длинными брючками – он после ареста папы приехал в Ленинград в коротких штанишках, и длинных у него до того не было. Была она очень влиятельна в таком смешном месте, как наше домоуправление. В те времена сумела добиться получения второй комнаты (дело тогда невероятно трудное). И то, что мою-нашу комнату в годы войны не заселили кем-либо из разрушенных домов – тоже ее заслуга, иначе по возвращении из армии мне пришлось бы судиться за жилплощадь, как было у многих.
Моей мечтой в последние школьные годы было по-настоящему научиться танцевать, и баба Феня оплатила мое обучение в платной школе танцев, выторговав для себя право присутствовать на выпускном вечере. Она ушла с него очень довольная тем, что нас обучили не только фокстроту и танго и модным в те годы украинскому бальному и «молдаванеске», но мы танцевали и «падеспань», и «падекатр», и, главное, – полонез и мазурку.
Баба Феня пережила блокаду, но с конца 1948 года стала очень болеть, долго лежала в клинике госпитальной терапии нашего института, где и умерла в 1949 году. Пока она лежала в клинике, я ежедневно ходила к ней, кормила ее и делала все, что полагается в таких случаях, однако мое отношение к ней и даже к ее страданиям было холодное и внутренне лишенное сочувствия. И я в глубине души стыдилась своей черствости. Если можно так сказать, то я как бы сама к себе испытывала некую ревность, что ничего из того, что делала для бабы Фени, я не делала для своей бабушки. Особенно это проявилось во время похорон на том же Смоленском кладбище, где в одной из братских могил была погребена Батаня. Я думала о ней, о папе, который то ли жив, то ли нет, и если нет, то узнаю ли я когда-нибудь, где его могила, о Севке, могилу которого тоже попробуй найди. Я так плакала, что мама и Рая, не понимая, отчего такая реакция, испугались за меня, тем более что я тогда была беременна Таней. Маме я потом кое-как смогла объяснить, но Рае – нет, все же Бафеня была ее мама.
Баба Феня очень пышно, многолюдно и с большим количеством прекрасно приготовленных блюд и лакомств отмечала два праздника в году – свой день рождения и день рождения Раисы. Дни рождения ее сына Евсея и деды я просто не помню, видимо, они вообще не отмечались. И странно (меня это до сих пор почему-то удивляет), но моя Таня родилась в 1950 году, через несколько месяцев после смерти Федосьи Евсеевны, именно в ее день рождения – 24 марта 1950 года.
* * *
В сентябре 1929 года папа и мама снова уезжали на курсы марксизма. Мы оставались. Перед отъездом они ходили по магазинам и однажды принесли мне небольшой глобус и большую, составленную из шести кусков карту мира. Каждый кусок был такой большой, что всю ее разложить можно было только на кухне. Разложив ее, папа дал мне первый в жизни урок географии. Все было интересно и очень просто. До его отъезда мы еще два раза смогли разложить карту в кухне, а потом в нашей комнате расстилали на полу любые два куска. А на кухню я с ней не вылезала. Все соседи уже считали, что кухня принадлежит одинаково всем, но к папе относились все же с некоторым трепетом, и папа мог там так широко раскладываться. Ведь это он в разное время и по разным причинам пустил их жить в свою квартиру, потом прописывал, потом это становилась «их жилплощадь».
Я полюбила карту и глобус не меньше книг. А Егорка тоже любил, когда я раскладывала карту. Он ползал по ней и повторял за мной: Америка, Австралия, Тасмания, Борнео. Скоро он научился находить эти и другие места на карте, запоминал расположение и очертания, ведь читать он еще не умел и только начинал заниматься кубиками с буквами. Но вообще-то он научился читать гораздо раньше, чем научилась я – он к четырем годам, а я только в пять с половиной.
Эта зима 29–30-го года ничем ярким не запомнилась. Просто дом стал каким-то менее праздничным. Я не помню ни одного обеда с гостями, когда стол накрыт «праздничной» розовой скатертью и много людей. По вечерам Батаня была усталая, но почти каждый день «готовила» меня к школе. Надо было писать – я это ужасно не любила, решать примеры и задачки – это интересней, к весне мы с ней уже прошли дроби и проценты. В школе потом я до этого дошла только в четвертом классе, и поэтому до пятого класса мне казалось все не учебой, а повторением пройденного с Батаней – а уж с ней я «проходила» все так, что запоминала на всю жизнь. Днем мы с Нюрой гуляли мало. Она стала много времени тратить на то, что все что-то «доставала» и была «в очереди».
В начале зимы на несколько дней приезжала мама, и мы узнали, что теперь они с папой будут жить не на курсах марксизма, а в «Средазбюро». Это далеко, в Средней Азии, в городе Ташкенте. Когда мама уехала, оттуда стали часто приходить письма, а еще чаще – посылки с орехами, сушеными фруктами и какими-то еще сладостями. Их давали есть только мне и Игорю, что было странно. Раньше все ели всё. Батаня говорила: «Пришло письмо от мамы, она шлет вам привет», а Егорка спрашивал: «А он в большом ящике?» – он путал слова и не различал, что значит «письмо», «посылка», «привет». Я в то время уже перестала его так страстно любить, он мне мешал, так как я хотела только читать, и не ему вслух «Мойдодыра», а снова и снова Жуковского, Пушкина или Гоголя и книги, которые давала Батаня. Это не всегда была «классика» литературы для детей, но они были в «оппозиции» к тому, что мне покупали или давали читать мама-папа. Батаня откуда-то приносила «Маленьких женщин» и «Маленьких мужчин», «Лорда Фаунтлероя» и «Леди Джен». Чуть позже пошли Вальтер Скотт и Диккенс. Я буквально захлебывалась слезами, читая о маленьком Поле и Флоренс, воображая на их месте Егорку и себя. И Батаня разрешала мне рыться в старых комплектах журнала «Солнце России», которые лежали в ящике за сундуком в самом конце коридора. В них я читала все подряд, от рецептов лосьона для ухода за кожей до списков «доблестно павших офицеров и нижних чинов». Мама говорила папе, что я читаю «черт-те что», но Батане ничего сказать не смела. Это было их поле битвы, на котором Батаня явно выигрывала, ведь даже Пушкина в то (доюбилейное) время «сбрасывали с корабля современности».
Вообще с чтением было так. Когда я была неграмотна, мне читали вслух Батаня, Матвей, Моисей Леонтьевич, Бронич, Рая. Позже в Москве мы пополам с дядей Саней и Левой Алиным читали вслух друг другу большие (уже настоящие) книги. Но я не помню, чтобы вслух мне или Егорке читали мама или папа. Мама потом это с лихвой «отработала», читая Тане и Алеше и правнукам.
Папа читал только стихи – не по книге, а наизусть, в основном уже тогда, когда и я ему читала. В стихах он давал себе волю. То, что он читал, никак не соответствовало принятому и признанному тогда официальной доктриной. Он много читал символистов. От него я впервые узнала Блока, Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Гумилева. Он любил читать Лермонтова, реже Пушкина и Некрасова, читал Есенина и даже Надсона и Гиппиус. Но Баратынского, Тютчева, Фета, Ахматову, Мандельштама, Пастернака я от него не слышала. В Москве лет с 12 папа мне давал абонемент на 50 рублей (привилегия), по которому можно было набирать книги в магазине «Академкнига» на Тверской, близко от того дома, который потом задвинули во двор, а на его месте воздвигли дом, где коктейль-холл и гастроном. Среди прочего я купила там коричневый, малого «академического» формата томик Тютчева. Мы читали его вместе с папой, и у меня создалось впечатление, что папе он был так же внове, как и мне. Томик этот я на следующий день после ареста папы забрала вместе с большого формата «Фаустом» с его письменного стола, и он был у меня все годы в Ленинграде и исчез (воровать книги у нас не считается воровством!), уже когда родилась Таня. А «Фауста» я потом видела у Левы, стеснялась забрать. Недавно, уже когда мамы не стало, я спросила о нем у Зори, но она его в их доме не нашла.
Читал папа наизусть и «Витязя в тигровой шкуре» – по-русски и по-грузински. Тогда только я узнала, что грузинский он знает, как армянский – ведь папа рос не в Армении, а в Тифлисе. Читал по-армянски армянских поэтов, и я знала имена Нарекаци, Исаакяна, Чаренца. В ту последнюю зиму, может, под влиянием папиного чтения армянских стихов мне захотелось знать армянский язык. Первым моим языком был армянский, а не русский, но в 12 лет я знала только «кыз мата», «джан» и «ахчик». Мама всегда была «Руфа-джан», по-другому папа ее не называл. «Кыз-мата ахчик» или просто «ахчик» была я, Игорь всегда был «Егорка-джан». Папа начал со мной заниматься армянским так, как занимаются, изучая иностранный язык со взрослыми – с алфавита и чтения. Это было незадолго до его ареста, так что я не только не успела ничего почувствовать в языке, но даже и алфавит вскоре забыла.
Появилось новое слово «ордер», который где-то «давали», и Батане тоже дали. Она купила на него серо-голубую фланель, на ней были нарисованы красные трактора и зеленые елочки. Удивительно, как на всю жизнь врезался в память этот рисунок. Материал разложили на столе. Батаня, прикладывая к себе газеты, выкроила себе халат, Игорю костюмчик и мне платье. Они с Нюрой шили все это на ножной машинке, которую перетащили из кладовки, и Батаня говорила; «Если у них так пойдет, то скоро все будем ходить голые». Слова «у них» она при этом как-то особенно выделяла голосом. Было понятно, «их» она не любит, но я уже знала, что папа-мама тоже «они». В этом была непонятная мне конфликтность, ведь маму она любила – про папу я до сих пор не знаю.
Потом стали говорить, что мы с Игорем и Нюра поедем в «Средазбюро», и Батаня стала собирать серебряные монетки, потому что «в Азии не любят бумажные деньги». Их складывали в черную лакированную коробку, которая сохранилась у меня до сих пор, только тогда она запиралась маленьким ключиком, а теперь он потерялся.
Этих денежек стало так много, что коробку было трудно поднять, но мы никуда не поехали, а приехали ненадолго мама и папа. И я слышала, как Батаня их ругала. Такой громкой ссоры у нас в доме до этого никогда не было. Она говорила, что дядю Мосю сослали, а дядя Витя (Прохоров) арестован, и что это «похуже, чем трясти деньги из порядочных людей», и «слава Богу, что Моисей Леонтьевич уже уехал», что у них будет «не перелом», а они «сами сломают себе шею». Папа все время молчал; что говорила мама – я не слышала, и вдруг Батаня закричала: «А своих отпрысков можешь забирать», – я сообразила, что «отпрыски» это мы, и мне стало страшно. Я поняла, что боюсь «Средазбюро». Но мама и папа уехали без нас.
Нюра ходила опухшая от слез, а потом куда-то уехала и вернулась со своей сестрой Таней. Она была почти старая, сухая и совсем некрасивая, может, даже злая, но со мной и Егоркой была ласкова и называла нас «Нюрины восприемники» – понять, что это значит, я не могла тогда, не понимаю и сейчас. Вначале она спала вместе с Нюрой. Вечером они с Батаней о чем-то подолгу разговаривали и иногда почему-то обе плакали. Потом несколько раз Батаня ездила к Мише Меркурьеву, а к нам прибегала Для, и я услышала, как Таня говорила ей: «Нюрка-то не пропадет – грамотная, и вон она какая – царица». Мне казалось, что говорит она это не по-доброму, хотя именно такой, как Нюра, я представляла себе третью сестру, которая «для батюшки царя родила б богатыря». Потом все эти разговоры шепотком, слезы и Батанины отлучки «не в гости» окончились. Однажды она пришла очень довольная, что-то сказала Тане. Нюра и Таня стали снова плакать и смеяться, а Таня все время говорила: «Татьяна Матвеевна, век за вас молиться буду, вот весь мой век». Скоро Таня стала «домработницей» (это тоже было новое слово) у бабы Фени.
Когда мы с Егоркой вернулись в Ленинград уже «сирота 37-го», Таня очень хорошо к нам относилась, хотя вообще для всех соседей в «коммуналке» стала сущей мегерой. Тайком от Бафени она подкармливала нас (особенно Егорку) и всегда на дни рождения и на пасху дарила нам что-нибудь из одежды. Она приходила в подвальную прачечную, где я по ночам стирала белье, помочь мне. Иногда она за меня мыла лестницу, говоря при этом: «Иди уж погуляй, вон женихи ждут у парадной». «Женихами» она называла братьев-близнецов Фиму и Яшу Фуксов, которые действительно часто ждали меня у парадной.
Она жила в кладовке в конце коридора, за «страшным» сундуком, и прожила там до самой смерти в ленинградскую блокаду в феврале 1942 года.
Предыдущие зимы сразу после Нового года я начинала собирать деньги на «масляную неделю». Она бывала на всем пространстве вокруг Исаакия. Там ставились балаганы, где шли всякие представления – «кукольные» и «человеческие», там играла гармошка и крутилась карусель, там продавали разноцветные «петушки на палочках», семечки, большие леденцы и еще всякие вкусные вещи, про которые Батаня говорила: «Какая невероятная гадость». И, конечно, там продавались блины. Но это было самое неинтересное. Блины в эти дни делала Батаня, делала Бафеня, и мы всегда ходили «на блины» к Ирине Семеновне, Батаниной любимой подруге.
Они дружили еще с Читы. Она тоже была, как я тогда понимала, «бывшая», но не «барыня», а что-то другое. В отличие от других «Батаниных» друзей, у нее не было никакой красивой мебели и посуды, и жила она где-то далеко за Финляндским вокзалом, в небольшом деревянном доме – вроде двухэтажного барака. Все вокруг этого дома было некрасивым и воспринималось как «уже не Ленинград». Но я любила саму Ирину Семеновну и любила к ней ходить, хотя никаких подарков, шоколадок или конфет от нее не получала. Я находила в ней, когда они с Батаней уже после чая разговаривали, сходство с дядей Мосей, братом Батани. Как определить это сходство, я тогда не знала, а позже поняла, что это интеллигентность.
Батаня и Ирина Семеновна были дружны до конца своих дней. Бывая у нее уже после 37-го, я понимала, что она, ее дочь, внуки, ее сестры и племянницы живут все трудней и все бедней, но тогда и мы жили так же. В начале войны она с дочерью и двумя маленькими внуками уехала в какую-то псковскую деревню (она звала и Батаню пересидеть там войну, но Батаня почему-то не поехала). Оттуда они были депортированы немцами. Дочь и внуки погибли в немецкой душегубке. А Ирина Семеновна прошла через пытки и избиения у немцев в тюрьме города Митава, была освобождена Советской армией и снова попала в тюрьму, как многие, кто был в оккупации. И умерла в 1947 году. Теперь одна из ее племянниц, пережившая блокаду и всю жизнь проработавшая в Эрмитаже, живет с сыном в Штатах. Я не знаю, остался ли там, «за Финляндским вокзалом», кто-либо из родных Ирины Семеновны Дрекслер (урожд. Шохор-Троцкая).
Меня «масляная» привлекала тем, что там продавали «уйди-уйди», мячики-расстегаи, китайские фонарики и бумажные веера. Вот на них я и собирала деньги. Мне иногда давали их Батаня, деда, Рая, до своего отъезда во Францию больше всех Моисей Леонтьевич. Кроме того, я «невинно» говорила о том, что коплю деньги, всем, кто приходил в дом, и такой способ был почти беспроигрышным – я получала, что хотела. Батаня потом ругала меня за «ужасные манеры», но так как она не делала этого при посторонних, то я, рискуя снова получить выговор и снова услышать про «манеры» и попрошайничество, упорно продолжала информировать о своих сбережениях всех приходящих.
Начала я собирать деньги и в эту зиму. Но в феврале, перед моим днем рождения (день, который праздновался всегда вне зависимости от того, кто уехал или приехал, сослан, арестован или болен), Нюра и Таня, придя из церкви, куда они ходили регулярно, хотя и не очень часто (что они идут в церковь, я знала по тому, что тогда Нюра надевала белый платок, а обычно ходила в шапочке), сказали, что теперь «масляной» не будет. Я поразилась, так как уже что-то понимала в календаре и думала, что неделю нельзя никуда деть. Оказалось, что я права – неделя осталась, только праздник «запретили».
Я, разложив свои деньги на кушетке, стала их считать. Мне было обидно, что теперь они вроде как не нужны. Я стала плакать, а Батаня сказала: «Ну, скажи спасибо своим папочке и мамочке». Она никогда не говорила «папочка» или «мамочка», никто у нас не говорил так. Эти «папочка» и «мамочка» были такие же без любви к ним, как много раз повторяющееся слово «они». «Папочка» и «мамочка» я после ареста мамы и папы услышу еще раз, но об этом потом. Не знаю, на кого я больше рассердилась – на Батаню или на маму-папу, только я собрала все деньги и, когда никто не видел, выбросила их в помойное ведро на кухне.
Вечером, когда Егорка уже спал, Батаня писала что-то в большой бухгалтерской книге – она часто по вечерам писала в этих книгах, которые приносила из таможни, и что-то считала на счетах, в комнату вошла рассерженная Нюра. Глядя на меня, но обращаясь к Батане, она сказала: «Вот, полюбуйтесь, Татьяна Матвеевна, барышня наша деньгами швыряется» – и протянула ковшик, в котором были мои монетки. «Еле отмыла и сама еле отмылась, из помойки их выскребая. Додумалась – в помойное ведро выкидывать». Батаня подняла очки на лоб и посмотрела на меня так, что я подумала: сейчас будет бить. Только она меня иногда больно шлепала, больше никто никогда. Я не обижалась, так как каждое «битье» было справедливым, поступки тянули на него. Зато она никогда долго не ругалась. Батаня не встала с места, не сказала «иди в угол», только закричала: «Ну чего ты молчишь, чего молчишь?» Я молчала, и после небольшой паузы она сказала с раздражением, даже злостью и каким-то новым оттенком, вроде одобрения: «Армянский характер!» И потом – Нюре спокойно и как-то равнодушно: «Положи их куда-нибудь». С тех пор «армянский характер» стал вроде как высшей мерой наказания и одновременно признанием моего права делать что-то, как я хочу. «Масляной» больше никогда не было.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































