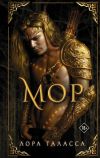Текст книги "Черный Спутник"
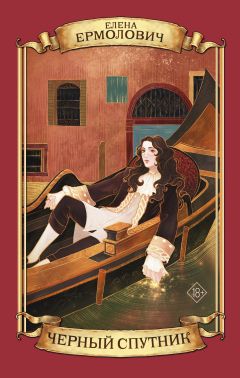
Автор книги: Елена Ермолович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Могу даже завернуть тебя в шубу.
Но в шубу гостя заворачивал лакей.
Герцог смотрел с досадой на торжественное облачение субтильного Лёвольда в пушистый соболиный мех – лакей лебезил, Лёвольд жеманничал. На сердце скреблись кошки – да что там, целая рысь.
– Прощай, Рейнгольд, – попрощался герцог, и угол рта его нервно дёрнулся.
Лёвольд легко провёл кончиками пальцев по его лицу, успокаивая, стирая тик.
– Прощай, Эрик. Не забудь поставить охрану. А лучше всего – арестуй фельдмаршала первым, – и сбежал вниз по лестнице, стуча каблуками и оставляя за собой невесомый шлейф «пудрэ д’орэ», французской золотой пудры.
Герцог вернулся в свои покои, подошёл к окну – из окна библиотеки отлично был виден подъезд.
Лёвольд спускался к саням – в пушистой шубке, грациозный, изящный и забавный, словно драгоценная игрушка. Оглянулся на окна, кивнул тёмной фигуре в окне и впорхнул в свою карету – невесомая сказочная фея. Золотой экипаж легко покатился прочь по аллее английского сада, до самых крон обсыпанного пышным недавним снегом.
Созвездия поздней осени тревожно мерцали в небе, алмазные слёзы на чёрном бархате, на самом дне божественной шкатулки.
Le petit Poisson et le Pêcheur[3]3
Во французском языке слово «Pêcheur» означает одновременно: «рыболов» и «грешник».
[Закрыть]
В аду не жарко. В аду, наверное, вот так же звеняще, пронзительно, гулко-холодно, как и в этом тёмном земляном тоннеле. Такие же ходы в промёрзшей глине, ни для кого, в никуда. Доктор отставляет лопату, отволакивает к самому началу подземного хода ушат, доверху полный земли. Когда ночь наступит и караульные уснут, можно будет высыпать землю за домом и забросать как следует снегом. Здесь же, на входе в тоннель, скидывает доктор грязную одежду и жёсткие от глины рукавицы и возвращается за свечой. Последний взгляд – на подземный ход, как будто проделанный в мёрзлой глине неумным, но весьма упорным земляным червём, на живые отблески пламени, пляшущие по мёртвым, мёрзлым глиняным стенам. И можно возвращаться.
Доктор, согнувшись, вышагивает в комнату – из пролома в разобранной кирпичной кладке, и ставит свечу на стол. Задёргивает весёленьким полотняным пологом, расшитым красными оптимистическими петухами, дыру в стене, и комната приобретает вполне пристойный вид. Книги, склянки с лекарствами, фарфоровые миски и ступки в тёмных нишах – жилище лекаря, аптекаря, алхимика. Но отнюдь не заговорщика, дни напролёт ковыряющего в земле подземный ход. Между прочим, для человека, которому некуда и незачем отсюда бежать.
Доктор присаживается на скрипучий кособокий табурет, стягивает с ног замаранные глиной сапоги, переобувается в домашние валяные чуни – теперь ничто не выдаст его недавнего занятия.
Стук каблучков по каменной подвальной лесенке – выходит, вовремя он успел вернуться. Дура Полинька. Полинька не знает про подземный ход, ей и не нужно знать, Полинька – супруга главного цербера, надзорного поручика. Но дура Полинька весьма неровно дышит к ссыльному господину, подопечному собственного супруга, и попадись ей на глаза вырытый доктором лаз – ещё, чего доброго, примется помогать, раскапывать мёрзлую землю нежнейшими белыми ручками. Собственно, поэтому Полинька и дура.
– Доктор, скорее, ему нехорошо!
Полинька встаёт на пороге с перевёрнутым лицом, теребит передничек и всячески волнуется. Можно и не спрашивать, кому – ему. «Он» у Полиньки только один.
– И что на этот раз? – доктор тяжело поднимается с табурета, шаркая, нарочито медленно идёт к двери.
– Прибыл посланник с письмом, наш граф прочёл письмо, нет, он просто увидел герб на конверте – и бух! В обморок… – Полинька экстатически всплёскивает белыми ручками, – Посыльный успел его поймать, так что граф совсем не ударился, но он лежит. И не дышит…
– Посыльный – от Строгановых? Или – от полицмейстера? – доктор выпрямляет спину и внимательно смотрит на Полиньку. – От губернатора? Что там за письмо такое, что наша цаца пала без чувств?
– Вовсе нет, посыльный из Ярославля, от частного лица, – шепчет Полинька и нетерпеливо тянет доктора за собою. – Скорее, доктор, он же там – лежит…
– Полежит – и встанет, – отмахивается доктор, – погоди… Как же он вошёл, от частного – то лица и мимо караульных? Как твой благоверный на входе его не повязал?
– Мой муж пьян… – Полинька краснеет, опускает пушистые ресницы и делается чудо как хороша. – Я провела его мимо охраны, сама. Того парня с письмом…
– Хорошо, пойдём же взглянем – и на мнимого больного, и на парня с письмом, – доктор стряхивает с рукава её ладошку и устремляется вверх по лестнице.
О, это горестное ложе безутешного изгнанника, и на ложе – сам безутешный изгнанник, мертвенно-бледный, в ореоле картинно рассыпанных длинных волос. Этот и смерть свою когда-нибудь выстроит как театральную мизансцену.
В головах скорбного ложа детина в армяке, растерянно веющий над бесчувственным телом куриным крылом, извлечённым из печки. Самое то. Кафтан на пациенте, – конечно же, бывший парадный, со споротым золотом и демонстративно протёртыми в бархате проплешинами – заботливо расстёгнут, и на немощной груди налеплен под рубашкой импровизированный Полинькин компресс. В живописно разметавшихся по наволочке тёмных волосах уже пристроился крошечный рыжий котёнок, пригрелся, свил гнездо и счастливо мурчит – наконец-то удалось, добился своего.
– Фу, Нюшка!
Полинька коршуном подлетает и берёт котёнка – прочь с графских локонов. И сразу же больной открывает глаза – трагические, словно у издыхающего зверя – и тут же упоённо чихает.
– Ну, оклемался! – детина перестаёт веять крылом. – Так ответ-то будете писать? Или я пошёл?
– Ты пошёл, ответ завтра, всё завтра, граф не помер, графу не плохо, граф придуривается, но ответ завтра, потому что сегодня – выволочка, – доктор изгоняет из комнаты и Полиньку с котёнком, и детину с его крылом. – Завтра, завтра, завтра. Ты, малый, возьмёшь поутру ответ вот у этой дамы. Она с удовольствием тебе его передаст. Ведь верно, фрау поручица?
– Верно, доктор, – с улыбкой кивает Полинька, и котёнок на руках её журчит, как закипающий чайничек.
Дверь закрыта, и граф сидит уже на своей постели, обняв колени, положив подбородок на переплетённые пальцы. Когда он исподлобья вот так смотрит и улыбается – увы, не только Полинька делается полной дурой.
– Что за курьеры от частных лиц и тайные письма, и почему ты не послал за мною, прежде чем его принимать, дурное твоё сиятельство? – доктор притворяется злым, но он не злится, ему смешно.
– Я не стал звать тебя, потому что ты там… копался, – собеседник его сбрасывает компресс на простыни и вытягивает из-за пазухи письмо, и смотрит на него, так дети смотрят на свой табель с первой оценкой «отлично». – Ты представляешь, он ведь и в самом деле ответил мне. Мой всадник на лучшей в городе лошади. Пусть через полгода – наверное, долго думал, что же такое мне написать. Видишь, Бартоло, письмо запечатано его прежним, герцогским гербом. Забавно, правда?
– Неужели ты плачешь?
– Что ты, зачем. Кошка лежала в моих волосах – вот и слезятся глаза. Правда, что я сквозь слёзы прочитаю, в таком тумане?
– То есть теперь тебе стало к кому бежать, – задумчиво произносит доктор. – И я зря развлекался столько лет напролёт норным копанием.
– Увы, он такой же пленник, и всё у нас давно прошло!.. – О, этот голос, с отрепетированной продуманной грустью. – Мне остаётся разве что смотреть в окно на дорогу, что делает неизбежный, неотвратимый поворот…
Доктор понимает, что точно такой поворот вот только что сделала его собственная жизнь – мгновенный, неотвратимый и невозвратный.
– И повторять, как та пастушка из прежней нашей оперы:
– Что это значит, Рене? – доктор отгибает простынь и садится на край кровати. – Я не понимаю по-французски, ты же знаешь.
– Вы были счастливее,
Когда вы некогда были –
Я не хочу сказать «влюблены»…
– …но этого хочет рифма, – покорно переводит его визави и зябким жестом запахивает на груди свой демонстративно протёртый кафтан. – Всё кончено, Бартоло, ты же понимаешь – дальше дороги нет, всё кончено.
– Я не знаю по-французски, Рене, но помню одну поговорку, на языке твоей маленькой гордой родины: it ain’t over ‘til it’s over… Это не кончится – пока не будет совсем всё кончено, верно?
– Это не гэльский, это вульгарный инглиш, – смеётся Рене. – И я не знаю, признаться, ни одного, ни другого. Разве что два-три слова.
Он улыбается – и нежно, и беспомощно, и доктор с умилением смотрит на белые, ровные зубки, которые он сам когда-то ставил своему пациенту, – в неотразимой прелести этой улыбки есть и его, Бартоло, заслуга. И ведь без толку, что он об этом знает, его драгоценный граф улыбается, щурит по-кошачьи тёмные выразительные глаза, всегда как будто заплаканные, – и дурами делаются и Полинька, и та ярославская таинственная особа, и, увы, сам доктор.
– Прочти мне письмо, Бартоло, пожалуйста. Видишь, у меня всё ещё текут слёзы.
И доктор берёт из его руки конверт – дорогая, такая белая бумага – и читает ему, с выражением, как будто рассказывает перед сном сказку:
«Мой Рейнгольд, письмо твоё – лучшее, что случилось с моею жизнью за последние несколько лет. Теперь я знаю, что и ты не на самом дне ледяного кромешного ада, у тебя по-прежнему есть друзья, способные позаботиться о тебе, и верные настолько, что я (до сих пор не верится…) смог прочесть твоё послание.
И неуместно тебе сейчас каяться в прошлых грехах и обвинять себя, мы оба знали всегда, что один из нас откажется от другого прежде, чем трижды прокричит петух.
Всё закончилось так, как закончилось, и в любом случае, наш удел завидней, чем судьба прежнего твоего сердечного приятеля де Ла Кроа. Мы живы, и нашлись люди, столь преданные нам, что разделили нашу участь и добровольно последовали за нами – значит, мы ещё не худшие злодеи в этом мире, хотя моим именем и пугают в наших краях непослушных детей.
Твой подарок уцелел и разделил мою судьбу, он и сейчас со мной, и бывают минуты, когда ваш покорный слуга хватается за эти отравленные чётки, как утопающий за соломинку.
Крепость, смертный приговор и последовавшая затем ссылка навсегда излечили меня от многих недугов, как телесных, так и душевных. Прошлое видно отныне как бы с высоты, так душе видится тело, покинутое ею, – ничего не изменишь, но ничего и не жаль.
Тем более странно, что вещи, считавшиеся прежде ненужными, незначительными и даже лишними, предстают нынче лучшими из всего, что было.
Одна женщина подарила мне положение в обществе, другая возвысила до небес, третья вернула жизнь. Мужчины, напротив, приносили только несчастья – один использовал искреннюю мою привязанность, чтобы предать и попытаться уничтожить. Другой вплетал мою дружбу в свои интриги и хитроумные планы, как кружевница вплетает золото в кружева.
И кого же из них вспоминаю я чаще всех в изгнании, глядя в окно на проплывающие по реке корабли?
Поистине прав был французский поэт:
Mais que vous êtiez plus heureuse
Lorsque vous êtiez autrefois,
Je ne veux pas dire amoureuse,
La rime le veut toutefois.
Я не могу забыть тебя, Рейнгольд, ядовитая, злая золотая сильфида, невесомыми крыльями оцарапавшая, нет, не сердце – душу. Мы старые и больные, и никогда не увидимся, и тысячи вёрст разделяют нас, и нет мне покоя.
Ты говоришь со мной о прощении – и напрасно. Тебе не нужно моё прощение. Ведь если б возможно было отыграть прошлое, как партию в карты, я попросил бы у русского чёрного бога одну лишь золотую пыльцу с крыльев моего ядовитого мотылька, золотую пудру, столь недолго пачкавшую мои пальцы».
Длинная деревянная лестница, крашенная белой краской, спускается к самой воде. Пастор идёт по лестнице медленно, боится то ли споткнуться, то ли спугнуть добычу.
Ссыльный сидит на самых последних ступенях, в окружении двух хитроумных голландских удилищ. Чуть поодаль отставлено серебристое ведёрко, в котором пока ничего, – пастору с верхних ступеней это видно отлично. Поплавки подрагивают среди осоки, увы, всё не уходя и не уходя под воду, и рыболов не сводит с них глаз, как будто доски не скрипят опасно за его спиною и никто не подкрадывается с душеспасительной проповедью. Ссыльный зовётся господин Биринг и больше никак, такое уж имя выдумали для него его петербургские тюремщики. Впрочем, пастор обращается к нему «сын мой», как и прежде, и оттого никогда не путается в его именах – прошлых, позапрошлых, настоящих.
– И снова приветствую вас, сын мой, – со сладостным предвкушением начинает пастор. – Утреннюю беседу прервал ваш внезапно случившийся сон…
– Жаль, что внезапный сон неуместен на рыбалке… – Он не поворачивается, не смотрит, он не сводит глаз со своих поплавков. – Вы можете продолжать свою речь, падре. Мне никуда не деться от вас – с этой лестницы. Я уснул, когда речь велась о гордыне и о наказании за гордыню, и о стяжательстве, и о чём-то таком ещё. Валяйте же дальше, отец мой.
– Гордыня, стяжательство, властолюбие, – перечисляет с удовольствием пастор, – коими камнями и вымощена дорога, что привела вас на сии ступени.
– Напоминаю, падре, эти ступени выстроены по моему распоряжению, год назад здесь валялись три камня и торчали два пня… – Пастор не видит его лица, но в голосе слышит улыбку. – Ваша образная речь страдает от недостаточно продуманных сравнений.
– Гордыня, – смиренно повторяет пастор.
– Так что есть, то есть. Сами посудите, из такой грязи и в такие князи. Только дурак не станет гордиться подобными газартами. Даже сейчас много лучше, чем то, с чего я когда-то начал. Я слишком слаб для скромности, простите мне, отец мой.
– Стяжательство…
– Сказано – «не укради», но никто не запрещает принимать подарки. И оплату по условиям длительного, затянувшегося на столько лет контракта. Поверьте, падре, подобный контракт именно так и стоит. Вы же не попрекаете тенора тем, что он поёт за деньги? Тенору хорошо, он попел-попел и ушёл за кулисы, а когда ты на сцене всегда, и в руках – одно, а в мыслях – абсолютно другое…
– И прелюбодеяние, – с готовностью напоминает пастор.
– Издержки профессии, – поплавок уходит под воду, и рыболов отправляет в ведёрко первого трепещущего карася. – Грешен. Стоило бы раскаяться, но теперь, когда нет больше предмета для искушения, это было бы нечестно. Слишком по-ханжески. Оставьте мне, падре, моё грешное прошлое. Кирха, в которой служите вы свои службы, в конце концов, выстроена именно на средства от прежних моих грехопадений. Примите этот дар и простите меня.
Пастор делает паузу, то ли собираясь с силами, то ли набираясь храбрости.
– Бог простит вам, сын мой, то, что сделано было ради вашей семьи, и то, что сделано было ради вашей бедной родины. Пусть и кривыми, грязными, окольными тропами, но вы стремились к доброй цели. Мы с вами много беседовали об этом прежде, и я полагаю, бог простит вам. И гордыню, и стяжательство, и прелюбодеяние, и властолюбие… Вы, сын мой, никогда не делали зла намеренно, и вы хотели, в конце концов, хорошего – и родным, и соотечественникам.
– Ну слава богу! – с показным облегчением выдыхает ссыльный. – Вы подниметесь по лестнице сами или мне проводить вас?
Ещё одна рыба – длинная, узкая, молочно-белая в солнечном свете – мелькает в воздухе и вдруг срывается с крючка.
– Одержимость, – тихо и будто бы грозно произносит пастор. – Одержимость недостойным предметом.
– Я ждал, когда же вы о нём заговорите…
Он так и не повернул головы, провожает взглядом уходящую на глубину белую рыбу. Она умрёт все равно, у неё уже вырваны внутренности. Его рыболовным крючком. И она всё равно – не его… Никогда не будет.
– Нет благих намерений – чтобы подобное оправдать.
Пастор говорит ласково, но в голосе его слышится твёрдость железа. Это их давний, ещё доссыльный, спор.
– Может, и не нужно, падре? – рыбак забрасывает удочку и снова смотрит на поплавок. – Может, лучше в аду, но в хорошей компании, чем в раю, но одному? Или с вами… Шли бы вы в дом – утешать герцогиню, или наследников, или кого-нибудь ещё. От вашего общества у меня не клюёт.
– Одержимость греховна, – повторяет пастор с мягким нажимом. – Я много думал, я пытался понять, за что же мы так наказаны? Все мы… Порою мне кажется, ежели вы раскаетесь и однажды выпустите это из рук, все мы будем спасены…
– Вы бредите, отец мой!.. – гневно начинает ссыльный.
Но пастор спускается у нему, садится на одну с ним ступень и молча указывает на то, что машинально перебирает он в своих пальцах:
– Вот это, сын мой, вот это…
Длинные чётки со множеством бусин – бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры… И мутно-розовые шарики из розового поделочного камня в золотой оправе, в таких камнях отравители прячут яд. Их легко узнать – на свету эти камни меняют цвет, делаются то розовыми, то лиловыми.
– Нет, падре!
Ссыльный накрывает чётки ладонью и наконец-то смотрит пастору прямо в глаза. Такой взгляд, тяжёлый, тёмный, долгий – как полёт в пропасть, – нелегко выдержать, но пастор за столько лет научился.
– Одержимость – это всегда грешно, – повторяет святой отец смиренно и обречённо. – Одержимость – это не любовь, сын мой. Это не любовь.
Тёмный, смертный, последний взгляд, и судорога, передёргивающая угол рта, словно злая улыбка:
– Но это всё, что осталось.
Вы, патрицианская кровь
Небо чёрное, не от подступающего дождя, от пыли. Дождя-то нет и не будет. Будет пыль, жгучая, всё застящая, липнущая к слезам. Так, что и лицо становится, как пыль эта – чёрным.
– Не плачь, Полинька, – говорит, обнимая её, сестрица Лидия. – Так оно лучше, для всех нас лучше.
Лютеранское кладбище – эти их кресты, чуть иные, или же горбы могил, совсем без креста, в иссохшей потресканной глине. Рене не был лютеранин, он был католик, но это уже неважно.
Так для всех лучше. Лучше для мужа – теперь он уедет в Петербург, с повышением, и она, Полинька, госпожа капитанша, с мужем уедет, и ребёнок родится уже в Петербурге. Бог даст, будет мальчик. Уедет и доктор, он так просил, столько писал в столицу, в Сенат, а теперь и не нужно ждать разрешения, можно ехать и так – ведь ссыльный его умер. Ссыльный с доктором разругались и последние три месяца совсем не разговаривали, сидели по разным комнатам, как сычи. Рене смеялся: «Я заболею и умру, и некому будет меня спасать, ведь Климт на меня обижен». Так и вышло, ага.
Так и для него самого будет лучше, для Рене. Полинька старается не глядеть на тело в рогоже – куда ему гроб, много чести, да и денег нет. Таких в гробу не хоронят, не достойны даже и гроба. Она-то знает, что там не он, не Рене, в этом свёртке, столь противной сладостью пахнущее тело. Это не он. «Если бы ты умер, мне было бы легче. Я знала бы, что всё, наконец-то, кончено. И между нами – никогда – ничего – не будет возможно. Но как хорошо, что ты всё-таки не умер». Всё ещё будет у неё – Петербург, жизнь новая, ребёнок. Будет – и без…
Полинька стирает слёзы. Да, так всем будет лучше, не нужно плакать. Муж так пьян, что спит стоя, как водовозная лошадь, и два офицера, прибывшие из Перми для освидетельствования, после вчерашнего тоже изрядно хороши. Пошатываются, перешёптываются, похохатывают, и запах перегара даже перебивает то, чем пахнет от тела. Чёрная туча в небе, кажется, плачет пылью. Траурное небо, пылью запорошенное солнце, выжженная белёсая земля, и лес на краю кладбища – уже желтеющий от небывалой жары. Хотя ведь только июль.
Пастор речитативом бубнит по-немецки.
«Рене католик, – вспоминает Полинька, – у католиков латынь».
«Vos, о patricius sanguis…» Так говорил он, сощурив ресницы, о ком-то из прежних своих друзей ли, врагов – вы, патрицианская кровь. И сам был тоже чужая, диковинной породы птица, волею судьбы заброшенная к ним, существам простым и топорным, данная им в грубые руки на подержание. Ненадолго. Ему было здесь с ними даже не скучно – противно. И этот лес, и эта пыль, и домики горбатые, и дорога, и всё, всё, всё, и сама Полинька.
Лети же, отныне свободен… Полинька стирает чёрную от пыли слезу и усмехается внезапной догадке. «Кто он, тот, кто ляжет на кладбище вместо тебя, – случайный прохожий, каторжник, разбойник? Кто он – жертва нечаянного вашего сходства? И лучше ли это – и для него, или же нет?»
– Гляньте – он?
Могильщик откинул с головы рогожу, и полицмейстер взглянул, скривясь. Покойнику неделя, не меньше, там и лица уж нет, на такой-то жаре, но всё же… Нос длинный, и волосы длинные – он, кто ж ещё… Полицмейстер молча кивнул, и секретарь что-то царапнул на протоколе осмотра. Могильщик завернул рогожу обратно, и вдвоём с товарищем они столкнули покойника с края ямы – вниз, ногами, как собаку. Тело упало – как упало, и в яму полетели с лопат рыжие комья высохшей на жаре глины.
– Вот и всё.
Он стоял на верхней перекладине лестницы и глядел в окно – на похороны. Их было двое в кирхе – два монаха, в чёрных рясах, бородатые, с длинными волосами. Мизансцена показалась бы выстроенной правильно и логично – два монаха, в кирхе, на краю лютеранского кладбища. Если бы один из монахов не походил повадками на беглого каторжника, а второй не держал бы себя, как принцесса крови.
– Налюбовались, так спускайтесь, ваше сиятельство, – насмешливо пригласил тот монах, что походил на разбойника.
Он стоял внизу, держал наблюдателю лестницу – и ему надоело. Он говорил по-русски, так, как говорят лихие люди – темпераментной скороговоркой, возвышая тон к концу фразы, а товарищ его отвечал по-немецки, но, видно, так им было удобно, оба понимали.
– Уже иду, друг мой, – чёрная тень слетела с лестницы на землю, словно ворон с могильного креста. Ряса была длинна для него и подвязана слишком узко, и скорбное вервие смотрелось в таком контексте как дамский пояс.
– Попрощались? – спросил разбойник добродушно и почти сочувственно.
– С собою самим? – насмешливо уточнил его собеседник. – Увы, пьеса отыграна, зрители покидают зал, – и прибавил совсем непонятно. – Vos, о patricius sanguis…
– Это ещё по-каковски? – лестница отправилась в угол, и монах-разбойник уже переминался с ноги на ногу у выхода, не терпелось ему.
– Латынь, «вы, патрицианская кровь», – был ответ, – идём же, я вижу, как ты извёлся. Я довольно задержал тебя…
– Слава богу, кровь ваша вся при вас осталась… – Разбойник выглянул на улицу, оценил обстановку и махнул рукою: – Идём, пока тихо!
Там, за дверью, была его свобода – и его свежевырытая могила.
Смерть, так похожая на свободу. Свобода, столь схожая со смертью. Утрата себя, мгновенная, однажды и навсегда, предсказанная ему в году двадцать четвёртом неопытным глуповатым астрологом. Такой дурачок был, с чёрными глазами, словно у нюренбергской куклы. Тот астролог и знать не знал, что вдруг так угадает. Вслепую выстрелив – прострелит добыче голову навылет, из глаза в глаз.
Они вошли в лес – в тот самый лес, на который смотрел он пятнадцать лет из своего тюремного окна. Тот разновысокий чернильный абрис, на фоне тысячи умирающих закатов, за полем, за кладбищем, за домами. Лес был хвойный, всегда чёрный, лишь по осени в ярких просверках багрянца.
Вблизи хвоя оказалась совсем не такой – на солнце мрела берлинской зеленью, а в тени – сиреневым и синим. Рене осторожно ступал за своим внушительным провожатым, отводя от лица паутину и ветви. И думал, в иронической – от беспомощности – манере, что прежде он не был в лесу в своей жизни вообще ни-ког-да. Как-то раньше не случалось. Здесь пахло очень хорошо, прелью и еловыми иглами, и хвоя лежала на земле, мягкая, как ковёр, и всё располагало к умиротворению и философии, лишь комары мешали.
Провожатый давно убежал от него вперёд, на опушку, в брезжащий свет. Он вышел на яркое солнце и уже говорил с кем-то, весело и сердито, и Рене, по старой шпионской привычке, остановился, невидимый в кружевных тенях, и слушал. Новые его хозяева – окажутся они лучше или хуже прежних? Впрочем, они не настоящие хозяева, лишь порученцы хозяина, но всё равно – это опять зависимость, неопределённость, и снова весело, и снова страшно.
– Принимай гостей, – провожатый присел у костра, сбросил с плеча мешок, – вот, поесть прихватили, а то я тебя знаю, ты тот ещё охотничек.
Собеседник его, стройный, в русской одежде, длинноволосый, чумазый, впрочем, как многие здесь, прищурился, спросил недовольно:
– Отчего так долго?
Рене вглядывался в него – в того, в чьи руки отныне он передан. И тот тоже вглядывался – в переплетённые ветви, словно видел за ними Рене, хотя он, конечно, не мог видеть.
– Что ж так долго, Лёвка? – повторил он.
– Спроси у его сиятельства, – проворчал провожатый Лёвка с каким-то удовольствием в голосе. – Кое-кому загорелось поглядеть на свои похороны. Упёрся, как ишак, и ни в какую – не пойду, пока не увижу эти грёбаные похороны.
– А ты бы, Лёвка, отказался посмотреть, как тебя хоронят?
Рене разглядел, как он веткой пошевелил угли в костре и взглядом мазнул по стене бархатистой хвои. И потом этот человек, стройный, гибкий, несомненный, по повадкам, ухарь и тать, взял из-за пазухи кошелёк, извлёк из него золотом сверкнувшую бусину, розовую и белую, и на солнце перелившуюся в кровь, и позвал:
– Идите же к нам, ваше сиятельство. Вам не следует нас бояться.
Рене ещё удивился – как он прочёл его, вот так, не глядя, не видя? Этот ухарь и тать… Но бусина в его пальцах была – пароль, он нарочно играл ею, как жонглёр, чтобы можно было и рассмотреть, и узнать.
И сделать наконец-то шаг – ему навстречу, навстречу бог знает чему.
«Looks like freedom but it feels like death» – сказал как-то раз один философ. Но, бог ты мой! – а можно ли так восклицать агностику? – разве не тот же самый философ и поэт писал в предлинной своей балладе: «And I loved you when our love was blessed, and I love you now there’s nothing left but sorrow and a sense of overtime»?
«Я люблю тебя, когда у нас ничего уже не осталось – только грусть и последние песчинки в песочных часах», или как-то там было иначе, другие слова?
Нам тысяча лет, и мы умерли, вымерли, вмёрзли в грунт, словно древние мифические существа, – и всё же имеем дерзость любить кого-то и вглядываться до слёз в зеркальные коридоры. И летим, кувыркаясь, вниз, как подстреленная птица, – а всё ждём, что кто-то подхватит нас, прежде чем коснёмся земли…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?