Текст книги "Недрогнувшей рукой"
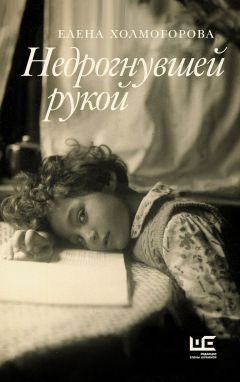
Автор книги: Елена Холмогорова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Но и в нашу тесноватую квартиру я стеснялась приводить многих одноклассников: они жили в многонаселенных коммуналках, и наша квартирка могла показаться им роскошью.
Мемориальные доски облепили дом значительно позже, в моем детстве и отрочестве обитатели еще здравствовали. Я с детства привыкла жить среди знаменитостей, встречать их в подъезде и ближайшем продуктовом магазине, а потом видеть на ярко освещенной сцене Большого зала Консерватории. Эта прививка против раболепия и одновременно снобизма позже и помогала, и мешала мне в жизни.
Звуки преследовали на всех этажах, создавая немыслимую какофонию. Ходили слухи, что предусматривалась какая-то новейшая по тем временам звукоизоляция, но она то ли осыпалась, то ли ее сгрызли мыши. Так или иначе, поскольку жили там, в основном, консерваторские преподаватели и к ним ходили студенты и частные ученики, игравшие на разных инструментах или певшие в разных диапазонах, непривыкшему человеку находиться там было непросто. Особенно шумно было летом, когда открывались окна – кондиционеров еще не было – и тихий двор, куда у нас выходили все окна, оглашался то ревом трубы, то писком флейты, то безуспешными попытками преодолеть какой-то сложный фортепианный пассаж. Я любила это нагромождение голосов, как потом любила летом гулять мимо открытых окон Консерватории и Гнесинки.
Московская Азия
Когда я познакомилась с будущим мужем, он жил с мамой на улице Горького, в доме, где тогда был легендарный магазин “Малыш”, в огромной коммунальной квартире, которая когда-то целиком принадлежала его прадеду и от которой им осталась шестнадцатиметровая комната-пенал. Мама много-много лет стояла в очереди и вот наконец получила отдельную двухкомнатную квартиру. И ровно в этот момент ее тридцатипятилетний сын объявил, что собирается жениться.
Каково ей было выслушать известие о том, что она не будет единственной хозяйкой в долгожданной квартире! Если добавить к этому, что по возрасту я годилась ей во внучки (моя свекровь и бабушка были полными ровесницами – родились не только в один год, но даже в один месяц), можно представить себе, что она почувствовала в этот момент! Анна Вацлавовна была женщина замечательная, я считаю, встреча с ней определила мое отношение ко многим вещам. Мы дружно прожили под одной крышей три года, потом она тяжело заболела и умирала на моих руках. Высшего образования она не получила, окончила экзотическое учебное заведение – Педагогический техникум с сельскохозяйственным уклоном имени товарища Троцкого (готовил учителей для сельских школ), но была истинной интеллектуалкой, да еще обладала соответствующим национальности настоящим польским характером – была гордой и независимой.
Волгоградский проспект, новый семнадцатиэтажный дом – “ведомственный”, наша квартира – одна из немногих, которые по закону отошли Моссовету. Хозяин дома – НПО “Энергия” – суперсекретная ракетно-космическая фирма. Как нам сообщил как-то участковый милиционер, в округе дом называли “противоатомный”, поскольку возводился он передовым тогда методом скользящей опалубки и, как говорили, весь целиком представлял собой бомбоубежище. Отличительной чертой квартиры было обилие стенных шкафов, а также наличие балкона или лоджии в каждом помещении. Впрочем, последнее обстоятельство сыграло с нами злую шутку. Как говорил муж, все балконные двери, наверное, делали портные: они были либо приталенные, либо расклешенные – дуло из них нещадно. Дом стоял на пустыре, на юру, ветры свободно гуляли по двум комнатам, по кухне, по коридорам, и понадобились горы ваты и километры клейкой бумаги, чтобы заткнуть щели. В остальном квартира была удобной, недалеко от метро. Мы с мужем тем не менее ее втайне ненавидели. Миша, который всю жизнь прожил в центре, на Тверской, всегда потом говорил: “Это было, когда мы жили на выселках, в Кузьминках”. Он утверждал, что в Москве, где-то на Таганке проходит граница между Европой и Азией, разумея под Азией что-то чуждое. Путем хитрого обмена через три года уже вчетвером, с младенцем-дочкой, мы вернулись в центр.
Но в том доме успело случиться много всякого-разного. В страшном холоде мы встречали там Новый 1979 год. Под столом, обогревая ноги, стоял радиатор с раскаленной спиралью, и у Миши от жара ровно по стрелке треснули синтетические брюки. А от порыва ветра в щель под ограждением лоджии выкатилась и полетела с девятого этажа тяжеленная гиря от старинных часов, которой была приперта от сквозняка дверь. Если бы кто-то попался на ее пути, сидеть бы нам в тюрьме за неумышленное убийство.
В этой квартире мы пережили московское землетрясение 1977 года. Невероятное совпадение: у нас был в гостях приехавший из Екатеринбурга троюродный брат мужа – сейсмолог. Мы сидели за столом, помню, пили красное вино. Когда закачалась люстра, он сказал: “2–3 балла”. Потом звонили какие-то знакомые, а назавтра коллега с самым серьезным видом рассказывала, как при первом толчке спасала самое дорогое: “Чувствую – трясет. Я – хвать золотое кольцо, партбилет и на улицу”.
У нас на Волгоградском была тетка-общественница, которая всем с гордостью рассказывала, что она “жена и мать чекиста”. Классовое чутье у нее было тоже вполне чекистское, нас она невзлюбила с первого взгляда. И вот через пару дней я попала с ней вместе в лифт. Пока спускались с девятого этажа, надо было о чем-то говорить. Про землетрясение, конечно. Я начала: “Какой все-таки у нас крепкий дом – почти не почувствовали”. Она строго посмотрела меня из-под мохерового берета и строго сказала: “Вообще-то весь подъезд был во дворе”. Репутация погибла окончательно. Благо, скоро мы этот дом покинули. А то, глядишь, донесла бы, нашла бы повод…
Мы мечтали вернуться в центр. Забавно, что в те годы еще не известно нам было слово “риелтор”, а единственным местом в Москве, где можно было попытаться найти вариант для обмена (купли-продажи до приватизации квартир, естественно, не существовало в принципе), был Банный переулок недалеко от метро “Проспект Мира”. Там можно было подать объявление, посмотреть картотеку и купить “Бюллетень по обмену жилой площади”. Однако большинство искали подходящие квартиры на расположившейся рядом толкучке, где прохаживались люди с плакатиками в руках или на шее в надежде наткнуться на желанную. Но, как практически во всех сферах тогдашней жизни, параллельно расцветал нелегальный рынок услуг. Существовали так называемые маклеры, чья деятельность преследовалась по закону, им грозил срок до трех лет с конфискацией имущества. Услугами такого маклера в итоге мы и воспользовались, и за 500 рублей (моя зарплата в то время была 110) он нашел нам квартиру, в которой мы прожили сорок лет.
“Назовите свой адрес”
Девочкой я часто гуляла в этих краях. Там была точка притяжения – магазин “Консервы” у Никитских ворот, где в высоких конусах с краниками внизу краснел-багровел томатный сок, а на мраморном столе рядом стоял граненый стакан с крупной солью, в который была воткнута алюминиевая ложка. Конкуренцию этому лакомству мог составить только молочный коктейль, который взбивали в продуктовом на улице Герцена. Потом можно было углубиться в переулки, облизывая красные от томатного сока или белые от молочного коктейля усы. Рядом, в Хлебном переулке, стоял дом моей мечты. Я тогда не знала, что построен он был в стиле ампир вскоре после московского пожара 1812 года, что жил в нем композитор Верстовский, – а знала только, что в нем помещалось посольство таинственной страны Исландии. Сам особняк – маленький, изящный, почти игрушечный, с дивным полукруглым эркером – был таким, каким в девчоночьих грезах представлялся дом, где я буду хозяйкой.
Когда маклер предложил посмотреть квартиру в соседнем – Скатертном переулке, я была согласна не глядя. К тому моменту просмотр квартир и обсуждение вариантов уже измучили меня. Квартира оказалась по мне – с нишей в большой комнате (куда люди практичные наверняка встроили бы шкаф, а мы поставили журнальный столик с креслами), с неудобной на самом-то деле, но совершенно нестандартной планировкой.
Там было где развернуться с мужниным фамильным книжным шкафом и письменным столом. С прочей мебелью произошел смешной казус. Люди, которые по обмену ехали в нашу квартиру на Волгоградском проспекте, положили глаз на мебельную стенку – модный тогда предмет, купленный нами специально для комнаты свекрови. А мы как раз думали, как бы нам от нее избавиться и в новый дом не брать. И произошел еще один обмен. Тот редкий случай, когда каждая из сторон была убеждена, что обдурила другую: оставили “стенку” на месте, а взамен получили дивный старинный овальный стол, раздвигавшийся человек на двадцать, и журнальный столик с фигурными ножками и угловыми креслами. С ними я не рассталась по сей день.
Старомосковская квартира с фамильной мебелью и годами откладывающейся переклейкой обоев, хранящих следы когтей наших кошек-собак (“После меня – хоть ремонт”, – говорил муж, пресекая мои поползновения), – родная и теперь покинутая…
Здесь всё было мне впору, я всё прощала: и отсутствие балкона, и последний этаж с периодически протекающей крышей, и крохотную узкую кухню. Я знала скрип каждой паркетной дощечки и вид из каждого окна. Здесь выросла наша дочь, сюда приходили родные и друзья. Чтобы рассказать о той квартире, надо рассказывать обо всей жизни…
По прописке мы жили в Скатертном переулке, но при этом в квитанциях на оплату электроэнергии дом числился по улице Герцена, так что за свет и прочие коммунальные услуги мы долгие годы платили по разным адресам. В детской поликлинике наша карточка была по Герцена, а во взрослой – по Скатертному. В нашем случае ответ на простой вопрос об адресе оказывался не вполне простым.
Когда я осталась в ней одна, то поняла, что пришла пора расстаться. В ряду других потерь эта не была легкой…
Последний приют
Первое, что я сделала в новой квартире, – решительно снесла все стены. Теперь у меня большая студия и красивый адрес по Тверской улице. Рядом – в Леонтьевском переулке, – моя единственная, на десять лет, школа. Перевезла мебель, книги, дедовские картины… Конечно, при переезде со многим пришлось распрощаться, места тут куда меньше. Но теперь всё как-то на виду – никаких закоулков и тупичков. И я радуюсь: наступает момент, когда хочется прозрачности и простоты во всем – в том числе в собственном доме.
Ячейка типа F
Прожив почти всю жизнь в объятиях Садового кольца, я не представляла себе, что оттуда можно уехать надолго. Я всегда любила Москву, изучала ее, писала о ней, много ходила и ездила на экскурсии. И вот однажды я отправилась в дом Наркомфина. Это теперь в нем проведена реконструкция, как я понимаю, достаточно бережная, под руководством внука его архитектора Гинзбурга, и продаются дорогущие квартиры. А тогда это было разрушающееся здание, в котором только угадывались революционные конструктивистские идеи. Меня покорила “ячейка (так именовались квартиры) типа F” – крошечная по площади, но с лесенкой на антресоль-спальню. Мне ужасно захотелось жить в такой “ячейке”, напоминавшей мансарду парижского художника.
И вот судьба подарила мне такую мансардочку в недалеком пригороде, всю белую, отчего я называю ее сугробом, стоящую посреди красивого парка, где в пруду плавают лебеди. Я много времени провожу здесь.
Всех веселю по поводу своего адреса: деревня Писково, дом 121. Где они нашли предшествующие 120 домов? Смешно, что в Википедии сказано, что население деревни три человека.
Когда в Тель-Авиве начал застраиваться знаменитый теперь бульвар Ротшильда, Меир Дизенгоф предложил начать нумерацию домов не с номера 1, а с номера 121. Это для того, чтобы, прочитав обратный адрес на конверте, оставшиеся в России родные и друзья с почтением видели, что улица, где те поселились, на самом деле очень длинная, а не какой-то там закоулок. Потом нумерацию поменяли – не знаю точно когда.
Вот и у меня теперь – дом 121…
Постскриптум
Среди улиц в центре Москвы, на которых прошла моя жизнь, практически нет ни одной не сменившей название. Но процесс переименований шел совершенно нелогично: часть улиц вернула исторические названия (при этом порой обидев заслуженных людей, увековеченных в них), а часть – наоборот, заместив новыми те самые исторические названия (при этом увековечив многих достойных). Одним словом – путаница и невнятица…
Первые мои годы прошли на 3-й Миусской улице. Этого адреса на карте Москвы больше нет – есть улица Чаянова.
На новую квартиру, как я уже писала, мы переехали в кооператив преподавателей Московской консерватории в Брюсовском переулке. Через некоторое время его повысили до улицы и переименовали. Мы стали жить на улице Неждановой. Но и ее сегодня нет на карте Москвы. Улица опять превратилась в переулок, на этот раз – в Брюсов.
Неподалеку была школа, в которой я проучилась с первого класса до выпускного вечера. И опять-опять… Школа стояла на улице Станиславского, теперь ее адрес – Леонтьевский переулок. Но в списке московских улиц и сейчас есть улица Станиславского (в районе Таганки, кстати, раньше Малая Алексеевская, а потом – Малая Коммунистическая).
К бабушкам-дедушкам я ездила в гости на одном из трех троллейбусов, ходивших по улице Горького. Вынуждена заметить, что и эта улица теперь именуется иначе – Тверская. К тому времени мамины родители переехали в отдельную квартиру, но недалеко – в Ново-Васильевский переулок. Уже без утомительных комментариев просто отмечу, что вскоре переулок стал улицей Юлиуса Фучика.
Мой главный взрослый дом, где прошли четыре десятилетия, выходил на улицу Герцена (ныне Большая Никитская) и два переулка – Скатертный (слух ласкает уцелевшее имя) и Скарятинский (называвшийся тогда улицей Наташи Качуевской).
У Андерсена есть сказка “О том, как буря перевесила вывески”. Очень похоже на то, что я описала: “Бедные городские жители, особенно же приезжие, совсем сбились с толку, попадали совсем не туда, куда хотели, и что мудреного, если они руководились только вывесками!”
Но я-то не вывесками руководствуюсь. Потому что вся моя жизнь прошла вокруг Садового кольца, в его объятиях, то по одну, то по другую его сторону: между Герцена и Горького, между Никитской и Тверской…
Планета Юшино, или Сталк по заброшкам
Я мечтала попасть туда, как все мы тогда мечтали попасть на другие планеты. Да это для меня, московской девочки, и была другая планета. Родители, никогда не бывавшие в такой глуши, долго сопротивлялись, но мое упорство, а потом и слезы сделали свое дело. Провожали они меня напутствием: “Обещай, что, если тебе не понравится, вернешься через три дня!”
Но как мне могло не понравиться? И после моих рассказов никого не удивило, что и вопрос будущего лета был решен. Сейчас эти две поездки в моем сознании почти слились, я уже не всегда могу отделить события одного лета от другого…
“Брянская область, Севский район, село Юшино”… Когда оттуда приходило письмо, я читала его вслух по многу раз, потому что моя няня – тетя Паня – не умела разбирать почерк младшего брата Петра. А ведь он окончил семь классов, работал одно время счетоводом в конторе и выводил ровные строчки почти писарскими, но недоступными ей – с двумя годами церковно-приходской школы – буквами. Когда я открывала конверт, тете Пане, наверное, казалось, что брат ее видит, поэтому она всегда прихорашивалась, перекалывала шпильки на своем крошечном, с грецкий орех, пучочке или тщательно поправляла платок. Я терпеливо читала письмо два-три раза подряд – медленно и с выражением, а потом каждый день в течение недели. В конце концов я выучивала его наизусть:
Здравствуй, дорогая сестрица Прасковья Ивановна, с приветом к тебе из Юшино брат Петр Иванович и его жена Таисия Степановна. Мы все, слава Богу, живы-здоровы, чего и вам желаем. Новостей особых пока нет. У деда Бокая крыша в сарае провалилась, его зашибло, на санях отвез Васька-конюх в район. Корова наша отелилась благополучно, теленочек такой хорошенький, рыженький со звездочкой белой на лбу, но по весне придется продать – куда нам еще… Ваньку-косого поймали на самогонке, додумался, дурила, тишком в городе на рынке приторговать. Говорят, если штраф огромадный не заплатит, посодют в тюрьму. Лексей участковый приехал, аппарат увез, а браги две фляги на землю вылил – вся деревня два дня от духа пьяная ходила. Паня, здоровье наше пока неплохое, тяжело только стало управляться с хозяйством, мочи нет, спина пополам переламывается, ночами не сплю, а барсучий жир, что бабка Жилиха дала, помогает не очень. Ты все-таки там, в Москве, спросила бы врачей. А то фелшер мне такое сказал, мол, спина твоя не лечится ничем, а только лежанием на печи без всякой работы. Глупой! По осени еще до снега приезжал с Украйны сын Нинки-свистелки. Привез гостинцы. Рассказывал, как работает в шахте. Мы-то думали, что у нас жисть тяжелая, а все ж не под землей, где цельный день никакого Божьего свету. Приезжай, любезная сестрица.
Остаюсь ваш любимый брат Петр Иванович
Наконец диктовался ответ. Для проверки точности записи я должна была читать каждое предложение, а потом раза два письмо целиком. Поправок тетя Паня не делала никогда.
Тетя Паня много лет спала на раскладушке, которую расставляла каждый вечер почти вплотную к моей кровати, пока отец не “выхлопотал” ей комнату в коммуналке. А все мое детство, как только мы гасили свет, я начинала приставать к уставшей за день от домашних хлопот няне: “Давай играть в колхоз!” Когда в школе проходили “Поднятую целину”, многое казалось мне странным. Тетя Паня, родившаяся в 1916 году, ярко помнила, как отца заставили отвести в колхозное стадо корову со странным для меня именем Витонка – кормилицу семьи, где Паня была младшим, одиннадцатым ребенком. И почему-то злоба и отчаяние, а вовсе не энтузиазм и радость коллективного труда окрашивали ее рассказы.
Игра наша была почти неизменна: утром приходил бригадир к председателю или же звеньевой к бригадиру “за нарядом”. И они, обсудив погоду, обязательно начинали препираться, в основном о том, что, мол, другому звену досталась работа полегче.
Няня задремывала, я протягивала руку и теребила ее: “Не спи!” Она ворчала, но, чтобы я отстала, говорила: “Все, вон подводы, пора ехать на поле”. Или: “Дождь собирается, скорее метать стога!” Это или что-то подобное означало, что начинается работа. А собственно в работу мы никогда не играли. Я знала едва ли не всех жителей небольшого села Юшино, династическую таблицу председателей колхоза, нехитрые достопримечательности – сельпо и клуб, умела петь любимые в селе застольные песни и намертво затвердила, на какие вопросы ни в коем случае нельзя отвечать. Последнее касалось обстоятельств переселения тети Пани в Москву, в частности “четверти самогона”, благодаря которой ей удалось добыть вожделенный, но по дохрущевским представлениям совершенно не нужный колхозникам паспорт.
И вот скоро я туда отправлюсь!.. Как на другую планету!.. Перед отъездом, чтобы не тащить тяжести с собой, мы послали сами себе посылки с консервами и подарками обширной тети-паниной родне, так хорошо знакомой мне по письмам… Дорогу эту я не забуду никогда. Общий вагон, где на полке положено было ехать троим, а на самом деле – сколько уместится. На станции Суземка поезд стоял минуту, надо было успеть выгрузить чемоданы и тюки, там у меня в давке слетела и навсегда сгинула на шпалах новая туфелька. Бережливая тетя Паня ругала меня и поминала туфельку все лето. И наконец – телега, устланная пахучей соломой, и впервые в жизни меня везет не мотор, а живое существо – гнедая лошадь с дивными глазами, как у красавиц, какими иллюстрировал мой дед старинные восточные сказания…
Больше всего меня поразило, что хаты были крыты соломой и что в деревне не было электричества. Потом я узнала, что до войны свет там был, но то ли фашисты, то ли наши взорвали плотину, и за двадцать лет, прошедших после Победы, так ничего не было восстановлено.
Поселили нас в освобожденном по этому случаю от хлама чуланчике. В нем не было потолка. Над головой – стропила и скат крыши. Во время сильных дождей то и дело на мой набитый сеном тюфяк сочилась капель. Зато украшен к нашему приезду он был едва ли не лучше избы. Стены побелили, пол застелили домоткаными половичками. В углу икона. А над лежанками цветные репродукции, наверное, из “Огонька” – помню как сейчас: непременная “Золотая осень” и почему-то врубелевский “Демон”. Пахнет свежим сеном – им набиты матрасы.
В доме большой стол, над ним икона с лампадкой – настоящая старая. На стенах – фотографии в самодельных рамках: напряженные позы, застывшие лица и почему-то непропорционально большие руки, аккуратно сложенные на коленях. Кровати с металлическими высокими спинками с блестящими шариками и разномастными подушками и подушечками, поставленными высокой пирамидой.
В первые дни мне было трудно есть приготовленную в печи еду – мешал привкус дыма, потом привыкла. Я все боялась, что кормить будут кашами, к которым с детства питала отвращение. Но, на мое счастье, оказалось, что главная еда – картошка, которую я обожала во всех видах.
Как же непохожи были эти два лета на привычную дачную жизнь, где компания моих ровесников гоняла по округе на велосипедах! У кого-то играли в пинг-понг, а у кого-то родители разрешали в карты – в “кинга” или просто в подкидного дурака, где танцевали под пластинки твист и чарльстон, вечерами пили со взрослыми чай на террасе под непременным оранжевым с бахромой абажуром, а потом чинно прогуливались, неспешно беседуя, по улицам поселка.
Здесь вечером выходят на горку встречать стадо. Там же узнают все новости. Я поначалу все удивлялась, как находят в этой толпе свою корову, а когда стала ухаживать за телочкой Галкой, увидела, какие у них у всех разные лица. Телочка была маленькая, ее еще не гоняли в стадо, а привязывали пастись на длинной веревке к колышку. В полдень надо было принести ей ведро воды, она уже ждала меня, и мы долго шептались щека к щеке, и иногда она облизывала мне лицо своим неожиданно шершавым языком.
В деревне компании сверстников у меня не завелось. Тетя Паня всячески ограждала меня от дурных влияний, притом что налитая мне, тринадцатилетней, стопка самогона за взрослым столом ее совершенно не смущала, как и крепкие словечки, каковыми изобиловала речь на посиделках, пока разговоры не сменялись пением “Вот кто-то с горочки спустился…”. Самогона, именовавшегося “ликер «Три бурака»”, поскольку гнался из свеклы, всегда было вдоволь, на стол ставилась огромная сковорода “жаренки”, то есть яичницы с салом, соленые огурцы, и так можно было сидеть допоздна. Со взрослыми я чувствовала себя легко. Когда первый острый интерес ко мне прошел (полагаю, что наш приезд был некоторое время главной местной новостью), у меня появилось много добрых знакомых. Я была страшно любопытна, а людям всегда приятно, когда с ними беседуют о важном для них. Московская жизнь отошла далеко-далеко. И как о самом существенном я писала домой:
У тетки Даши окотилась овечка. А у соседки Натальи заболела корова, так она дала ей литр самогона, и она поправилась. Зато вчера случилось несчастье: упала в кальер корова. Десять мужиков еле вытащили. Думали, придется резать, тетя Маруся так страшно кричала, прямо выла. А потом зоотехник посмотрел – цела корова. Праздновали. Пели “Из-за острова на стрежень…”.
Несмотря на запреты, гнали самогон все. Но принимались известные участковому не хуже, чем всем остальным, меры предосторожности. Снаружи на дверь вешался огромный висячий замок – никого, мол, нет дома, потом надо было влезть в окно, запереться изнутри – и можно начинать. Дым валит из трубы, но замок-то снаружи! Пуще всего боялись конфискации самогонного аппарата – большая ценность.
Единственная моя фотография из Юшино: едем на телеге, судя по граблям – ворошить сено, я улыбаюсь, но крепко держусь за бортик. Сзади меня тетя Паня (она очень гордилась, что “городская”, и при первой возможности снимала платок), а правит лошадью жена Петра Ивановича – Таисия Степановна. Ломаю голову: кто мог снимать? Скорее всего, это зять Петра Ивановича, муж старшей дочери Валентины. Они жили в городе Севске. У них мы были в гостях, когда приезжали на ярмарку на Яблочный Спас. Петр Иванович не мог оторваться от телевизора и был совершенно потрясен, когда узнал, что у меня дома телевизора нет (не по бедности это было, а, вероятно, из родительского снобизма, и я так же залипала у друзей). Райцентр – старинный город Севск был далеко – километров десять, пешком не очень-то дойдешь, надо ждать подводы или попутки. Поездка туда – событие. Особенно по праздникам. Я писала домой:
Вчера был Спас, ездили в город на ярмарку. Она представляет собой довольно дикое зрелище: весь город в грузовиках и подводах. Шум и толкотня невообразимые. Продают вещи, которые в Москве не пойдут даже под вывеской “удешевленные товары”. Огромное количество овощей и фруктов. Яблоки стоят 30–40 копеек ведро. Удивительные старики продают деревянные грабли, плетухи, коромысла, пральники. И тут же – поросят, коров, петухов.
Интересно, что деревню помню в подробностях, а вот райцентр оставил только общее впечатление пыли, убожества и скукоты.
Сейчас я бы, наверное, радовалась тому, что уцелели купеческие дома старинного уездного города, что сохранились храмы и возрожден Спасо-Преображенский монастырь. Это я вычитала в интернете, там и фотографии есть. В интернет я полезла лишь затем, чтобы сориентироваться в географии, точнее понять, где была моя деревня. Но, как часто бывает, зависла. Я чуть позже расскажу, что выдала мне не знающая ностальгии Всемирная паутина. В углу небольшого сада росла старая яблоня. Иметь фруктовый сад было вообще-то не по карману – за каждое плодовое дерево, кроме вишни и сливы, до середины пятидесятых годов нужно было платить налог. Тетя Таиса, увидев, что я облюбовала раздвоенный ствол и стала устраиваться там с книжкой, рассказала, что яблоню эту спас от вырубки Петр Иванович – за красоту и необычность сорта – больше в деревне таких не было. Там я читала не только книжки, но и письма. Почта, надо сказать, работала прекрасно. Письма в этот медвежий угол приходили за четыре дня. И – надо же – часть сохранилась! Мой дед писал мне в ответ своим потрясающим, неповторимым почерком:
Все твои наблюдения и соображения справедливы. По идее Ламот-Фуке и Жуковского – все простые, земные вещи и события для существа с живою душой должны быть исполнены особой прелести и очарования. Бертальда может скучать, если нет развлечений, праздников, необычных событий. Но может ли скучать Ундина? – конечно, нет! Потому что ход обычных, будничных дел и событий полон для нее глубокого смысла. Ундина с любовью принимает мир самых простых вещей и дел, всему тихо радуется, всем готова помочь. Вот и оказывается, что она земная – в самом высоком смысле слова…
Делаю вывод: в это время читала “Ундину”… А дед работал над очередными книжными иллюстрациями. И писал мне:
Я предвижу, что ты вернешься домой этакой крестьяночкой: основные разговоры будут о скоте и навозе. И это – очень, очень хорошо!
Когда много лет спустя я прочитала статью Лотмана “Декабрист в повседневной жизни”, я вспомнила своего деда. Прожившего в волошинском коктебельском доме три предреволюционных года, ходившего с Максом на этюды и вернувшегося полным антропософских идей, которые проросли в моем двоюродном брате, лежащем теперь на маленьком кладбище в Дорнахе около Гётеанума, где он жил и работал, став адептом Рудольфа Штайнера и одним из шести Великих магистров. И тогда меня поразило замечательно точное рассуждение Лотмана: “…подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, – легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев… Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры”…
Я сижу на раздвоенном стволе и грызу яблоки. Они еще не совсем созрели, но их вкус я буду потом помнить долгие годы. Я спрашивала, какой это сорт. Мне ответили “опороть”. На всех рынках я тщетно искала эту “опороть”, искала во всех энциклопедиях. Потом нашла. Это оказался “апорт”.
Но не так много времени проводила я на своей яблоне. Неожиданно я втянулась в крестьянскую работу. Это получилось как-то само собой. Попросилась в поле посмотреть. Стоять и глазеть было стыдно, начала помогать. Все поначалу умилялись, мол, барское дитя развлекаться изволит. В общем, типа Льва Николаевича – “пахать подано, ваше сиятельство”. Разозлилась ужасно. Назавтра повязала по-здешнему косынку и попросила грабли – ворошили сено. Через неделю уже никто не удивлялся, все только радовались лишним, пусть и слабеньким рабочим рукам.
Я страшно боялась ездить на возах. С вершины даже лошадь, его тянущая, казалась игрушечной, а сено, хоть и туго свитое веревками, ходило ходуном и кренилось набок при каждом повороте. Идти было далековато, ныли руки в мозолях, гудели ноги, и так заманчиво было влезть на стог и, покачиваясь, плыть над лошадью и бабами с граблями на плечах. Но необъяснимый страх не пускал меня наверх. Это было в первый приезд. А во второй я писала домой:
“Год на год не робит”, как тут говорят, засуха, с сеном совсем плохо, беда. В прошлом году с ног валились от сенокоса, только успевали между дождями ворошить да копны копить, а теперь все наоборот. Наконец разделили проценты сена. Намерили пайки. Сейчас начали возить. Сегодня будем класть большой стог возле двора.
Летний день год кормит. Одновременно с сенокосом надо было думать о том, как согреть дом зимой. С дровами было сложно. Хоть и пели “Шумел сурово брянский лес”, и нарекли эти места партизанским краем, а на заготовку дров надо было получать разрешение – чуть ли не на рубку каждого дерева. Зато торфа было в избытке – не ленись копать! Как торф роют – не видела, зато про сушку знаю все. Уже немного подсохшие брикеты – черные кирпичики с резким специфическим запахом – складывали в невысокие пирамидки определенным образом, как бы в шахматном порядке, чтобы они хорошо продувались ветром. Через неделю-другую их перекладывали, чтобы просушить другие стороны. Это называлось “кольцевать торф”. По времени совпадало это с сенокосом. Главное – дождей бы не было! А ближе к осени торфяные кирпичики складывали в высокие штабеля – кубовали. На самый верх я уже класть не дотягивалась – были они выше моего тогдашнего роста. Ближе к дому под навес перевозили торф после первых морозов…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































