Текст книги "Загадки Петербурга II. Город трех революций"
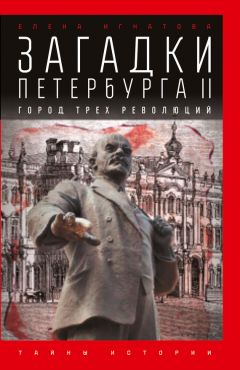
Автор книги: Елена Игнатова
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В конце апреля 1918 года петроградские власти объявили, что хлеба по карточкам выдавать не будут, кончился хлеб! Это вызвало рабочие волнения, но властям удалось «заболтать», обмануть рабочих очередной ложью. Зиновьев говорил на одном из митингов: «Все человечество сейчас голодает… и никакого другого выхода нет отсюда, как свергнуть буржуазию до конца… Если возьмем Швейцарию, богатейшую страну, мы увидим, что и она голодает. Возьмите Финляндию… там ввели в пищу солому, там ее режут и дают рабочим и части крестьян… Если буржуазия Финляндии переводит наших братьев рабочих на солому, то если пойдет худо и у нас, мы переведем в первую очередь на солому крупную буржуазию. (Рукоплескания)». Ладно, если уж Швейцария голодает, а в Финляндии солому грызут, надо и нам потерпеть до победы мировой революции и уничтожения буржуазии… Но через несколько месяцев, в октябре, в Петрограде взбунтовались матросы: Второй гвардейский экипаж вышел на улицы города под лозунгом «Долой советскую власть!» Это напугало большевистских вождей, и в Петроград срочно доставили продовольствие, рабочим выдали хлеб, мешочникам разрешили въезд в город, а умиротворять матросов приехал сам Троцкий. Он не скупился на лесть и обещания и сумел уговорить матросов, а зачинщики выступления по его приказу были расстреляны. Таким образом удалось восстановить спокойствие, и 2 ноября 1918 года передовая статья петроградской «Красной газеты» возвестила горожанам, что они дожили до «золотого века»: «Человечество приближается к своей заветной мечте! Советская Россия указывает путь!»
«Еще три месяца назад, – писал Аркадий Борман о Петрограде ноября 1918 года, – жизнь чувствовалась в северной столице, а теперь уже мерзость запустения. За это время Зиновьев превратил его в кладбище, населенное живыми мертвецами. На лица легла какая-то особая тень… На войне на лицах обреченных есть что-то спокойное, даже скорее светлое. А здесь заживо погребенные». Жизнь в городе угасала, на поверхность выходило все скрытое прежде низменное, жестокое. Грабежами промышляли не только уголовники, но и революционные матросы и солдаты, и ночная встреча с патрулем была так же опасна, как с грабителями, уголовники к тому же часто рядились в матросскую форму. И днем на улицах было скверно. «В воздухе висит матерная ругань, – записал в дневнике Г. А. Князев в 1918 году. – Такой грубости и разнузданности в словах я еще никогда не слышал. Ругаются все… Все злы, как черти. Особенно грубы кондукторы и вагоновожатые. О красногвардейцах у лавок и говорить не стоит». «Удивительный это народ – кондукторши, – размышлял он. – Злы и невежественны. А это ведь все крестьянки, мещанки, сам народ… Что же значат тогда слова Некрасова о русской женщине?»
В городе росло ожесточение, потому что революционная свобода обернулась насилием, а вместо обещанного благоденствия вплотную подступила смерть. Все понимали, что обмануты, и обвиняли друг друга, забывая о собственной вине, а на смену прежнему ослеплению пришла ненависть к тем, кого считали повинными в революции. Горький отозвался на слова Александра Блока о высокой смертности среди петроградских рабочих от сыпного тифа с раздражением: «Ну и черт с ними. Так им и надо. Сволочи!» Бывшая революционерка-народница говорила Г. А. Князеву о голодавших крестьянах: «И пусть погибают. И поделом им. Возмездие. Уж слишком носились с народом». Ожесточение выливалось в ненависть к буржуям, или к пролетариям, или к крестьянам, но чаще всего – к советской власти. «На ком в сущности держатся большевики? – размышлял Г. А. Князев. – На своих наемниках. Ведь только и слышно, как поносят большевиков. В трамваях, на улицах, особенно женщины… И все-таки большевики держатся».
Жизнь европейского города ХХ века словно отбросило в глубины прошлого, в лихолетье иноземного ига, во времена нашествий кочевников – на эту мысль все чаще наводили становившиеся привычными уличные сцены. В октябре 1919 года З. Н. Гиппиус писала в дневнике: «Люди так жалки и страшны. Человек человеку – ворон. С голодными и хищными глазами. Рвут падаль на улице равно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Едут непроницаемые (какие-то нелюди) башкиры и заунывно воют, покачиваясь: средняя Азия». Позже, в предисловии к опубликованному дневнику 1919 года, она писала: «Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают арестованных – захваченных… Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут (а они бегут!), встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть. Чем не монгольское иго?»
Впоследствии власть неохотно вспоминала о роли разноплеменных «интернационалистов» в ее утверждении, но без них картина петроградской жизни была бы неполна. Ко времени революции в крупных промышленных городах России работали десятки тысяч китайцев: с началом германской войны в промышленности не хватало рабочих рук, и число китайских рабочих все увеличивалось. В Гражданскую войну бо́льшая часть их примкнула к большевикам, в Красной армии были китайские полки и отряды, китайцы служили в ВЧК. По свидетельству многих мемуаристов, китайцы выделялись особой дисциплинированностью и жестокостью, в Петрограде о них ходили страшные слухи: «А знаете, что такое „китайское мясо“? Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, „Чрезвычайка“ отдает зверям Зоологического сада… Расстреливают же китайцы… Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе – утаивают и продают под видом телятины», – записала один из городских слухов З. Н. Гиппиус.
О роли латышских частей мы уже говорили, они были образцовыми наемниками: эти солдаты из крестьянских парней в большинстве не знали русского языка и, оказавшись в чуждой среде, крепко связали свои судьбы с новой властью. Большевики высоко ценили их, петроградский комиссар по делам печати Володарский говорил в 1918 году на собрании латышского полка: «Не мне говорить это перед вами, перед которыми мы, русские социалисты и пролетарии, считаем себя в неоплатном долгу. Мы знаем великолепно революционные подвиги, те блестящие доказательства революционной доблести, которые были даны латышскими стрелками… в особенности начиная с Октябрьского восстания народных масс». Историк С. П. Мельгунов писал о них: «Они служат здесь целыми семьями и являются самыми верными адептами нового „коммунистического строя“… Латыши и латышки, зачастую не владея русским языком, ведут иногда допросы, производят обыски, пишут протоколы и т. д. В Москву из Латвии в ВЧК едут как в Америку, на разживу». В Петрограде были еще бо́льшие возможности для поживы, а Володарский рисовал перед ними новые перспективы: «Я от всей души приветствую вас как авангард революционной армии, которой… придется и на улицах Берлина уничтожать власть империалистов, пройтись по всей Европе, побывать и в Париже, и в Лондоне, и во всех больших капиталистических городах, в которых будут властвовать наши товарищи». Собственное будущее оратору представлялось еще более ярким и значительным, но человек, как известно, предполагает, а Бог располагает… Через полтора месяца Володарского убьют, а лет через двадцать после его смерти карательные органы, в которых служили верные латыши, вплотную примутся и за них.
«Творцы и вдохновители революции у нас евреи, а фактические выполнители этих идей – латыши», – записал Г. А. Князев 25 октября 1918 года, в первую годовщину переворота. Но это неверно, «нерусский элемент» был лишь незначительной частью сил, разрушивших старую Россию, а кроме того, такие люди были в меньшинстве и в своих народах. Революционные и социалистические идеи десятилетиями культивировались в образованных классах общества, в среде радикальной интеллигенции, и их воплощение привело страну к катастрофе. Для интеллигентов смириться с этим выводом было труднее, чем с голодом, поэтому понятно их желание найти в послереволюционных переменах хоть что-то позитивное, и представление об этих поисках дают дневниковые записи Г. А. Князева. «Скажу страшный парадокс, – писал он в августе 1918 года. – Большевики все же принесут, пожалуй, России пользу: они научат работать. Мы совсем не умеем работать… Большевики н у ж н ы России… Ведь какая бы там ни была, но в л а с т ь есть… Действительно, кругом кошмар… Но что это – гибель культуры или рождение нового будущего? Ведь действительно кучка людей жила трудом масс. Может быть, и впрямь всех заставят работать… Так и не понимаю ничего. Но не могу проклинать большевиков. И защищать их не могу. Но чувствую, что они нужны… Вот этот хотя бы факт. О новой орфографии. Так никогда и не ввели бы ее, если бы не такие решительные меры. Пусть там жалуются, печалуются. Жизнь требует реформы правописания… И пусть выносят иконы. Это хоть оживит, опоэтизирует умирающую религию. А особенно меня мало трогает, когда туго приходится тем, у кого свои дома, имущество, роскошь… Все зависит от того, „творится ли у нас новое небо, новая земля“ или нет. И будь проклято все творящееся сейчас, если это только дьяволов водевиль, и будь благословенно – и никакие жертвы не страшны – если это рождение жизни новой и более справедливой на нашей грешной земле». Этот монолог мог бы продолжить Поприщин из «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка, пожалей о своем больном дитятке!» Как мучительно желание найти хоть что-то, чему можно сказать «да», а иначе жить невозможно, впору с ума сойти! Через несколько дней Г. А. Князев записал: «Не все сплошная мерзость и попрание всего светлого у наших властителей», а в октябре 1918 года: «Но в большевизм, кажется, начинают верить… Находят уже хорошие стороны. Свыкаются с мыслью, что большевики так и останутся у власти».
Такие суждения были характерны для либеральной интеллигенции, которая долго ждала революции и теперь пыталась примирить действительность со своими идеалами: конечно, сейчас творится много несправедливого и страшного, но при рождении нового мира жертвы неизбежны, а кроме того, культурные реформы новой власти (например, реформа правописания) внушают надежды на светлое будущее, в котором все научатся работать! Романтическая жажда настоящей работы для общего блага и мечта о «сотворении нового неба и новой земли» были почерпнуты из учений европейских социалистов-утопистов, и хотя до революции интеллигенция честно трудилась, этот обыденный, рутинный труд не имел, по ее убеждению, ничего общего с настоящим трудом[8]8
«Тоска по труде, о боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни», – говорит герой пьесы Чехова «Три сестры», поручик Тузенбах. Очевидно, нелегкая армейская служба не считалась настоящим трудом.
[Закрыть], который будет возможен лишь в обновленном революцией мире. Георгий Алексеевич Князев (1887–1969) разделял заблуждения своих современников, но история его жизни свидетельствует, что в характере интеллигентов этого склада была и непоказная твердость, и верность профессиональному и нравственному долгу. Слабость здоровья и хромота определили его роль не участника, а лишь свидетеля происходящих событий, а профессия историка-архивиста давала возможность заниматься прошлым, не слишком вглядываясь в настоящее. Однако молодой сотрудник Архива Морского министерства с 1915 года начал писать хронику современной жизни России: в его дневнике газетные выписки с сообщениями о важных государственных и общественных событиях перемежались личными наблюдениями, а записи бытовых эпизодов – размышлениями и анализом происходившего, поэтому его дневник 1915–1922 годов стал уникальным свидетельством о жизни Петрограда тех лет.
После революции Князев продолжал работать в Морском архиве, а с 1929 года он занял должность заведующего Архивом Академии наук СССР, где проработал несколько десятилетий. Его жизнь казалась достаточно спокойной, и только самые близкие люди знали об опасности, грозившей скромному архивисту: в 1922 году он передал копию своего дневника американскому профессору Ф. Голдеру, и она хранилась в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете. Публикация или просто упоминание об этом документе погубили бы его автора, и Князев тревожился об этом всю жизнь, однако не уничтожил подлинник дневника. Война и блокада застали его в Ленинграде, и он снова стал вести дневник – хронику жизни осажденного города, но этот правдивый документ тоже пришлось скрывать до лучших времен. У этого слабого на вид человека хватило мужества тайно создавать летопись страшных времен, хотя бо́льшая часть его жизни пришлась на период фальсификации истории и казенной лжи. Такая непоказная многолетняя твердость и верность долгу сродни подлинному героизму.
В первые месяцы военного коммунизма, по свидетельству Г. А. Князева, многие горожане относились к новому режиму как к кратковременному бедствию, которое надо перетерпеть: «Есть и такая теперь идеология: „Мы Россию не раскачивали, мы неповинны… И поэтому мы спокойны, и наш единственный лозунг – изжить скорее до конца эту мерзость. А теперь, чтобы изжить, надо укреплять как можно больше свой организм питанием“. И едят, и спокойны, и ждут, „когда мерзость будет изжита“». Но черная полоса не кончалась, жизнь становилась все страшнее, и скоро выжидание и негодование сменились тупым равнодушием, а немыслимое стало привычным: среди бела дня матросы волокли кого-то на невский лед и расстреливали, а прохожие лишь ускоряли шаг и отводили взгляд. С таким же равнодушием в Петрограде приняли весть об убийстве царской семьи; скука, отупение, предсмертное томление – так определяла свое состояние З. Н. Гиппиус. В январе 1918 года Блок еще писал в статье «Интеллигенция и революция»: «Дело художника, о б я з а н н о с т ь художника… слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“», – «музыку революции», но постепенно и его охватывало оцепенение. В марте 1921 года К. И. Чуковский записал в дневнике: «Блок, оказывается, ничего не знал о кронштадтских событиях (восстании в Кронштадте. – Е. И.) – узнал все сразу и захотел спать. „Я всегда хочу спать, когда события. Клонит в сон“… Добужинский тоже говорит: – Я ничего не чувствую…»
Александр Блок писал поэму «Двенадцать» в январе 1918 года. Ветер, метель, ледяное безлюдье – таким предстает в ней Петроград. В снежном мареве еще виден измятый плакат «Вся власть Учредительному Собранию!», в метели на миг появляются и исчезают человеческие фигуры. Присмотримся к этим несчастным теням 1918 года. Они и впрямь несчастны: плачет старушка, барыня падает со словами «Ужь мы плакали, плакали»; куда-то опасливо спешит священник; мерзнет на перекрестке буржуй, к нему жмется голодный пес. Что выгнало на улицу буржуя в ночной час? Возможно, он на дежурстве. При старом режиме у домов дежурили дворники, а теперь все равны, и жильцы должны нести дежурство по очереди. Александр Блок тоже не избежал этой повинности; 9 января 1918 года он записал, что закончил статью «Интеллигенция и революция», а «завтра – проклятое дежурство (буржуев стеречь)». Иногда дежурства удавалось избежать, но такое случалось редко, и ночами Александр Блок стоял у дома на ледяном ветру, упрятав нос в воротник, как буржуй из его поэмы «Двенадцать». «Буржуй, – заметил Г. А. Князев, – это глупое слово – в просторечии употребляется сейчас ко всем, кто чисто одет или чисто живет». В 1918 году в ходу были хлесткие ленинские лозунги: «Смерть буржуям!», «Кулаком в морду, коленом в грудь!», с буржуями дозволялось делать все: выбрасывать их из квартир, грабить, гнать на каторжную работу, а еще лучше – убивать. «Стоит буржуй, как пес голодный, / Стоит безмолвный, как вопрос». Но власть уже решила вопрос, как распорядиться его жизнью.
«Что нынче невеселый, / Товарищ поп?» О церковной жизни в городе разговор впереди, а пока отметим, что во времена военного коммунизма в каждой волне «красного террора» погибали священники. В августе 1918 года, после убийства председателя петроградского ЧК М. С. Урицкого, в городе начались массовые аресты, людей отбирали по спискам домовых книг, где указывалась сословная принадлежность жильцов. Арестованные – аристократы, чиновники, студенты, офицеры, священники – предназначались для уничтожения в отместку за его смерть. «Один из приходивших (для ареста. – Е. И.), – записал Г. А. Князев, – безусый мальчишка, особенно интересовался, „нет ли в доме батюшек, знаете, этих батюшек“». Среди расстрелянных в то время был известный в России религиозный деятель, настоятель Казанского собора протоиерей Философ Орнатский.
Горесть старушки при виде плаката: «Такой огромный лоскут… / Сколько бы вышло портянок для ребят, / А всякий – раздет, разут…» – тоже примета времен военного коммунизма. В октябре 1918 года Г. А. Князев записал, что петроградцев возмущали пышные приготовления к празднованию первой годовщины Октября: «Целые куски красной материи… полотнища закручиваются на столбы… Скоро без штанов и рубашек ходить будем, а тут целыми кусками материи столбы заворачивают. Все разваливается, не ремонтируется, а тут целые леса бревен, сотни пудов гвоздей, веревок… и самое бесценное – холста и разной материи». На большевистских складах была мануфактура, гвозди и прочие необходимые вещи, а в других местах их днем с огнем не сыскать, хотя гвозди иногда попадались, но при странных обстоятельствах. «В гречневой крупе (достаем иногда на рынке – 300 р. фунт), в каше-размазне – гвозди, – писала в дневнике 1919 года З. Н. Гиппиус. – Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изо рта мы их продолжаем вынимать… Верно, для тяжести прибавляют. Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло – не могу угадать».
«Только нищий пес голодный / Ковыляет позади…» Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала: «Петербург в начале революции был полон бродячих собак самых чудных кровей. Хозяева, удирая за границу, повыгоняли их прочь. Однажды Шилейко, муж Ахматовой, подобрал на улице сенбернара, больного, голодного и несчастного. И Тапка, безукоризненно воспитанный и благородный, долгие годы жил у Ахматовой». К 1920 году бродячих собак, безродных и с родословными, в городе почти не стало – их съели, так что сенбернару Тапке повезло. О печальной участи одного из его сородичей писал поэт Василий Князев: «В дворницкой дома № 4 живет семья… Эти люди в течение января – февраля [1919 года] съели 25 собак и 13 кошек. Однажды им удалось заманить к себе отощавшего, но все-таки сильного еще сенбернара. Когда они стали „резать“ его, он вырвался и начал клыками отстаивать свое право на жизнь… его повалили, оглушили ударом лома по черепу и зарезали. Это тот сенбернар, что часами простаивал в человеческих хлебных очередях и потом, дойдя до двери, отходил в сторону и по-человечески говорящими глазами вымаливал себе крохи и крошки».
«Снег крутит, лихач кричит, / Ванька с Катькою летит – / Елекстрический фонарик / На оглобельках…» Петроград военного коммунизма на первый взгляд напоминал блокадный Ленинград – нищий, умирающий город. Но это сравнение неверно потому, что до революции Петроград был одним из богатейших городов Европы, и для тех, кто подхватил ленинский лозунг «Грабь награбленное!», настали золотые деньки. Теперь лихачи были по карману не купчикам и офицерской молодежи, а солдату Ваньке, и в Катьке не классовое чувство проснулось, она просто сменила клиентуру: «С юнкерьем гулять ходила – / С солдатьем теперь пошла?» Где они теперь, юнкера? Кого не убили, те прячутся по домам или пробираются на юг, в Добровольческую армию, а Питер нынче матросский да солдатский. И жить в нем можно превесело. «В трамваях, – записал в марте 1918 года Г. А. Князев, – между другими объявлениями, мне бросилось в глаза одно: „Развеселая танцулька“. Устраивает какой-то любимец публики дядя Коля… Сегодня опять объявление: „Грандиозный бал-маскарад“, устроитель Саша Верман. 6 призов. Один за костюм, другой за танцы, третий за лысину, четвертый за дамскую ножку. Господи, прости меня…» Объявления о балах обещали чудные вещи: «Роскошные призы царице бала и за характерные танцы. Комната свиданий. Карамели для мамзели! Орехи для потехи!» Кто же веселился на этих балах? Конечно, победивший класс, а оплачивала его развлечения побежденная буржуазия. Сразу после переворота в городе появилось множество советов, комитетов, и все они занимались обысками квартир буржуазии, отбирая награбленное в свою пользу. В. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал сцену в Василеостровском совете рабочих и солдатских депутатов: «В комнату, где я ждал, вошла группа матросов с тяжелым мешком. Они его раскрыли, вынимая оттуда серебряные и золотые предметы, спрашивали объяснений у какого-то… интеллигентного по виду молодого человека, видимо владельца этих предметов… Затем они его отпустили и стали распределять по группам всю эту груду предметов, причем очень сильно между собой спорили, ссорились и бранились». Впрочем, власть скоро навела порядок в этом промысле, и изъятое при обысках стало поступать на специальные склады. Обыски бывали общие (когда изымали все ценное) и «тематические»: например, для нужд Красной армии реквизировали то одеяла и подушки, то обувь и одежду, то скатерти и портьеры. Собранная таким образом экипировка красноармейцев бывала экстравагантной – так, летом 1918 года Г. А. Князев встретил на улице взвод солдат, маршировавших в сшитых из портьер красных плюшевых штанах.
Петроградское лето 1918 года началось тревожно: 20 июня 1918 года был убит городской комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский. Что мы знаем об этом человеке?
Вот наш вождь – великан,
Пролетарский титан,
Мировой бедноты предводитель;
Вот – весь пламя и гнев,
Красной армии Лев,
Многотысячных орд победитель.
(В. Князев. «Володарский»)
Погибшего называли красным Мирабо, сравнивая его со знаменитым оратором Великой французской революции; сравнение со львом заимствовано из той же эпохи – «львиная грива Мирабо», «львиный рык» его речей – большевистским вождям импонировало сравнение с могучим зверем. Троцкий вспоминал, что в день переворота Ленин, как лев, метался по комнате в Смольном; с львом сравнивали председателя ПЧК Урицкого, а Троцкий получил имя Лев с рождения. Однако погибший комиссар Володарский не походил ни на льва, ни на Мирабо. Жизнь «пролетарского титана» до его появления в 1917 году в Петрограде ничем не примечательна: Моисей Маркович Гольдштейн родился в 1891 году в местечке Острополь на Западной Украине, русский язык стал осваивать лишь в двенадцать лет, а в 1913 году эмигрировал в США, где работал портным на швейной фабрике. Но честолюбивый юноша не собирался ограничиться портняжным ремеслом, еще в России он вступил в Бунд[9]9
Бунд – социалистическая партия «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России».
[Закрыть], затем примкнул к меньшевикам, а в Америке стал профсоюзным активистом и корреспондентом социал-демократической газеты «Новый мир».
Весть о революции в России открывала перед 26-летним честолюбцем новые перспективы, и в мае 1917 года он прибыл в Петроград, вступил в ВКП(б), а в ноябре был назначен комиссаром по делам печати, пропаганды и агитации. Его стремительная карьера отчасти объяснялась тем, что вернувшиеся из эмиграции вожди предпочитали доверять ответственные посты таким же бывшим эмигрантам. Жизнь Володарского сказочно изменилась: он занимал апартаменты в гостинице «Астория», ездил в автомобиле из императорского гаража, основал в Петрограде «Красную газету» и стал ее главным редактором. «Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком… И вдруг все свалилось сразу: власть… не стесненная ни законами, ни формами суда – ничем, кроме „революционной совести“», – заметил писатель Марк Алданов о другом петроградском деятеле – Урицком, но эти слова в полной мере относятся и к Володарскому. В мае 1918 года по его распоряжению было запрещено издание нескольких петроградских газет и устроены суды над этими «буржуазными» изданиями, где Володарский выступал в роли обвинителя. Он обвинял их в «распространении ложных слухов, которые сеют панику и смуту», однако газеты писали правду, сообщая, например, о рабочих волнениях в городе. «7–8 мая, – говорил Володарский, – были чрезвычайно острыми днями у нас в коммуне: хлеба не было, на заводах происходили волнения. 9-го мая я с Зиновьевым провел целый день на Путиловском заводе, где обсуждал в присутствии 10 тысяч человек коммунальные вопросы». Тогда в чем же повинны запрещенные газеты? А в том, что писали о неприятных вещах, нервировали власть: «Эти слухи так нас измучили, мы так изнервничались, что мы их больше не хотим… Когда жизнь каждую минуту хлещет нас по нервам, красть спокойствие, подкладывать поленья в костер, на котором мы уже достаточно жаримся, не позволено». Какое простодушное признание! Речи Володарского были выдержаны в тоне грозной снисходительности: «Один новожизненец (сотрудник газеты „Новая жизнь“. – Е. И.) написал (я бы взял и вырезал эти слова у него на лбу): „Какой же это социализм, когда на рабочих есть вши?“»; на суде над газетой «Новый вечерний час» он говорил о ее редакторе: «Я имел перед собой старого радикала-демократа, который 36 лет работает в печати… И раз мы имеем дело с определенной литературной программой, с людьми, у которых заслуженная физиономия… вы (судьи. – Е. И.) скажете им: „Издавать газету в нашей трудовой республике вам не может быть разрешено“». Радуйся, заслуженная физиономия, что легко отделалась, ведь редактора другой газеты арестовали прямо в зале суда.
Комиссар по делам печати явственно напоминал Хлестакова – в его упоении властью была та же бесконечно расширяющаяся, не встречающая преград пустота. Володарский не забывал и о собственной апологии: «Я прожил три с половиною года в Соединенных Штатах; в качестве газетного работника я каждый день следил за деятельностью президента Вильсона, и я могу вас уверить, что это самый умный капиталистический разбойник из всех, когда-либо существовавших на земле… И этот разбойник… должен посылать нам телеграммы с выражением приветствия и предложением своих услуг» (в этом «нам» так и звучит ликующее – «мне, мне!» Президент и бывший эмигрант-портной даже не на равных, Вильсон вынужден заискивать). И это только начало, потому что скоро Володарский и его товарищи возглавят мировую революцию: «Нам, революционерам, абсолютно нечего терять, но завоевать мы можем весь мир». А коли им суждено погибнуть, то героически, как парижским коммунарам: «Быть может, нам не суждено победить. Те из вас, кто останется в живых, увидят, какую дикую свистопляску поднимут эти господа на трупах наших, какие страшные преступления будут нам приписывать… Тогда настанет ваше время, вы сможете отплясывать ваш дикий канкан!» Какой канкан, почему канкан? Кто его будет отплясывать – перепуганные редакторы, которые оказались на скамье подсудимых? Канкан упомянут для красоты – так, по его представлению, буржуазия Парижа праздновала разгром коммуны. Но голодающему Петрограду было не до плясок.
Володарский был даровитым агитатором, он умел облекать большевистские идеи в самые примитивные формы, и в таком виде они усваивались лучше всего. Взгляните на стихи Князева о Володарском: «пролетарский титан», «многотысячные орды» – так закручено, что не каждый поймет, а в речах Володарского все предельно ясно. В апреле 1918 года он напутствовал будущих агитаторов: «Товарищи! Я должен читать вам о текущем моменте и о внешнем положении России. Уже больше года, как мы все читаем о текущем моменте. Каждую почти неделю, каждые две недели мне лично и многим другим приходится читать о текущем моменте…» Нет, он, конечно, не Мирабо, но время не нуждалось в велеречивых ораторах, оно захлебывалось ленинскими угрозами, и в звенящем, металлическом голосе Володарского был этот напряженный, угрожающий звук. Его наставления агитаторам были просты: «Когда вам придется встретиться с вашими противниками, вас постараются сбить на одном пункте: большевики сначала гнали офицеров и генералов… а теперь берут этих самых генералов (в Красную армию. – Е. И.). Мы брали генералов, берем их и будем брать, но не так, как это делали наши противники. Мы ничего им не оставляем, мы лишаем всего – и погон, и звездочек, и столовых, и приборных, и жалованья – и выбрасываем на улицу без всякого сожаления… Когда Троцкий принимал генералов, он им сказал: „Мы не можем ручаться за то, что вас не расстреляют по ошибке, но мы ручаемся, что за дело вас непременно расстреляют“». Так же доступно он разъяснял суть советской внешней политики: «Основа нашей политики – это лавировать между двумя империалистами… заключив сегодня с одним мирный договор, завтра взяв у другого бронированные поезда, пулеметы, пушки, через три дня порвав и с теми, и с другими… Помни, что империалисты суть империалисты, помни, что они хотят тебя ограбить, и помни, что в силу того, что они друг с другом не могут помириться, ты, быть может, сумеешь стать в такое положение, когда тебе удастся ограбить их обоих». Ничего не скажешь, ловко придумано! В речах Володарского встречаются отличные ораторские находки, например, такая: «Ум у меня холодный, но сердце, товарищ, горячее»; в напутствии агитаторам он повторил это почти дословно: «Каждый революционер должен иметь не только горячее сердце, но и холодный, стальной рассудок». После его смерти этот афоризм по наследству перешел к Дзержинскому, говорившему о холодном уме, горячем сердце и чистых руках чекиста.
Володарский агитировал, разъяснял, угрожал, не чувствуя приближения гибели, и не такой, как ему представлялось, не героически-эффектной; место его смерти напоминало не шикарный Париж, а скорее его родной Острополь: городская окраина, огороды, заборы, грязь. 20 июня 1918 года он ехал за Невскую заставу, выступать на митинге Обуховского завода, но по пути кончился бензин, и автомобиль остановился. Володарский вышел из машины, в это время к нему приблизился рабочий Сергеев и дважды выстрелил почти в упор. «Совершив свое кровавое дело, он бросился бежать в ближайший переулок, перескочил через забор в огород, бросил там бомбу, опять перескочил через забор и скрылся на кладбище, все время отстреливаясь», – писал Василий Князев. Убийце, члену партии правых эсеров Сергееву, удалось скрыться, а Володарского похоронили на Марсовом поле, под гром ружейного салюта. На похороны собралось много народа, в толпе были лозунги: «Вы убиваете личность, мы убиваем классы!», и, по мнению Ленина, смерть Володарского была отличным поводом для «убийства классов». 26 июня он телеграфировал Зиновьеву: «Мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы грозим… массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную». Вождь выдавал желаемое за действительное, не питерские рабочие, а он сам стремился развязать в Петрограде массовый террор, однако пришлось подождать еще два месяца, до следующего политического убийства.









































