Текст книги "Загадки Петербурга II. Город трех революций"
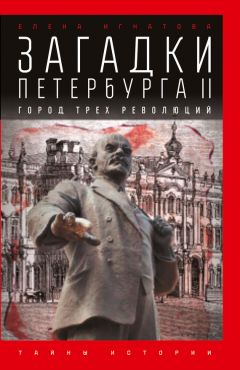
Автор книги: Елена Игнатова
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Что же произошло за это время? Угрозы гражданской войны страшились все, поэтому 31 октября в Смольный явилось несколько делегаций с требованием немедленно начать переговоры о перемирии. Положение большевиков было критическим, ведь стало известно, что в Гатчину вызвано подкрепление с фронта, а полки петроградского гарнизона больше не желали сражаться. Но в то же самое время началось брожение в отряде Краснова: после вчерашнего боя здесь ждали наступления большевистских войск, и казаки, не дожидаясь подмоги с фронта, потребовали от Краснова начать переговоры о перемирии. Утром в Гатчинском дворце состоялся военный совет с участием Керенского, офицеров штаба Краснова, представителей Комитета Спасения Родины и Революции, а также Совета казачьих войск; позже Керенский вспоминал, что «все военные, без исключения, были единодушны: для выигрыша времени нужно сейчас начать переговоры – иначе нельзя ручаться за спокойствие казаков». Предложение о начале мирных переговоров было отправлено в Петроград, и это стало такой неожиданностью для большевиков, что они, по свидетельству Г. Е. Зиновьева, заподозрили «военную хитрость со стороны наших врагов». Действительно, в штабе Краснова рассчитывали таким образом выиграть время до подхода подкрепления, а у Керенского была своя «военная хитрость» – еще до военного совета для него тайно приготовили автомобиль на случай бегства, потому что прошел слух о намерении казаков выдать его большевикам.
Однако судьба революционной демократии решалась не на военном совете, а на собрании солдатских комитетов корпуса, где Краснова попросили составить текст мирного соглашения, потому что для казаков что Керенский, что Ленин – одна петрушка, а надо возвращаться на Дон, где, говорят, собирает отряды атаман Каледин. Вечером 31 октября казачья делегация выехала для мирных переговоров в Царское Село; замечательно, что в это же время и с той же целью в Царское прибыла делегация Петроградского военно-революционного комитета, отправленная по настоянию полков гарнизона. Обе стороны собирались договариваться о мире, но если в гатчинской делегации были младший офицер и два казака, то петроградскую возглавил член ПВРК матрос П. Е. Дыбенко. Парламентеры протолковали всю ночь; казаки говорили, что, если большевики вздумают наступать на Гатчину, они и примкнувшие к ним добровольцы будут стоять насмерть, а Дыбенко заверял их, что в Петрограде хотят только мира. Казаки хотели вернуться на Дон с оружием, артиллерией и лошадьми, и Дыбенко обещал, что их отправят туда специальными эшелонами. У матроса тоже были пожелания, и главное из них – «передать Керенского в распоряжение революционного комитета для предания гласному суду». Казаки обещали подумать, и ранним утром 1 ноября обе делегации приехали в Гатчину. К этому времени ни Керенского, ни ряда других участников военного совета здесь уже не было, верховный главнокомандующий тайно уехал накануне днем, переодевшись в матросскую форму. В Гатчинском дворце остались офицеры корпуса Краснова, они ждали решения войскового комитета, потому что, по предложению Дыбенко «обойтись без генералов», их на переговоры не допустили.
Собрание войскового комитета продолжалось шесть часов, и наконец, после шумных споров и взаимных уступок договор о мире был составлен. Дыбенко вспоминал, что он намеренно тянул время: «Нужно, с одной стороны, выиграть время до подхода отряда моряков, чтобы Гатчину захватить врасплох, с другой – без промедления, до прибытия ударников, захватить Керенского». С Керенским дело сорвалось, зато остальное вышло как нельзя лучше: едва переговоры завершились, к гатчинской заставе подошел Финляндский полк под белым флагом, но в боевом порядке и с артиллерией. Делегаты большевиков заявили, что им надо сообщить о заключенном мире в Смольный, и немедленно уехали в Петроград, а казаки почти сразу поняли, что они обмануты. Вечером Краснов сообщал в штаб Северного фронта: «Настроение очень тревожное… Отношения с большевицкими войсками полны взаимного недоверия. Мы ими окружены и стоим под охраной двойных караулов – наших и их… Сейчас солдаты обезоруживают казаков». Краснова и его офицеров арестовали и увезли для допросов в Петроград, но вскоре освободили. А в то время как в Гатчине разоружали и арестовывали, вызванное подкрепление с фронта уже прибыло в Псков; по донесению в ставку, там 1 ноября «с часу дня прошли первые эшелоны 3-й Финляндской дивизии и 35-й из 17 корпуса». К вечеру в Псков прибыл ударный батальон, ему пришлось задержаться, чтобы разогнать местный ВРК, но «батальон объявил, что он это поручение исполнит, прося, по возможности, отпустить их в Гатчину 2 ноября ночью». Однако помощь, как известно, запоздала.
В первые недели после переворота политическая жизнь Петрограда представляла странную картину разброда, в котором различные интересы и силы как бы нейтрализовали друг друга, и в этом хаотическом движении разнородных частиц существовало одно твердое ядро – большевистская партия и ее вожди. Их фанатическая решимость и воля притягивали многих. Сразу после переворота в столице стали появляться латышские стрелки, которые дезертировали с фронта, они пробирались в Петроград группами и поодиночке, и вскоре отряды латышей, а не матросы станут главной опорой большевиков. Зато идущие с фронта воинские части при приближении к Петрограду словно попадали в полосу мертвой зыби, эшелоны «растянулись по линии железной дороги от Могилева до Луги, застряв частями по промежуточным станциям». Первый батальон ударников прибыл в Лугу и направил делегацию в Смольный с заявлением, что войска вот-вот войдут в столицу и ликвидируют Военно-революционный комитет, однако после переговоров делегаты вернулись в Лугу «с целью убедить свои части ехать на позиции»!
В эти дни Ленин и его окружение раздавали самые невыполнимые обещания, лгали, маневрировали, или, по словам Троцкого, «импровизировали», – первых делегатов из Луги убедили не начинать братоубийственную бойню, а другую делегацию, возмущенную призывом «братания» с немцами, заверили, что теперь большевики за войну до победного конца. Одновременно в стоявшие на подступах к Петрограду войска были направлены агитаторы. В Луге их едва не прибили, но постепенно, по свидетельству историка С. П. Мельгунова, «агитаторы сделали свое дело и направили застрявших стрелков на грабежи в имениях». Власть большевиков смогла удержаться лишь благодаря разложению армии, над которым после Февральской революции много потрудились их предшественники из либералов и демократов. Достаточно вспомнить изданный 2 марта 1917 года ЦИК Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов «Приказ № 1», передававший власть в армейских частях «выборным комитетам представителей от нижних чинов», причем «всякого рода оружие должно находиться в распоряжении этих комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам». Такие постановления были направлены на разложение и фактическую ликвидацию армии, и большевики лишь воспользовались их плодами.
Между тем влиятельные левые партии были заняты поиском компромисса с переворотчиками. «Переговоры, – писал С. П. Мельгунов, – интересовали лидеров господствующих партий революционной демократии гораздо больше, нежели непосредственная ближайшая судьба отряда Керенского. При переговорах они чувствовали себя в привычной сфере политического торга, под знаменем которого проходила их практическая деятельность в эпоху Временного правительства. Вооруженная борьба с большевиками в их сознании, в сущности, была уже перевернутой страницей». Эта, по циничному выражению Ленина, «болтовня и каша» завершилась 14 ноября соглашением большевиков с левыми эсерами, а еще через три дня – соглашением с меньшевиками о союзе и создании общего правительства. Соглашения 14 и 17 ноября стали решающей политической победой большевиков, потому что таким образом их власть получила влиятельных союзников и приобретала видимость законности. Этот союз не продержался и года, а «в 1919 году была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК – и досидела в Бутырках до своего процесса в 1922». В том же 1919-м видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Мы их сажаем в укромное местечко, в Бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом», – читаем в первой книге «Архипелага Гулаг» А. И. Солженицына. Юная большевистская власть разобралась с бывшими союзниками, не дожидаясь окончания борьбы труда с капиталом.
Завершающим эпизодом политической драмы 1917 года стала судьба Учредительного собрания, или Всероссийского парламента, – многолетней мечты российских революционеров-либералов. Созданное после Февральской революции Временное правительство потому и называлось временным, что управляло страной до начала работы Учредительного собрания, которому предстояло определить новое государственное устройство. Большевики до захвата власти обвиняли Временное правительство в том, что оно намеренно откладывает созыв Учредительного собрания, и сразу после переворота газета «Правда» писала: «Товарищи, вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли русской – Всероссийского Учредительного собрания!» После переворота большевики оказались в трудном положении, ведь их власть могла быть признана законной только по решению Учредительного собрания, а на это рассчитывать не приходилось.
Сразу после переворота Ленин заговорил о недопустимости созыва «Учредилки», но пока только в кругу соратников, потому что говорить об этом открыто значило объявить войну всей стране. Между тем приближался установленный Временным правительством срок созыва Учредительного собрания – 28 ноября 1917 года, перед этим в стране прошли выборы, которые подтвердили опасения Ленина. Наибольшее число голосов избирателей собрали эсеры (68,3 %); за большевиков проголосовало 24 % избирателей, а среди других партий лидировали конституционные демократы (кадеты) – самая влиятельная несоциалистическая партия в стране. На такой парламент нельзя было положиться, поэтому большевики приняли ряд мер: они объявили, что созыв Учредительного собрания переносится на более поздний срок, потому что не все депутаты успеют собраться в Петрограде, и в те же дни вышел ленинский декрет «Об аресте вождей гражданской войны против революции», объявивший партию кадетов вне закона как партию «врагов народа».
Представители других партий были возмущены не этим беззаконием, а тем, что большевики осмелились изменить дату созыва Учредительного собрания, и 28 ноября депутаты собрались в Таврическом дворце. Их было всего 45 человек (большинство действительно не успело приехать в Петроград), но они хотели показать, что Всероссийский парламент, «хозяин земли русской», не подчинился произволу. Депутаты начали заседание, а у Таврического собрались их сторонники. К вечеру многотысячная толпа с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию!» заполонила прилегающие к дворцу улицы, потому что сам Таврический был в оцеплении присланных Смольным латышских стрелков. На следующий день оцепление у Таврического дворца стало плотнее, к латышам присоединились отряды матросов, а на третий день они не пропустили депутатов во дворец.
Созыв Учредительного собрания откладывался – на декабрь… на январь… наконец была названа дата – 5 января 1918 года. Все это время из Смольного лились потоки клеветы и угроз, Ленин объявил, что лозунг «Вся власть Учредительному собранию» на деле есть лозунг контрреволюции – кадетов, калединцев и их пособников. За годы борьбы с «проклятым царизмом» приверженцы демократии привыкли к словесным баталиям и демонстрациям, за 1917 год – к политическим маневрам и комбинациям, но они оказались беспомощными перед циничной подлостью «игры без правил». Однако у социалистов-революционеров был старый, проверенный метод террора, и входивший в Военную комиссию Союза защиты Учредительного собрания эсер Ф. М. Онипко начал готовить покушение на Ленина. «С помощью других опытных конспираторов, – писал историк Ричард Пайпс, – Онипко удалось проникнуть в Смольный и ввести туда четырех своих людей под видом чиновников и шоферов. Наблюдая за передвижениями Ленина, они обнаружили, что председатель Совнаркома почти ежедневно покидает Смольный, навещая свою сестру. Сделав это открытие, группа устроила своего человека швейцаром в доме, куда приезжал Ленин. Онипко планировал захватить или убить Ленина, а затем Троцкого. Проведение операции назначено было на Рождество». Когда все было готово, Онипко обратился за одобрением в ЦК своей партии, но вождей эсеров словно подменили – они с ужасом отвергли этот план: убить Ленина и Троцкого значило сыграть на руку контрреволюции! Онипко распустил боевую группу и включился в работу Военной комиссии, которая готовила на 5 января вооруженную демонстрацию с целью свержения большевиков. В вооруженной демонстрации согласилось участвовать более 10 тысяч солдат и несколько тысяч рабочих, но руководство Союза защиты Учредительного собрания воспротивилось: никакой вооруженной демонстрации, только мирное шествие! Солдаты гарнизона отказались участвовать в этом шествии, ведь только слепой не видел военных приготовлений Смольного. Большевистский нарком по морским делам П. Е. Дыбенко получил приказ вызвать в Петроград еще несколько тысяч матросов, срочно формировались отряды красногвардейцев, а 4 января в городе было введено военное положение. Войскам гарнизона было приказано оставаться в казармах, рабочим – не покидать заводов, демонстрации и митинги запрещались, а любые скопления граждан возле Таврического дворца, сообщала газета «Правда», будут разогнаны с применением оружия.
Утром 5 января депутаты Учредительного собрания направились к Таврическому дворцу. «В начале двенадцатого выступили, – вспоминал один из депутатов, эсер Марк Вишняк. – Идут растянутой колонной, человек в двести, посреди улицы. До дворца не больше версты. И чем ближе к нему, тем реже прохожие, тем чаще – солдаты, красноармейцы, матросы. Они вооружены до зубов: за спиной винтовка, на груди и по бокам ручные бомбы, гранаты, револьверы и патроны, патроны без конца, всюду, где только можно их прицепить или всунуть. На тротуарах одинокие прохожие при встрече с необычайной процессией останавливаются, изредка приветствуют восклицаниями, а чаще, сочувственно проводив глазами, спешат пройти дальше… Перед фасадом Таврического вся площадка уставлена пушками, пулеметами, походными кухнями… Пропускают в левую дверь… Повсюду вооруженные люди. Больше всего матросов и латышей». Во дворце тоже было полно солдат, они толпились возле буфетов, где продавали водку. Депутаты прошли в зал и стали ждать начала собрания. А в центре города, несмотря на запрет, все-таки собралась демонстрация, в которой, по некоторым сведениям, участвовало около 50 тысяч человек! Мирное шествие подходило к Литейному проспекту, когда с крыш домов был открыт пулеметный огонь. Упали первые раненые и убитые, остальные бросились врассыпную, но вскоре снова собрались, и колонна двинулась по Литейному. Здесь тоже стреляли с крыш, а на Шпалерной улице демонстрантов встретили матросские приклады… Погибших в тот день хоронили 9 января на Преображенском кладбище, рядом с жертвами Кровавого воскресенья 1905 года. В те дни А. М. Горький писал, обращаясь к большевистским вождям: «Понимают ли они… что неизбежно удавят всю русскую демократию, погубят все завоевания революции?.. Или они думают так: или мы – власть, или – пускай все и всё погибают?» Горькому лучше других было известно, что именно так они и думали.
Депутаты несколько часов томились в зале, они не знали, что происходило в городе; в четыре часа дня Ленину сообщили, что демонстрация разогнана, и фракция большевиков появилась в зале. Теперь эти люди чувствовали себя хозяевами положения и доказали это с первых минут. Первое заседание Учредительного собрания должен был открыть его старейший депутат А. Ф. Михайлов. Депутат фракции большевиков Ф. Ф. Раскольников вспоминал, что́ за этим последовало: «Видя, что Швецов (Раскольников неверно называет фамилию. – Е. И.) всерьез собирается открыть заседание, мы начинаем бешеную обструкцию. Мы кричим, свистим, топаем ногами, стучим кулаками по деревянным пюпитрам. Когда все это не помогает, мы вскакиваем со своих мест и с криком „долой“ кидаемся к трибуне. Правые эсеры бросаются в защиту старейшего. На паркетных ступеньках трибуны происходит легкая рукопашная схватка… Кто-то из наших хватает Швецова за рукав и пытается стащить с трибуны». Представьте: орущие, свистящие молодцы вроде Раскольникова стаскивали старика с трибуны, а Свердлов вырвал у него из рук председательский колокольчик. Свердлову не дали говорить, из зала кричали: «Долой! Убийцы! Руки в крови!» – и тогда он запел! Он старательно выводил «Интернационал», первыми подхватили большевики, а за ними, вспоминал Раскольников, «все члены Учредительного собрания тоже встают… и один за другим нестройно подхватывают пение… „Но если гром великий грянет над сворой псов и палачей“, – поет Учредительное собрание». Эсер В. М. Чернов показывает при этом на большевиков, но поют все, дружно поют! Как представишь этот хор, делается не по себе. Спели – и на том единение Всероссийского парламента кончилось.
Подготовленный большевиками план был прост и нагл: Ленин составил резолюцию, предлагавшую Учредительному собранию утвердить все декреты Совнаркома, а затем добровольно отказаться от законодательной власти. Конечно, это предложение отклонили, и около 10 часов вечера большевистская фракция покинула зал. По свидетельству Раскольникова, «Владимир Ильич предложил не разгонять собрания, дать ему возможность сегодня ночью выболтаться до конца и свободно разойтись по домам, но завтра утром никого не пускать в Таврический дворец». Депутаты продолжали заседание, несмотря на угрозы пьяной охраны; вот, вспоминал Раскольников, «кто-то из караула берет винтовку на изготовку и прицеливается в лысого Минора, сидящего на правых скамьях». Пьяные солдаты толпились на балконе, бродили по залу, рассаживалась на депутатских местах, и за всем этим следил «веселый и радостный, весь опоясанный пулеметными лентами начальник караула Железняков». Так продолжалось несколько часов. «Около четырех утра, – писал Пайпс, – когда председатель Учредительного собрания Виктор Чернов провозглашал отмену собственности на землю, Железняков поднялся на сцену и тронул оратора за плечо». В протоколе записаны его слова: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». Этой косноязычной фразой матрос Железняков вошел в историю. «Было 4 часа 40 минут утра, – элегически завершал рассказ Раскольников. – В незанавешенные окна дворца глядела звездная, морозная ночь. Обрадованные [!] депутаты шумно ринулись к вешалкам… В Англии когда-то существовал „Долгий парламент“. Учредительное собрание РСФСР было самым коротким парламентом во всей мировой истории».
Вот так – расстрелом безоружных, глумлением над законностью и хоровым исполнением «Интернационала» – завершилась многолетняя мечта российской демократии о парламенте. 6 января 1918 года Александр Блок записал: «К вечеру – циклон. – Слухи о том, что Учредительное собрание разогнали в 5 часов утра. (Оно таки собралось и выбрало председателем Чернова.) – Большевики отобрали бо́льшую часть газет у толстой старухи на углу». Старуха на углу. Черный вечер. Белый снег. И замерзшая кровь на снегу.
Военный коммунизм[5]5
Военный коммунизм – политико-экономический режим большевистской власти в 1918 – начале 1921 г. Его важные элементы: национализация промышленности, максимальная централизация руководства производством и распределением, запрещение частной торговли, карточная система, всеобщая трудовая повинность, уравниловка в оплате труда, продразверстка в деревне.
[Закрыть]
Голод в Петрограде. Что хорошего в новом режиме? Поэма «Двенадцать» как петроградская хроника. Володарский. Красный террор. Убийство и похороны Урицкого. Баллада о сайке. «Холера может решить проблему голода». Григорий Зиновьев. Оборона города в 1919 году. Обыски, уплотнения, слухи
Нету хлеба – нет муки, не дают большевики.
Нету хлеба – нету масла, электричество погасло.
Из городского фольклора. 1919 год
Задолго до созыва Учредительного собрания на его имя стали приходить письма с наказами избирателей, но депутаты не смогли их прочесть, потому что в предрассветной тьме 6 января закончилось первое и последнее заседание Всероссийского парламента. А в тот же день, 6 января, избиратель из Царского Села сел писать свой наказ: «Довольно шума; довольно братской крови, – старательно выводил он, – нужно строительство новой, тихой, светлой жизни… Довольно играть на наших синих жилах, как на струнах арфы. Нужен спокой им, а не мучительная голодная смерть. Довольно смерти, довольно нас травить одного на другого, как собак. Бойтесь, лопнет наше терпение и мы перебьем и разгоним вас всех и скажем, что мы сами собой будем управлять без всяких партий». Действительно, довольно толковать о партиях, пора обратиться к жизни города. В 1917 году люди мечтали о тихом, светлом будущем, не подозревая, что́ подступило вплотную. По плану «самого передового социального учения» им предстояло стать соломой для разжигания костра мировой революции, а Петрограду – «колыбелью» этой революции. Для достижения своей цели вожди и идеологи самого передового учения прибегли к трем издревле проверенным средствам: голоду, войне и террору.
Вернемся на несколько месяцев назад, в Петроград февраля 1917 года. Последний градоначальник царской столицы А. П. Балк вспоминал, что утром 23 февраля он получил донесение «об оживленном движении на Литейном и Троицком мостах, а также по Литейной ул. и Невскому проспекту. Быстро выяснилось, что движение это необычное – умышленное… В публике много дам, еще больше баб, учащейся молодежи и сравнительно с прежними выступлениями мало рабочих… Густая толпа медленно и спокойно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась, и часам к двум стали слышны заунывные подавленные голоса: хлеба, хлеба… И так продолжалось всюду весь день. Толпа как бы стонала: „хлеба, хлеба“. Причем лица оживленные, веселые и, по-видимому, довольные остроумной, как им казалось, выдумкой протеста». Уже два с половиной года шла война, в столице начались перебои с продовольствием, у магазинов выстраивались очереди – «хвосты». 22 февраля газеты сообщили о намерении городских властей ввести хлебные карточки. Голода тогда не было: по свидетельству Балка, «хлеб, вкусный и питательный, выдавался по 1 1/2 ф[унта][6]6
Фунт – 0,4095 кг.
[Закрыть] на человека, а рабочим и войскам по два». Однако известие о введении карточек вызвало волнения, начались грабежи хлебных лавок – эти события стали началом революции. Очень скоро на улицах прольется первая кровь, но 23 февраля толпам в центре города было весело, и заунывное стенание «хлеба, хлеба» казалось дерзкой шуткой.
А вот Невский проспект 1919 года, хотя теперь он называется проспектом 25 Октября; на нем малолюдно – многие из тех, кто фланировал здесь в феврале 1917 года, умерли или покинули Петроград, у редких прохожих изможденные, темные лица. Поэт Василий Князев вспоминал эпизод начала 1919 года: «Угол проспекта 25 Октября и ул. Лассаля (Михайловской ул. – Е. И.). У заколоченной досками и сплошь заклеенной афишами и плакатами витрины магазина вопит-корчится простоволосая, в разорванной кофте женщина. Ни на секунду не умолкая, она выкрикивает только одно заветное слово: „Хлеба… хлеба… хлеба!“ Люди бегут мимо». Уже давно были введены карточки не только на хлеб, но на все продукты и товары, а хлебный паек уменьшился по сравнению с февральским 1917 года в восемь – десять раз. Перед нами умирающий город времен военного коммунизма.
В чем же была причина петроградских бедствий? Советские историки называли сразу несколько причин: удаленность города от основных сельскохозяйственных районов, разруха на железных дорогах и других путях сообщения, Гражданская война… Но была еще одна причина: Петроград стал опытным участком для большевистского эксперимента, здесь новая власть опробывала свои социальные идеи[7]7
Об особой роли Петрограда Ленин писал 26 июня 1918 г. Зиновьеву, требуя усиления террора в городе: «Надо поощрять энергию и массовидность террора… и особенно в Питере, пример коего решает».
[Закрыть]. В 1918 году председатель Совета народных комиссаров Петроградской трудовой коммуны Григорий Евсеевич Зиновьев говорил: «Я знаю, что среди очень широких кругов населения распространено мнение, что свобода торговли, хотя она и была бы нарушением наших принципов… спасла бы на короткое время от того ужаса, в котором мы находимся сейчас». Может, она и спасла бы Петроград от ужаса голода, но ее запретили как противоречащую большевистским догмам. Вожди не жаловали бывшую столицу империи, население которой было мало пригодно для строения социализма – рабочие составляли здесь меньшинство, зато бывших царских чиновников, буржуазии и прочей «контры» в Питере было больше, чем в других городах России.
После переворота многие государственные служащие не стали сотрудничать с новой властью, этот саботаж продолжался несколько месяцев, но в 1918 году большинство их вернулось на службу, к этому принуждал голод. «Все население Петербурга взято „на учет“, – вспоминала З. Н. Гиппиус. – Всякий, так или иначе, обязан служить „государству“ – занимать место если не в армии, то в каком-нибудь правительственном учреждении. Да ведь человек иначе и заработка никакого не может иметь. И почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевистских чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голоду медленно, а не быстро». Люди на грани голодной смерти не представляли серьезной опасности для власти. «Голодными легче управлять, чем сытыми», – цинично заметил Лев Троцкий.
В мае 1918 года Зиновьев говорил на собрании Петроградского совета: «Буржуазия и ее прямые прихвостни охватывают около 100 тысяч, и мы им говорим: мы не отказываем и вам в маленьком пайке… У нас были и другие предложения – лишить всякого пайка эти 100 тысяч человек. Может быть, это было бы правильно, может быть, это напрашивается у каждого из нас». Желание уморить 100 тысяч буржуев действительно напрашивалось: можно было избавиться от лишних ртов и подправить классовый состав населения. Буржуи, по мнению Зиновьева, не заслуживали сочувствия: «Тот, кто был богат, остается богатым и сейчас. Он найдет лазейку, чтобы хлеб получить, чтобы кормиться более питательными продуктами: консервами, молоком и всякими другими благами». Однако питательными продуктами тогда кормился сам Григорий Евсеевич и другие представители городской власти да спекулянты, все остальные голодали. Летом 1918 года в Петрограде свирепствовала эпидемия холеры, в связи с чем Троцкий сказал: «Холера поможет нам решить проблему голода». Действительно, холера сильно поубавила количество голодавших.
1 июля 1918 года в Петрограде была введена система распределения пайков по классовому принципу: рабочим полагалось 1/2 фунта хлеба в день, служащим – 1/4 фунта; «лицам не рабочим и не служащим, живущим своим трудом» – 1/8 фунта, а ста тысячам человек, которых следовало уморить, – 1/16 фунта (25 граммов). Поэт Василий Князев вспоминал о жившей по соседству с ним семье: «В 3-м этаже живет небольшая семья интеллигентов: бабушка, гимназистка-внучка и близнецы – мальчики-гимназисты. Я видел их во дворе: тихие, бледные до прозрачности, сидят и читают, обнявшись, одну книгу. Потом один мальчик исчез… Потом и другой. Потом исчезла бабушка – перестала утрами ходить на набережную за щепками. Потом не стало видно и ее хроменькой, тихой, русоволосой внучки. Эти люди – вымерли, медленно умирали на глазах всего дома. То, что они погибли от голода, обнаружилось при взломе дверей их квартиры». Эта семья была из числа «нетрудовых элементов», зато трудящимся полагался не только паек, но и питание в коммунальных столовых.
В создании бесплатных коммунальных столовых для трудящихся реализовалась одна из утопических идей марксистской идеологии, «коммунальное» питание должно было навсегда покончить с традицией домашнего приготовления пищи. Это имело глубокий смысл, ведь, по утверждению Ленина, отказ от «мелкого домашнего хозяйства» являлся важнейшим условием для создания коммунистического общества. Известный тогда партийный теоретик Юрий Ларин пропагандировал полный отказ от мелкобуржуазной привычки домашнего питания; по его словам, в Европе с этим давно покончили, а в Австрии и Германии приготовление обедов «в сепаратной кухне отдельной семьи» запрещено законом! Юрий Ларин «научно» обосновывал преимущество коммунальных квартир, в которых пролетарские семьи заживут дружной коммуной. Не случись переворота, «идеологи» вроде этого враля канули бы в забвение, но вышло иначе, и в советских энциклопедиях Юрий Ларин именуется видным экономистом. Профессор Педагогического института при университете географ В. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал о столовых военного коммунизма: «Питались кониной (это был деликатес), затем тюлениной, пшеном, ржаной кашей, турнепсом и мороженой картошкой… В „столовках“ обязательно подавался суп с „сущиком“, т. е. мелкой сушеной рыбой. Обеды было не обязательно поглощать в „столовке“, а можно было уносить и домой… Л. С. Берг, как ихтиолог с мировым именем, с большим терпением выуживал из супа мельчайшие косточки, раскладывал по краям тарелки в порядке зоологической классификации и называл по-латыни и по-русски тот вид, которому каждая косточка принадлежала. Состав суповой фауны оказывался сложным, и в нем иногда попадались редкие виды». По свидетельству З. Н. Гиппиус, одно время в этих столовых «царила вобла… я до смертного часа не забуду ее пронзительный, тошный запах из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего». Об отупении измученных голодом людей можно судить по эпизоду из воспоминаний Семенова-Тян-Шанского: однажды в столовую привезли мешок конских копыт. На вопрос заведующей, что с ними делать, в Наркомпроде ответили: «Раздайте копыта гражданам бесплатно; они сами сумеют, что с ними делать». К изумлению заведующей, «многие граждане молча взяли копыта, положили их к себе в карманы и мирно разошлись по домам».
Конечно, доставлять продовольствие издалека было трудно, но в Петроградской и соседних губерниях у крестьян хватало картошки и скот не перевелся, и им было выгодно продавать продукты в городе. Однако уже в начале 1918 года Петроград был окружен кольцом продовольственных заградительных отрядов, которые не пропускали в город везущих продовольствие крестьян. На подъездах к городу, на станциях, в поездах шли облавы, крестьяне-«мешочники» были объявлены врагами советской власти, так что не разруха, а само государство обрекало Петроград на голодную смерть. Но многим мешочникам удавалось пробраться через блокадное кольцо заградотрядов, и самыми упорными в этом промысле оказались женщины – не случайно выражение «баба-мешочница» позже вошло в арсенал городской перебранки. Но тогда петроградцы относились к ним иначе, партизанские вылазки мешочниц не раз спасали их от голода. Семенов-Тян-Шанский вспоминал, как его жену остановила на улице «очень толстая деревенская баба и шепотом спросила: „Не хотите ли картошки?“ Жена привела крестьянку домой и спросила: „А где же картошка?“ Баба ответила: „А вот“, быстро расстегнулась, картошка посыпалась из ней, застучала массами по полу кухни, и баба стала совсем тонкой. Так она благополучно проехала мимо застав „военного коммунизма“ и нам сделала благодеяние». Городская торговля замерла, магазины были закрыты, и единственным местом, где можно было купить или выменять на вещи продукты, оставались рынки. Рыночная торговля тоже была запрещена, на рынках проводились облавы с арестами и конфискацией всего вынесенного на обмен и продажу, но покупатели и продавцы собирались снова. В городском центре появилось много импровизированных рынков, которые исчезали при приближении облавы. «У Литейного, – записывал в дневнике 1918 года историк Г. А. Князев, – стоял какой-то длинный ряд и все продавали что-то. Кого только не было в этом ряду с мешочками в руках! И старушки, и дамы, и два лицеистика, и солдаты».









































