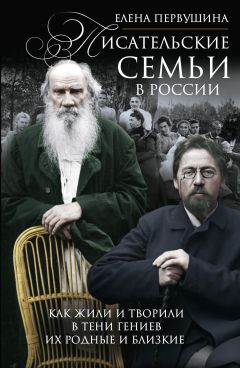
Автор книги: Елена Первушина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В начало жизни
Выйдя в отставку после второй женитьбы, Лев Александрович жил в Болдино, отстраивая и украшая усадьбу. Умер в 1790 году и похоронен в Москве, в Донском монастыре. Трое его сыновей от первой жены избрали военную карьеру.
Василий Львович родился в 1766 году, имя получил по дню памяти священномученика Василия, епископа Амасийского, и был крещен в Троицкой слободе. Будущий поэт «выбрал» очень удачный день для того, чтобы появиться на свет, так как имя его небесного покровителя совпадало с именем деда по матери – Василия Ивановича Чичерина, служившего в Семеновском полку и закончившего военную карьеру в чине полковника и в должности коменданта Полтавы. Так что никаких колебаний в выборе имени просто не могло быть.
Братья получили домашнее образование, впрочем весьма неплохое. «Главным предметом их обучения был, конечно, французский язык, которым братья Пушкины владели в совершенстве. Василий Львович, кроме французского, изучал немецкий, английский, итальянский и латинский языки», – пишет В.И. Саитов в биографическом очерке, прилагавшемся к изданию сочинений В.Л. Пушкина в приложении к журналу «Север» 1893 года.
Он же отмечает светские успехи молодого человека: «По окончании домашнего курса наук В.Л. Пушкин стал появляться в обществе. Благодаря светскому образованию в соединении с природным остроумием и веселым, общительным характером он скоро сделался любимцем московских салонов. Обладая сценическим дарованием и искусством декламации, Василий Львович, будучи еще восемнадцатилетним юношей, участвовал на всех почти любительских спектаклях, отличался на званых вечерах чтением монологов из французских трагедий и с необыкновенною легкостью сочинял французские куплеты».
Французский язык стал языком русских аристократов еще со времен императрицы Елизаветы Петровны. В юности ее прочили за одного из французских принцев. Брак не состоялся, но принцесса, кажется вообще восприимчивая к языкам, выучила французский и ввела моду на него при своем дворе.
Впрочем, далеко не все русские аристократы считали нужным прилежно учить иностранные языки. А вот Пушкины в этом преуспели, и свободное владение французским стало «визитной карточкой» этой семьи. Позже первое стихотворение (точнее – сатира) маленького Александра Пушкина будет написано именно на французском языке, а в Лицее, где учились самые образованные недоросли России, он получит прозвище Француз.
Сам Василий Львович позже в стихотворном послании к брату Сергею опишет их общее детство вполне в духе Просвещения и сентиментализма:
Ты помнишь, как бывало,
Текли часы для нас?
Природой восхищаясь,
Гуляли мы с тобой;
Или полезным чтеньем
Свой просвещали ум;
Или Творцу вселенной
На лирах пели гимн!..
Поэзия святая!
Мы с самых юных лет
Тобою занимались;
Ты услаждала нас…
Или в семействе нашем,
Где царствует любовь,
Играли мы, как дети,
В невинности сердец.
Разумеется, в этом описании нет «ничего личного» – только расхожие клише конца XVIII века, личное – только желание написать такое стихотворение и посвятить его брату. Конечно, Василий Львович с Сергеем Львовичем никаких гимнов не пели и на лирах не бряцали. Но оба писали стихи (Василий – лучше, Сергей – похуже), и оба были, как говорилось тогда, «чувствительными молодыми людьми».
Интересно, что Пушкин-младший в 1823 году напишет схожее послание брату Льву, с которым не был знаком (тот на шесть лет его младше), Александр учился в Лицее и не бывал дома, пока Лев взрослел.
Брат милый, отроком расстался ты со мной —
В разлуке протекли медлительные годы;
Теперь ты юноша – и полною душой
Цветешь для радостей, для света, для свободы.
Какое поприще открыто пред тобой,
Как много для тебя восторгов, наслаждений,
И сладостных забот, и милых заблуждений!
Как часто новый жар твою волнует кровь!
Ты сердце пробуешь в надежде торопливой,
Зовешь, вверяясь им, и дружбу и любовь.
Стихотворение очень похоже, также написано в весьма менторском тоне и состоит из «общих мест». Но оно создано уже по другим канонам – романтизм одержал быструю и решительную победу над сентиментализмом.
А что же Пушкин-старший? Он последовал за модой? Ничуть не бывало! Он, по его собственным словам, «не опасаясь гнева модных романтиков», предпочитал Мольера – Гёте и Расина – Шиллеру. Почти в то же время (а точнее, в 1824 г.) напишет стихотворение «К Л.С. Пушкину», и вот как оно будет звучать:
Благодарю тебя, племянник мой любезный,
Что вспомнил, наконец, о дяде ты своем;
Он пресмыкается еще в юдоли слезной
И часто с думою беседует вдвоем.
Не веселят меня веселые столицы,
Ни Пресненски пруды, ни славный новый сад,
Где можно есть бифштекс, пить с ромом лимонад
И где встречаются и дамы, и девицы.
В Московском клубе я, что Английским зовут,
Читаю иногда Булгарина и Греча.
Картежная идет ужасная пусть сеча,
Мне нужды нет: рублей мне карты не дают,
И в экарте[1]1
Экарте – несложная карточная игра, популярная в первой половине XIX в.
[Закрыть] играть я вовсе не умею;
К театру, признаюсь, охоту я имею,
Но езжу в месяц раз: живу я далеко;
Мне в креслах холодно, а в ложах высоко.
Ришар[2]2
Ришар Жозеф – танцовщик, родственник Фелиции Гюллень-Сор, выступавший вместе с ней в Москве.
[Закрыть] и Гюллень-Сор[3]3
Гюллень-Сор (наст. фам. Ришар) Фелицата (Фелисите) Виржиния – артистка балета, хореограф, педагог. Гюллен – псевдоним отца, Сор – фамилия мужа. В 1823 г. приехала в Москву. До 1839 г. работала в Большом театре: сначала танцовщица и хореограф, позднее педагог.
[Закрыть] приводят в восхищенье
Всех здешних зрителей искусством ног своих;
Воронина мила; люблю я видеть их,
Люблю прелестное Римлянок слышать пенье,
Люблю отличную их ловкость и игру;
Но мне, подагрику, разъезд[4]4
При разъезде гостей из театра или с бала кареты подавались к подъезду одна за другой. Если гостей было много, им приходилось подолгу ждать в фойе, когда подадут их карету. Для подагрика провести около часа на ногах было тяжело, к тому же в холодное время года, стоя перед постоянно открывающимися дверями (а шуба оставалась в карете), легко было подхватить простуду.
[Закрыть] не по нутру,
И два часа в сенях кареты дожидаться
Нет сил… и от забав мне должно отказаться!
Итак, мой милый друг, ты видишь, дядя твой
Отшельником живет в столице знаменитой,
Но я не жалуюсь, друзьями не забытой.
Наш русский Лафонтен[5]5
Иван Андреевич Крылов. С 1812 г. он работал в петербургской Публичной библиотеке, но, конечно, бывал и в Москве.
[Закрыть] и Вяземский[6]6
Петр Андреевич Вяземский – русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист и государственный деятель, жил в Москве, был близким другом семьи Пушкиных.
[Закрыть] со мной
В свободные часы делят уединенье;
Еще отрада есть – поэзия и чтенье.
Благодарю судьбу: я с самых юных лет
Любил изящное, и часто от сует,
От шума светского я в тишине скрывался,
Учился и читал, и сердцем наслаждался;
Любил писать стихи, но зависти не знал;
Прямой талант в других я вечно уважал,
И лишь нелепостей был искренний гонитель:
Я не щадил невежд и скаредных писцов;
Что делать! И теперь я всем сказать готов:
Фирс добрый человек, но глупый сочинитель.
Конечно, тональность совсем другая. Это одно из тех шутливых дружеских посланий, которые особенно любил Василий Львович и которые особенно ему удавались. И даже капелька нравоучения, «минутка саморекламы» (в послании дяди племяннику) их не портили. Но ясно видно, что Пушкин-старший душой еще остался в XVIII веке, он мыслит и чувствует так, как было модно мыслить и чувствовать во времена его молодости.
Вернемся же вместе с ним в XVIII век!
Годы взросления
Василий Львович и Сергей Львович, так же как и многие молодые дворяне XVIII века, начинали свою взрослую жизнь со службы в гвардейских полках. Точнее, в лейб-гвардии Измайловском полку. Им суждено испытать все радости той жизни, о которой мечтал Петруша Гринев. Помните? «…Трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого».
Правда, Василия Львовича зачислили на военную службу не «во чреве матери», как Гринева, а в семилетием возрасте, зато сразу в Измайловский полк. В 1777 году оба брата, все еще жившие в Москве, на Божедомке, одновременно получили чин сержанта. И только в 1790 году после смерти отца отправились в Петербург, где через год пожалованы первым офицерским чином прапорщика.
Если Александру Сергеевичу суждено родиться в 1799 году, на стыке двух веков, пережить величайший триумф России – победу в войне 1812 года, – будучи еще подростком; далее наблюдать крах надежд на реформы Александра I, страшную участь декабристов и постепенное «замерзание» России при Николае I, то юность его дяди подарила совсем другие впечатления.
Если для Александра Сергеевича Екатерина II – персонаж его исторического романа в стиле Вальтера Скотта («Капитанская дочка»), то для Пушкина-дяди она его современница. Он родился спустя четыре года после того, когда она взошла на престол, и первые тридцать лет его жизни пришлись на ее царствование.
Это золотые годы для русской знати, те, о которых она будет вспоминать с ностальгией последующие сто лет. Императрица оказалась на троне не по праву, а после дворцового переворота и убийства законного государя, и поначалу ей приходилось всячески задабривать знать и гвардию, которые являлись ее единственной поддержкой, а они быстро поняли, что благоволение новой правительницы обеспечит им путь наверх.
Московский свет, где блистали Василий Львович и Сергей Львович, был тем самым, о котором так ностальгически вспоминает Фамусов в «Горе от ума». Помните?
Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы, на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя,
Максим Петрович: он не то на серебре,
На золоте едал; сто человек к услугам;
Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;
Век при дворе, да при каком дворе!
Тогда не то, что ныне,
При государыне служил Екатерине.
А в те поры все важны! в сорок пуд…
Раскланяйся – тупеем не кивнут.
Вельможа в случае – тем паче,
Не как другой, и пил, и ел иначе.
А дядя! что твой князь? что граф?
Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:
На куртаге ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой;
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдругoрядь – уж нарочно, —
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? Как по-вашему? по-нашему – смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен?
Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет?
Максим Петрович! Шутка!
В чины выводит кто и пенсии дает?
Максим Петрович. Да! Вы, нынешние, – ну-тка!
Это время пышных придворных торжеств, напоминавших о праздниках дщери Петровой Елизаветы, время, когда берега Невы одевались в гранит, но одновременно расширялись и границы России за счет присоединения Калмыцкого ханства (1771), Белоруссии (1772, 1793), Осетии (1774), Курильских островов (1779), Крыма (1783), Курляндии, Литвы и Западной Волыни (1795).
Золотой век Екатерины отнюдь не был мирным, на него пришлось не только восстание Пугачева, описанное Пушкиным-младшим в «Капитанский дочке» (1773–1775), Русско-турецкие войны (1768–1774 и 1787–1791), где совершал свои подвиги Суворов, новая Русско-шведская война (1788–1790), когда петербуржцы готовились защищать Северную столицу от вековечных соседей и «заклятых друзей».
А еще это время, когда Москва пережила эпидемию… чумы. Это случилось в 1771 году. Чуму привезли с юга, с полей сражений Русско-турецкой войны. Она пришла в Москву вместе с вернувшимися солдатами, а также с прибывшими в город товарами и добычей. По одной из версий, источником заражения стали шерсть и шелк, привезенные на московские мануфактуры торговцами из Турции.
И очень скоро в день уже умирало около тысячи человек. Люди искали виноватых в смерти их родных и набрасывались на всех, кто стоял на их пути. Городские власти стремились покинуть город, и скоро начались беспорядки. 15 сентября 1771 года толпа ворвалась в Чудов монастырь в Кремле и разграбила его, а 16 сентября в Донском монастыре архиепископ Амбросий распорядился запечатать короб для приношений Боголюбской иконе Божией Матери, а саму икону убрать в церковь Кира и Иоанна, мера совершенно правильная. К иконе собирались толпы народа, надеющегося на защиту и исцеление, но скопление людей только ускоряло распространение инфекции. Молящихся возмутило то, что у них отбирают чудотворную икону, которая казалась им единственной надеждой на спасение, и Амбросия убила разгневанная толпа. В Москве начался чумной бунт, генерал-губернатор Петр Семенович Салтыков бежал из охваченного эпидемией города.
Тогда императрица послала в Москву Григория Орлова «с полною мочию» (то есть с большими полномочиями) для борьбы с болезнью.
Орлов не был врачом; он обратился за советом к московским медикам, поставив перед ними следующие вопросы: «Умножающаяся в Москве смертоносная болезнь та ли, что называется моровою язвою? Чрез воздух ли ею люди заражаются или от прикосновения к зараженному? Какие суть средства надежнейшие к предохранению от оной? Есть ли и какие способы ко уврачеванию зараженных?»
Ему ответили, что да, в Москве свирепствует моровая язва, что нужно, прежде всего, запретить въезд в зараженный город людей и выезд из него, чтобы остановить распространение чумы в стране.
Внутри города также надо стараться оградить здоровых от больных, а далее – по мере возможности облегчать состояние больных, обеспечивать их водой, пищей и жаропонижающими средствами и уповать на силу натуры – эффективных антибиотиков, способных убивать возбудителя чумы, тогда еще не существовало, они появятся только через двести лет.
Город разделили на 27 участков, на территории которых производился учет и изоляция больных, а также вывоз умерших. Были открыты новые бани, обветшавшие дома сносили, крыс и мышей, разносчиков чумной заразы, истребляли. В город организовали подвоз пищи и чистой воды.
Орлов приказал открыть новые карантины, создать специализированные изолированные инфекционные больницы, увеличить число больниц общих практик и поднять жалованье докторам. Он установил денежное вознаграждение выписываемым из больниц (женатым – по 10 рублей, холостым – по 5 рублей), после чего москвичи стали добровольно отправлять заболевших на лечение. По приказу Орлова архиепископа Амбросия торжественно погребли 4 октября в Донском монастыре в Москве, в Малом соборе. Осенью эпидемия чумы пошла на убыль, и в ноябре Екатерина II вызвала Орлова обратно в Петербург. В память о борьбе Орлова с чумой Екатерина вручила ему именную медаль «За избавление Москвы от язвы в 1771 году» с надписью «Такового сына Россия имеет», впоследствии отчеканена еще одна именная медаль с надписью «Россия таковых сынов в себе имеет», а также воздвигнуты мраморные ворота в виде триумфальной арки в Царском Селе на дороге в имение Орлова – Гатчину. А через восемь лет, 28 июня 1779 года, Екатерина II подписала указ о строительстве первого московского водопровода, который обеспечивал жителей города чистой водой.
Оба брата Пушкиных благополучно пережили эти страшные дни и продолжали расти в кругу семьи, потом блистать в московском свете, где было полно старых знакомых их отца и матери, которые ласково принимали молодых людей.
В 1790 году скончался Лев Александрович, и вскоре его сыновьям пришлось уезжать в Петербург, в свой полк.
* * *
Жаль, но о годах службы юных Пушкиных в Петербурге почти не осталось воспоминаний. Кроме разве что свидетельств об их переводе из чина в чин. В 1796 году в звании гвардии поручика Василий ушел в отставку, а брат Сергей прослужил еще год и дослужился до майора.
Но, надо думать, что молодые люди отдали должное столичной светской жизни и что Василий Львович не забывал кропать стихи и прозу. Есть лишь небольшой отрывок под многообещающим названием «Любовь первого возраста», который написан в 1813 году во время пребывания Василия Львовича в Нижнем Новгороде и вышел двумя годами позже в альманахе «Российский музеум».
Повесть, как и должно, посвящена нежной любви юноши к прекрасной москвичке, имя которой он скрывает под псевдонимом Зюльмея. Молодой москвич пишет, какое впечатление на него произвела Северная столица: «Я получил чин гвардейского офицера; но вместо приятной надежды возвратиться в Москву принял наложенную на меня должность, которая не позволяла мне оставить полк свой. Великая Екатерина, которой все царствование было беспрерывным торжеством, любила торжества и праздники, и столица праздновала мир[7]7
Со Швецией, 1790 г.
[Закрыть] со всеми возможными увеселениями. Только и говорили о парадах, иллюминациях, балах и фейерверках. Рассеяние мешало мыслям моим заниматься Зюльмеею; я тосковал об ней и в свободные минуты писал страстные к ней письма, которые, правда, оставались всегда в моем кабинете, но которые читал я с восторгом брату, единственному поверенному моего сердца.
Потом, пустившись в блистательность общества, я стал не так робок и начал приобретать ту светскость, которой только научаются, можно сказать, в обращении с знатными и придворными. Всегда любил я поэзию и всегда ею занимался. Граф Стр*, князь Бел***, графы Сег* и Коб***, княгиня Д*** и графиня Ш*** читали стихи мои с обязательным снисхождением и позволяли мне участвовать в их забавах. Тогда в обыкновении были благородные спектакли. Я играл комедию с лучшими актерами, каких могло только произвести хорошее общество. Это образовало мой вкус и научило меня с приятностью изъясняться. Но сердце мое пылало любовью к Зюльмее, и когда встречал я прекрасную, ловкую и любезную женщину, то всегда сравнивал с тою, которая совершенно владела мною.
Таким образом протекли два года».
* * *
Из знакомств молодого поэта важнейшими стали знакомства с Николаем Михайловичем Карамзиным и Гавриилом Романовичем Державиным. Карамзин как раз вернулся из путешествия по Европе и уже прославился как автор «Писем русского путешественника». После поездки он осел в Москве, где начал издавать литературный «Московский журнал», в котором напечатал свою повесть «Бедная Лиза», мгновенно ставшую знаменитой. Державин также находился в зените своей славы, жил в Петербурге в городской усадьбе на Фонтанке и занимал должность кабинет-секретаря Екатерины II «у принятия прошений».
Тогда же состоялся литературный дебют Василия Львовича – в № 11 журнала «Санкт-Петербургский Меркурий» за 1793 год было напечатано стихотворение «К Камину». Стихотворение весьма примечательное. Вот как оно начинается:
Любезный мой Камин, товарищ дорогой,
Как счастлив, весел я, сидя перед тобой!
Я мира суету и гордость забываю,
Когда, мой милый друг, с тобою рассуждаю;
Что в сердце я храню, я знаю то один;
Мне нужды нет, что я не знатный господин;
Мне нужды нет, что я на балах не бываю
И говорить бон-мо[8]8
Bon mot – остроумное выражение (фр.).
[Закрыть] на счет других не знаю;
Бо-монда[9]9
Beau monde – высший свет (фр.).
[Закрыть] правила не чту я за закон,
И лишь по имени известен мне бостон.
Обедов не ищу, незнаем я, но волен;
О, милый мой Камин, как я живу доволен.
Читаю ли я что, иль греюсь, иль пишу,
Свободой, тишиной, спокойствием дышу.
Пусть Глупомотов всем именье расточает
И рослых дураков в гусары наряжает;
Какая нужда мне, что он развратный мот!
Безмозглов пусть спесив. Но что он? Глупый скот,
Который, свой язык природный презирая,
В атласных шлафроках блаженство почитая,
Как кукла рядится, любуется собой,
Мня в плен ловить сердца французской головой.
Он, бюстов накупив и чайных два сервиза,
Желает роль играть парижского маркиза;
А господин маркиз, того коль не забыл,
Шесть месяцев назад здесь вахмистром служил.
Пусть он дурачится! Нет нужды в том нимало:
Здесь много дураков и будет и бывало…
Пожалуй, не сразу догадаешься, кому принадлежат эти строки. Их вполне мог бы написать не молодой гвардейский офицер, а умудренный жизнью Державин. В самом деле, в поэзии Державина легко найти схожие настроения. Вот, к примеру, стихотворение 1798 года «На счастье»:
<..>
В те дни и времена чудесны
Твой взор и на меня всеместный
Простри, о над царями царь!
Простри и удостой усмешкой
Презренную тобою тварь;
И если я не создан пешкой,
Валяться не рожден в пыли,
Прошу тебя моим быть другом;
Песчинка может быть жемчугом,
Погладь меня и потрепли.
Бывало, ты меня к боярам
В любовь введешь: беру все даром,
На вексель, в долг без платежа;
Судьи, дьяки и прокуроры,
В передней про себя брюзжа,
Умильные мне мещут взоры
И жаждут слова моего,
А я всех мимо по паркету
Бегу, нос вздернув, к кабинету,
И в грош не ставлю никого.
Бывало, под чужим нарядом
С красоткой чернобровой рядом
Иль с беленькой, сидя со мной,
Ты в шашки, то в картеж играешь;
Прекрасною твоей рукой
Туза червонного вскрываешь,
Сердечный твой тем кажешь взгляд;
Я к крале короля бросаю,
И ферзь к ладье я придвигаю,
Даю марьяж иль шах и мат.
Бывало, милые науки
И Музы, простирая руки,
Позавтракать ко мне придут
И все мое усядут ложе;
А я, свирель настроя тут,
С их каждой лирой то же, то же
Играю, что вчерась играл.
Согласна трель! взаимны тоны!
Восторг всех чувств! За вас короны
Тогда бы взять не пожелал.
А ныне пятьдесят мне било;
Полет свой Счастье пременило,
Без лат я Горе-богатырь;
Прекрасный пол меня лишь бесит,
Амур без перьев – нетопырь,
Едва вспорхнет, и нос повесит.
Сокрылся и в игре мой клад;
Не страстны мной, как прежде, Музы;
Бояра понадули пузы,
И я у всех стал виноват.
<..>
Увы! еще ты не внимаешь,
О Счастие! моей мольбе,
Мои обеты презираешь —
Знать, неугоден я тебе.
Но на софах ли ты пуховых,
В тенях ли миртовых, лавровых,
Иль в золотой живешь стране —
Внемли, шепни твоим любимцам,
Вельможам, королям и принцам:
Спокойствие мое во мне!
Разница лишь в том, что для Державина стоический вывод «спокойствие мое – во мне» – это итог многолетней (и отнюдь не безуспешной и не бессмысленной) борьбы с превратностями судьбы, а поэт следующего поколения, Василий Львович Пушкин, с этого начинает.









































