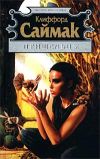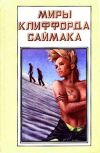Текст книги "Журнал «Рассказы». Темнее ночи"

Автор книги: Елена Станиславская
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
На потолке лежала тень, будто кто-то ее там аккуратно размазал. Стоило Ваське посмотреть на нее, как начала она стягиваться с краев в середину, густея и поднимаясь черным тестом, пока не подобралась и не спрыгнула вниз.
Васька, забыв о хозяине, взобрался на бревно. Тень уже успела обернуться горбатой старухой и направиться к колыбельке. Память голосом домового зашептала о криксах-вараксах и ночницах.
Иван бранил жену за невкусную кашу. Хотя на деле-то его устами ругался толстый злыдень. Маруся же смотрела на мужа проколотыми глазами и дивилась, как могла за такое ничтожество замуж выйти. А прицепившийся к ее ноге худой злыдень жирел на глазах, аки клещ.
Крикса же склонилась над младеней, облизнула его личико холодным языком, распеленала, сунула половину ножки в рот и зачмокала. Лишь за долю секунды до этого увидел Васька ее лицо и остолбенел. Видел он его и раньше. Во снах. А когда крикса эта еще человеком была, жил с ней под одной крышей на другом конце села.
* * *
Васька бежал что было мочи, верещал, выкрикивая имя Хвостика. Тот много знает, умеет человеческие палочки с кружками читать, да и со своим домовым в ладных отношениях. Подскажет, что делать, как спасти хозяев.
Со стороны Сейма доносились песни – то мавки завлекали парубков для утех. Как всегда, дураки найдутся, а потом будут разбухшие по реке плавать.
Хвостик сидел на пороге своей хаты. Запыхавшийся Васька скоро промяукал ему о случившейся напасти. Хвостик попросил его успокоиться и начал все раскладывать по полочкам.
В хате зара́з оказались три нави. Причем злыдни попали туда совершенно не свойственным им путем. Прицепиться к прохожему у дороги – да. Но спрятаться в ведре с молоком? Они ж слепые. Чертовщина какая-то. Чеснок выкопать тоже без тела невозможно. Значит, кто-то из живых им помог. Но кто? У кого клык на хозяев? Может, с соседом чего не поделили?
Сосед. Ваську точно молнией прошило. Неужто Дружок аж настолько черную обиду затаил, что снюхался с навьями?
Хвостик недовольно шикнул. Для Дружка не с лапы такая месть. Проще было бы подстеречь Ваську да хребтину переломить или лапу перекусить, пока тот спит на солнышке в пыли. Тут людской ум беду задумал.
Васька не стал спорить. Сам не раз задумывался, что у людей точно невидимая сума при себе всегда имеется, а в ней полно злобы и мерзости. Ну или просто в голове их ум какой-то неправильный, гнилой.
Пока Васька остался думать, кто мог обиду лютую на хозяев затаить, Хвостик поскреб уговоренным образом дверь, а спустя минуту к ним с крыши спустился домовой, отряхиваясь от сажи.
– Дело дрянь, – заключил он, вникнув в ситуацию. – Прискорбно. Печной за все семьсот годов, что мы с ним хлеб-соль водили, по чести в хатах очаг оберегал. Ты, Васька, не паникуй. Мы, домовые, народ маленький, но коренастый. За своих и лиху глаз на жопу натянем, и волколаков на тулупы пустим. Твоих злыдней – как Сашко овечку. И высушим, как царей египетских. Бегите с Хвостиком к хате. Наблюдайте. А я остальных пока соберу.
Васька напомнил, что нужно узнать, кто злое замыслил против хозяев его.
– Всему свой час. Сперва порядок в хате наведем. Потом зачинщиков шукать будем. Ох и жаркая ночка выдастся! Лет сто пара никому не давали, как сегодня зададим. Про лихо с глазом, меж прочим, реальный случай.
* * *
Васька с Хвостиком запрыгнули на подоконник.
В хате на одного духа сделалось больше. Хмельной шиш сидел за столом и плевал Ивану в каждую чарку. А Иван вливал их в себя, не закусывая. Пил, ругался, рубаху порвал на себе.
Маруся калачиком лежала на полатях. Рыдала. Материла Ивана, испоганившего ее жизнь. Нити, через которые кормился раздутый злыдень, почернели от ее обиды и злобы. А те, что в ушах торчали, напрочь глушили плач Никитки. Крикса же облизывала младеню, обсасывала, щипала и улыбалась.
В Васькино сердце будто когти выпустили. Ладно Иван с Марусей, они хоть слепы, Никитка же видит мерзкую старуху. Бедный младеня. Он же не виноват ни в чем.
Вспомнились котята Муркины. Совесть тоже в сердце кольнула за то, что желал им костлявой в мешке.
Тихо мяукнул Хвостик, спрашивая, где домашние обереги. Васька хотел было ответить, но вдруг понял, что не видит их.
Как же он мог упустить это? Разве могла бы крикса изгаляться над Никиткой, коли не исчезла бы из колыбельки пеленашка[6]6
Пеленашка – оберег в виде куклы-мотанки, отводивший беду от младенца.
[Закрыть]? Напряг память, вспоминая, видел ли за печкой кукол-лихоманок. Вспомнил ворох лоскутов. Небось, избавились и от крохотного истукана из кости, что домовой за иконой хранил. И подковы над дверью больше нет. Кто же мог учинить такое? Что за скверная званка похозяйничала? А куда Маруся смотрела?
Этим временем хмельной шиш уже сам начал наливать Ивану да плевать тому сразу в рот. Некогда худой, а ныне тучный злыдень растекся по Марусе, оставив лишь голову.
Песни мавок сделались громче, будто приблизились. Потянуло с погоста мертвечиной. Залаяли собаки.
Крикса царапнула Никитке грудь и так сыто зачавкала, что слышно на улице было. Тут-то Васька и не выдержал. Вспомнил, как Хвостиков домовой через дымоход вышел, и таким же путем решил в хату попасть. Хвостик погнался за ним, мяукал, шипел, силясь уразуметь. Да за ведомым гневом разве поспеешь? Разве отговоришь?
Взобрался Васька на крышу и юркнул в дымоход. Благо под пушистой шерсткой жира не было. Благо лето…
И уже почти у самой печки Васька вдруг вспомнил, что не так давно Маруся кашу варила. Представил, как упадет на угли, зашипит, зашкворчит, полыхая. Но уже поздно было идти на попятную с таким-то разгоном. Ничего, не впервой ему сгорать. Зато весь этот ужас превратится в кошмарный сон. Как же хорошо станет после боли: мамкино молоко, новые братья с сестрами, новая жизнь…
Вот только встретила его печка не красными углями, а стылостью и знакомым горьким смрадом. Значит, навь через дымоход в дом проникла, как кикимора какая-нибудь. Выхолодила своим естеством печку да пошла бедокурить.
Времени на раздумья не было. Выскочил Васька из печи и понесся прямо на криксу.
Переродившаяся в злой дух бывшая хозяйка оторвалась от Никитки в тот самый миг, когда Васька прыгнул на нее, целясь когтями в глаза. Но, как и ожидал наблюдавший за окном Хвостик, ничего у Васьки не вышло.
Пролетел черный кот сквозь криксу, приложился о стену, упал. Вскочил на лапы, снова бросился в бой. Да толку! Живому с духом тягаться все равно что моровое поветрие словом лечить – хворь не отступит, а вот уста черными язвами покроются.
Однако Васька не унимался. Оглупевший от ярости, продолжал свою тщетную битву, пока силы не покинули его. А как только, умаянный, замер у ног криксы, шипя, будто еще надеялся хотя бы испугать ее, на черную шерстку опустилась пясть и схватила за загривок.
Васька взмыл в воздух. Хотел дернуться, оцарапать напавшего сзади, да всего его точно параличом сковало.
– Ишь ты, защитник який нашелся! – сказала навь и развернула Ваську к себе. Красивое по людским меркам лицо. Черные в хилеющем свете лучины волосы. Васька мог бы подумать, что это женщина, если бы нос его не заполнила вонь болотной няши. – Про этого паскудыша ты говорила?
Из-за полатей кто-то согласно пискнул, а через миг оттуда показалась мышь.
Васька тут же понял, чьих это лап дело. Кто выкопал чеснок, изгрыз в лоскуты кукол-лихоманок да лишил хату прочих оберегов. Если бы не паралич, он бы спросил, за что она так с ним? Но то ли мышь вопрос этот в глазах его прочитала, то ли ей не терпелось позлорадствовать – так или иначе, запищала она, говоря о куда большем, нежели он хотел знать.
И был таков ее сказ.
В цветене болеющий Муркой Васька поймал мышь, приходившуюся ей мужем. Для него это было очередным подарком любимой, для мыши же стало горем лютым. Поклялась она тогда, что отомстит, и тут услышала в ночи песню с речки. И песнь та скорбью своей поманила к себе, как что-то родное. Сидела у берега мавка и пением оплакивала убитую дочь. Той же ночью решили они объединиться во мщении.
Все время, что жила мышь под этой крышей, кипела в ней злоба да выстывала месть.
Сегодня притащила она в дом травинку, что дала ей мавка, и подложила домовому в снедь. Трава та редкая, растет только на костях младенцев, которых матери собственноручно топят и которым дно речное могилой становится. Мавка эту травинку водяного уже давно приметила, а на седмицу назад речному духу горло перегрызла, отчего Сейм на день зловонным сделался – кровь его долго в ничто не обращалась.
От травы той черти годами спят. А домовой лет через сто пробудился бы. Но впущенная в дом мавка имела на него иные планы. Влила спящему в рот настойку из слез алконоста, которому прошлой ночью заживо все перья выщипала прежде, чем утопить. От настойки домовой проснулся. Мавка схватила его за голову и медленно сжимала до крика, до влажного хруста, пока не чавкнуло в холодной руке.
– Сладко так чавкнуло. И кричал он сладко и долго. Дидятко ревело от его крика. Домовенку я отомстила. Я ж тогда в окно видела, как он мою доченьку задушил. Но обереги клятые не позволили вмешаться. Сегодня – ночь отмщения.
Мышка запищала, что, убив домового, мавка спряталась в печь, как раз перед тем, как в хату вошел Васька. И пока он за печкой смотрел, как домовой исчезает, она вылезла на крышу через дымоход и позвала покормиться криксу, которая днями кружила у хаты в надежде улучить возможность отведать Никитку.
Услышав упоминание о себе, крикса захохотала, после чего снова прильнула мордой к животу младени.
– Тебя за дверь вышвырнули, а она к колыбельке сразу. Да в колыбельке этой пеленашка поганая лежала. От ужаса бедную аж в потолок подкинуло и размазало по нему. Я пеленашку за полати выкинула, а она, – мавка кивнула на мышь, – расправилась с куклой клятой.
Мышка снова запищала, хвастаясь, что злыдням еще днем в ведро дорожку показала. Они так-то и не надобны были, но чего бы и не помочь навьям несчастным? Сегодня она им поможет, завтра – они ей. Эта хата – лишь начало. Скоро все село станет царствием навий с мышами, а люди будут им прислуживать.
– Васька! Сатана черна! – закричал Иван, наконец-то повернувший голову и увидевший висящего в воздухе кота. – Я тебе…
Договорить он не успел. Хмельной шиш плюнул ему в очи и в свободное от злыдня ухо.
– Подывысь на полати. – Иван повиновался его писклявому голосу. – Бачишь, там твоя жинка в раскаряку лыжить пыд сосидом. Чуешь, як стонэ? Срамота. Совсим стыд потеряла. Муж у хати, а вона с сосидом любыться. Что люды казать будуть? Ох, позор на твои голову, Ванька, ляже. Смиятися над тобой будуть да плюваться в твою сторону.
Иван смотрел залитыми слюной глазами и видел, как пыхтит на Марусе молодой сосед Данила. А забитым слюной ухом слышал женины стоны.
– Ах ты ж сука блудливая!
– Да шо ты словамы их, Ваня. В сенях сокира стоить. Ты возьмы еи да обухом посильнее…
Иван кое-как поднялся на непослушных ногах и кривой походкой двинулся в сени. Маруся все плакала, кормя навеянным горем злыдня. Не слышала она ни плача сыночка, ни шагов мужа, ни ругани его.
Мавка повернула Ваську к полатям, чтобы он увидел, как хозяин занес топор над хозяйкой.
Но тут распахнулась дверь, впуская в хату домовых со всего села. У каждого в руках было по мечу размером с маленький ножик. Десяток домовых прыгнули на Ивана. Случись это на секунду раньше, не хлюпнула бы голова Маруси, расколотая топором.
Дюжина мечей вонзилась в хмельного шиша. Засвистело, и полетели во все стороны отрубленные его кусочки. Ни один не долетел до пола, осыпались пылью.
Крикса отпрянула от младени вверх, снова подернув собой потолок.
А потом лучина затухла, и в хате воцарилась тьма.
Васька почувствовал, как разжались пальцы на загривке. Приземлился на лапы. Видя в темноте лучше большинства присутствовавших, прыгнул в колыбельку и накрыл собой Никитку.
Звенели мечи, стонали злыдни, кричали домовые: кто в кураже битвы, кто от боли, когда мавка давила их, точно перезрелые сливы.
Ночница плюхнулась с потолка, обернулась мышью летучей и уже вылетела было из хаты, когда вцепились в нее лапы Хвостика. Хрустнула в его пасти голова. Обратно в навь она превратилась лишь затем, чтобы отправиться вслед за хмельным шишом.
Мавка верещала, когда ее находил очередной меч.
Васька решил, что дитятку больше не угрожает ничего, и выглянул из колыбельки. Увидел домовых, почти слепой толпой рубящих мавку. Увидел Хвостика, наблюдавшего за этим у двери. И увидел покрытую шерстью руку, что высунулась из сеней. Васька громко зашипел Хвостику, но было поздно. Рука схватила того за хвост. И пока Васька бежал на помощь другу, черт вошел в хату и со всей силой приложился визжащим Хвостиком о стену.
Васька прыгнул, вцепился черту в морду, царапнул, вгрызся. Ощутил смердящую горькую кровь. Почувствовал боль чуть ниже шеи, хруст и полетел через всю хату, превратившуюся в поле брани.
Упал. Боли почти не было. Попытался встать, но лапы больше не слушались. Все тело отказалось подчиняться.
В углу загорелась икона, вновь наполняя хату светом.
В это время черт, размахивая мертвым Хвостиком, точно булавой, принялся бить домовых. Мавка больше не верещала. Смеялась злым смехом. От иконы пламя медленно поползло по стене.
Откуда-то появилась мышь и укусила Ваську на нос. Запищала снова о царстве навий и мышей, через каждое слово вонзая в рану зубы. Васька же мог только мяукать от боли.
Мышь упивалась этим так сильно, что не заметила, как подполз к ней раненый домовой, тот самый, который жил в хате с Хвостиком, замахнулся мечом и располовинил ее одним ударом.
– Да, Васька, опрофанились мы, – зашептал тот, сплевывая кровь. – Без нас село сгинет. У людей ума не хватит оберегами защититься. В лесу волколаки воют. От речки мавки идут. Мы, пока сюда бежали, двоих изрубили, и упыря одного. А ты сам знаешь, сколько в божедоме заложных накопилось. Не все, суки, там гнили, а выжидали часу подходящего. Дождались. Разгуляется нечисть. Они ж чуют такие места, как приключения сидальницу. – На его лице расцвела кровавая улыбка, покоробилась в болезненной судороге и тут же увяла. – Мор придет. Люд помрет. У тебя еще одна жизнь осталась. Печной тебе, небось, не сказал, дабы не огорчать, что тебя тогда котенком утопили. Так вот, еще одна жизнь у тебя осталась. Не знаю, когда ты родишься и где, но помнить будешь, что тут сталось, и расскажешь там всем, чтобы наши ошибок таких впредь не повторяли.
С этими словами домовой опустил ладонь на порванный нос Васьки. Прикосновение уняло боль.
– Живи, Васька, и помни.
Добрая сила перетекла из домового в Ваську, и через миг дух дома истаял призрачной дымкой, оставив черного кота смотреть, как мавка с чертом уходят прочь. Слышать, как ревет в колыбельке беспомощный Никитка.
Пламень жрал дерево. Мертвые домовые корчились на полу, обращаясь в ничто.
Бездвижный Васька плакал. Плакал по Печному, по Марусе, по Хвостику, по всем домовым, окончившим земное поприще, по обреченным сельчанам, по Мурке и ее рыжим котятам.
Но больше всего плакал он по Никитке, которого не мог спасти.
И как же радостно ему стало, когда, закашлявшись, Иван пришел в себя. Когда он достал из колыбельки Никитку и, прижимая его к себе, чтобы укрыть от огня, выбежал из хаты.
Хата до петухов костром светить будет, а нечистые от такого предпочитают держаться подальше. Да и люди на пожар сбегутся. В толпе Иван с Никиткой целее будут.
А утром, дай бог, Иван додумается унести сына подальше от обреченного места.
* * *
– Дима, ты совсем дурак или прикидываешься? Ну куда нам еще и это в квартиру? Тебе Русланчика мало?
– Не ругайся, Мась. Зима же скоро. Он или замерзнет, или от голода сдохнет.
– Угу. А так я его одной сиськой кормить буду, а второй укрывать. Спасибо, я пас.
– Не перегибай. Я ему завтра на рынке потрохов куплю.
Черный кот сидел на коленях Дмитрия и басовито урчал, не взирая на скандальные интонации людей.
– Конечно, я просто забыла, что ты у нас миллиардер, чтобы котам харчи отдельно покупать.
– Значит, супом своим буду делиться.
– Ага, супом. Будет он его жрать. Ты посмотри на эту морду. Сразу видно, что он к хренискасам всяким привык.
– Сама приглядись! Он худой, как глист, такой супу…
– Вот! Это его сейчас от глистов надо обработать. Прививки купить.
– Куплю.
– Лучше бы Русланчику памперсов про запас купил.
– Знаешь, Русланчику тоже в плюс пойдет, если в квартире животина будет. Я где-то слышал, что это снижает возможность развития аллергии.
– Вот! – Маша ткнула указательным пальцем вверх. – А что, если у Русланчика аллергия на котов?
– Точно.
– Вот видишь!
– Нет, я о другом. Кажется, я понял, почему Русланчик плачет, когда твоя мама к нам заходит. И сопельки у него начинаются.
– Дим, ты реально дурак?
– Нет, Мась. Просто осточертело, что ты меня постоянно пилишь! Он будет жить с нами, и точка!
– Я тебя пилю? – Маша затрясла головой.
Урчание смолкло. Дмитрий почувствовал, как напрягся кот, как кожу кольнули коготки.
– Тихо, тихо. Тетя не такая уж и страшная!
– Ты прикалываешься?
– Ну прости, Мась.
Кот зашипел.
– Да пошли вы оба!
Маша выскочила из кухни.
Кот проводил ее взглядом, наблюдая, как в такт шагам на ее затылке подпрыгивает серый пузырь.
– Ну, брат, это ты зря, конечно.
Дмитрий погладил кота и вернул урчание.
Из другой комнаты послышался голос Маши:
– Говорит, что пилю его. Представляешь?! А сам блохастого кота притащил. Да ты что, я пока ему объясняла, что нужно кота в приют отдать, штуки три на пол спрыгнуло. Я сама видела. Ага. А воняет как!
– Вот так и живем, – вздохнул Дима. – Нет, раньше она нормальной была. Это в последнее время ее понесло. Сам понимаешь, с ребенком целыми днями. Русланчик. Красавец. Весь в меня. Я вас познакомлю, но сначала тебя нужно выкупать, а то про запашок Масяня правду сказала.
Дмитрий предложил назвать кота Дартом Вейдером или просто Вейдером. «Да хоть сраным Готом», – отмахнулась Маша, но строго-настрого запретила подпускать кота к ребенку.
Ночью, когда Дмитрий встал в туалет, черный кот, которого в итоге окрестили Барсиком, бесшумно вошел в спальню. Запрыгнул на кровать, занес над головой Маши лапу и выпустил когти.
За два года скитаний ему удалось открыть в себе любопытные способности. Оказалось, что переданная домовым добрая сила не только подарила ему десятую жизнь да сохранила воспоминания о прежних воплощениях, но еще и наделила даром тактильного контакта с навьями.
Когти вспороли злыдня, точно гнойный пузырь, и тот растекся по подушке, а потом и вовсе исчез.
Барсик вернулся на кухню еще до того, как Дмитрий закончил внутренний спор: опустить стульчак или оставить поднятым назло Маше?
Маше проснулась совсем другим человеком. Улыбчивая, милая, ласковая.
После завтрака Барсик сидел в прихожей и наблюдал, как они занимались на столе сексом. Смотрел и по непонятным для него причинам не мог отвести глаз.
Потом его познакомили с Русланчиком. Разрешили обнюхать и даже потереться. Ребенок довольно агукал.
Выходя из спальни, Васька заметил какое-то движение в колыбельке, но не сменил маршрута. Лишь когти застучали по полу и на загривке чуть приподнялась шерсть.
Когда хозяева будут кормить Русланчика на кухне, он сюда еще вернется.
Касатики
Татьяна Верман
Машину подбрасывало на проселочной дороге, мотало из стороны в сторону, как корабль в бурю. Яна даже клацнула зубами, когда они ухнули в очередную колдобину. Желудок болезненно сжался, рот наполнился слюной с привкусом кофе и желчи. Ее всегда укачивало, но непрекращающаяся тряска рисковала избавить Яну от съеденного на заправке хотдога.
– Я сейчас умру, – простонала она.
– Салон мне не заблюй. – Антон вытащил из подлокотника мятные конфетки, из тех, что болтаются в машине, пока намертво не слипнутся с выцветшим от времени фантиком, и, хохотнув, протянул Яне: – На, пососи. Потерпи, скоро уже.
И правда, через пару минут ухабистая грунтовка свернула налево, и по обе стороны дороги стали появляться заброшенные дома. Выгоревшие на солнце, с чешуей облупившейся краски, они укоризненно таращились на незваных гостей темными провалами разбитых окон. Молчаливые, угрюмые, навсегда утратившие пламя домашнего очага и саму цель и смысл своего существования.
Изба Антохиных стариков выглядела чуть бодрее: поблескивала целыми стеклами, кичилась поросшей мхом крышей. Ворот на участке не было, только узкая калитка, повисшая на одной петле, так что машину притерли поближе к покосившемуся забору и оставили на дороге. Из приятной прохлады кондиционированного салона Яна нырнула во влажный жар июльского дня. От радостного волнения перехватило дыхание. Она хотела взять Антона за руку, но тот уже одолел скрипучую калитку и зашагал вглубь участка.
Бабушку Елизавету Львовну нашли рядом с курятником.
На шаги она не обернулась. Отточенным, доведенным до автоматизма движением швырнула связанную за ноги курицу на колоду и тут же обрушила сверху тесак. Плеснуло красным. Янин испуганный вскрик утонул в пронзительном визге обреченной птицы. Еще один удар оборвал предсмертные хрипы, с колоды в пыль скатилось что-то маленькое. Яна судорожно вздохнула и зажмурилась, а когда снова открыла глаза, Елизавета Львовна уже деловито подвешивала обезглавленную тушку на вбитый в стену курятника крюк. Кровь из раны на шее гулко капала в подставленное ведро.
Радостное предвкушение будто половой тряпкой стерли, на Яну опять накатила тошнота. «Зря мы приехали, – вдруг подумалось ей. – Зря я настояла». Дурное предчувствие скрутило внутренности в тугой ком.
– Ба, привет! – окликнул старушку Антон.
Та обернулась, и Яна вздрогнула от неожиданности: морщинистое лицо пересекали свежие брызги крови.
– Дернулась, зараза, – проворчала Елизавета Львовна. – Отвернула голову, дура такая, с первого удара зарубить не получилось, уделала меня всю. – Она размазала алые капли по лицу и тут же потянула к Антону губы. Он послушно наклонился, бабушка влажно клюнула его в щеку, оставив над щетиной смазанное пятно куриной крови. – Ну, здравствуй, внучек. Что-то вы рано, мы вас позже ждали. К столу еще ничего не готово.
– Ничего, мы не голодные. А деда где?
– В доме, отдыхает. На спину все жалуется, почти не встает. Кабы не издох. – В голосе не прозвучало ни намека на беспокойство или страх, только раздражение, будто смерть мужа стала бы досадной неприятностью, не более того. Старушка покачала головой и наконец повернулась к Яне, вперив в нее цепкий взгляд льдисто-голубых глаз. – Тощая-то какая, смотреть страшно.
Яна застыла, вежливая улыбка так и примерзла к губам. Она беспомощно оглянулась на Антона. «Я же тебе говорил», – ясно читалось на его лице.
– Ба, не начинай. Это Яна, невеста моя. – Антон приобнял девушку за плечи. – Янчик, это Елизавета Львовна, моя бабуля.
– Здравствуйте, рада знакомству.
Слова прозвучали заученно, фальшиво-радостно, будто Яна здоровалась с кадровиком на собеседовании, а не с единственной родней жениха. Сказала – и тут же замерла оленем в свете фар: что делать дальше? Обнять, поцеловать в щеку? Может, просто неловко махнуть рукой? Елизавета Львовна внушала ей смутное беспокойство, и хладнокровно забитая курица была здесь совершенно ни при чем – в конце концов, для деревенских дело обычное, даже обыденное. Нет, виной была сама старушка. Прорезь рта, будто лишенная губ, придавала ей сходство со змеей. Сгорбленное годами тело казалось уловкой, обманкой – в костлявой фигуре ощущалась скрытая сила.
Старуха снисходительно потрепала Яну по щеке. Шершавые пальцы царапнули кожу, как наждачка.
– Невеста, значит. – Она цокнула языком, покачала головой, добавила: – Зови меня бабой Лизой, – и, не оглядываясь, заковыляла к дому.
* * *
Внутри изба оказалась ровно такой, как ожидала Яна: бревенчатые стены украшали вышитые тканевые полотенца, на окнах колыхался пожелтевший тюль; глаза приковывал большой красный угол с жутковатыми растрескавшимися иконами. Почти в самом центре горницы стояла здоровенная печка. Яна никогда раньше не была в деревне и настоящую русскую печь тоже видела впервые. Громоздкая серо-белая громадина в угольных подпалинах внушала благоговейный трепет. Яна осторожно прикоснулась к шероховатому боку и ощутила укол разочарования – холодный. Ей хотелось забраться на лежанку и ощутить приятный жар спиной, хоть на миг почувствовать себя частью многовековой традиции. Но закрытая заслонка напоминала прикрытое веко дремлющего чудища – печь впала в спячку. Или погибла?
Яна вдруг поняла: уютную деревенскую реальность уродовали аляпистые заплатки современности. В углу горницы обнаружилась плита, присосавшаяся к красному газовому баллону, а рядом, на грубо сколоченном столе, поблескивала серебристыми боками новенькая микроволновка. Антон давно оставил попытки вывезти стариков в город – да и, если быть совсем честным, так ли уж он этого хотел? – поэтому старался откупиться от чувства вины техникой и другими полезностями. Так во дворе появилась колонка, а в доме – маленькая, но вполне сносная плазма. Единственное, на что ни в какую не соглашалась баба Лиза, так это на осовремененный туалет с септиком. На заднем дворе особняком стояла тесная вонючая кабинка с прорубленным в потемневших досках окошечком-ромбиком.
– Не вздумайте выходить из дома ночью, – сказала старушка, когда на улице стемнело. – Я оставила в сенях отхожее ведро.
Петр Алексеевич внезапно ожил и не то застонал, не то заскулил. За весь вечер дед не проронил ни слова – даже когда Антон представил ему невесту, тот лишь молча кивнул и сразу отвернулся. В мутных глазах старика вечно стояли слезы; двигался он медленно, явно превозмогая боль, и за ужином едва мог удержать ложку распухшими узловатыми пальцами. Иногда он проносил еду мимо рта. Ошметки вареных овощей повисали на седой всклоченной бороде, и тогда Елизавета Львовна ловко вытирала подбородок мужа застиранной салфеткой. Яна почему-то решила, что дед немой; она сразу представила, что в глубине стариковского рта ворочается обрубок языка, весь усыпанный язвочками и мелкими нарывами. Тем неожиданнее стало его протяжное жалкое хныканье.
– Ну чего ты, сейчас спать пойдем, потерпи, – одернула его баба Лиза и снова повернулась к молодым: – Если сикать-какать в ведро соберетесь, водой потом залейте, чтобы не так воняло.
– Да мы до туалета дойдем, – попробовала возразить Яна. Тащиться до сортира в потемках приятного мало, но еще меньше ей хотелось корячиться над ведром. – У нас фонарики на телефонах есть, подсветим, дорогу найдем.
Дед опять приглушенно завыл и затряс головой.
– Я что сказала?! – нахмурилась баба Лиза. – Бродют в ночи всякие, так что из дому ни ногой! Если говорю – ведро, значит, только ведро и есть. Послал же господь бестолковую невестку… Дверь я уже на задвижку закрыла, и тю-тю. Окна тоже не трогайте.
– Кто бродит? – удивилась Яна. Антон только головой помотал, мол, не слушай стариковские бредни.
Но баба Лиза, похоже, больше ничего не собиралась объяснять, взяла мужа под локоть и, бубня себе что-то под нос, медленно повела его в спальню. Глухо бухнула дверь, молодые остались в горнице одни.
Спать легли на полуторной панцирной кровати: кое-как скрючились, тесно прижались друг к другу, провалились в зоб провисшей скрипучей сетки. Как ни пыталась Яна улечься поудобнее – все тщетно, сквозь тонкий бугристый матрас в тело пиявками впивались металлические завитки. Но коготки обиды и разочарования врезались куда глубже.
– И чего она на меня так взъелась? – зашептала Яна на ухо Антону.
Зарождающиеся слезы щипали глаза. В своих мечтах Янка видела румяную бабушку с пирожками наперевес и веселого деда-шутника, а не ворчливую каргу и больного молчуна. Вот уж повезло с будущими родственничками! С другой стороны, своих у детдомовской Яны не было, поэтому нос воротить не приходилось.
– Я же предупреждал, что бабуля та еще грымза, – хмыкнул Антон. – А ты все «поехали, поехали».
Его слова покоробили Яну, но она смолчала, не хотелось опять поцапаться из-за ерунды. Ей вдруг привиделось перекошенное от злости лицо Антона, его раздутые ноздри и ощеренные зубы, но она поспешила выбросить жуткое воспоминание из головы. Было и прошло, больше не повторится – он обещал.
– А что за история про «бродют в ночи всякие»? Тут что, медведи или волки водятся?
– Ага, шляется тут один волчара. – Пальцы Антона сжали Янкин сосок и тут же нырнули к ложбинке между ног. – И куснуть может за одно место.
– Ты с ума сошел? – Яна отпихнула его руку. – Услышат!
– Тогда давай на печке? Она скрипеть не будет.
– Совсем уже? Прекрати!
– Ну и спи тогда, – разозлился Антон и демонстративно отвернулся лицом к стене, чуть не выпихнув Яну с кровати. Через пару минут он уже вовсю сопел.
А вот Яне все никак не удавалось провалиться в сон, как она ни вертелась на краю постели и ни жмурила глаза. Что только не лезло в голову – и истекающая кровью безголовая курица, и подернутые пленкой глаза Петра Алексеевича, и даже дурацкая присказка «Сплю на новом месте, приснись жених невесте». Хуже того, ей стало казаться, что изба живет своей жизнью: тихонько поскрипывает, шуршит по углам, почти что вздыхает, словно дряхлое измученное существо. Из-за закрытой двери доносился сиплый храп кого-то из стариков, под боком успокаивающе посапывал Антон, но Яна все никак не могла избавиться от ощущения, что в сонную симфонию вплетаются лишние звуки.
Она приподнялась на локте, напряженно вслушиваясь. Точно! Кто-то тихонько скребся, царапал по дереву коготками, все настойчивее, все громче. Яна повертела головой, пытаясь отыскать источник звука. Сердце тревожно заходилось в груди, эхом отдавалось в ушах: неужели и правда под окнами шарахались дикие звери? «Не дури, они внутрь не заберутся. Ни один волк не снесет задвижку, какой бы хлипкой она ни была. А если это медведь, то…»
Поток лихорадочных мыслей оборвался, Яна вдруг поняла – скребутся под полом.
В то же мгновение с улицы послышался протяжный жалобный крик.
– Да что же это… – пробормотала Яна. Она вжалась в кровать, слепо пошарила рукой, пытаясь растолкать Антона. – Проснись, проснись, ты слышишь?
Он только сонно забухтел, сбросил ее руку, натянул одеяло на голову – его и в лучшие дни невозможно было добудиться.
Горестный вой повторился вновь. Близко, так близко, будто его хозяин уже разгуливал по участку. Яна нащупала под подушкой смартфон и включила фонарик. Ослепительный луч заметался по горнице, выхватывая из мрака бревенчатые стены и белые печные бока. Дрожащая полоса света лизнула пол, и Яна вскрикнула: ей почудилось, что одна из досок чуть приподнялась, будто кто-то толкал ее снизу.
– Тоша… Проснись, Тош!
В ответ – тишина. И как можно спать, когда творится такое?!