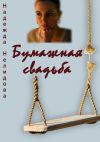Текст книги "Черный клевер"

Автор книги: Елена Вернер
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Да, сразу. Хочешь, проверь. Говори мне факты о себе, а я буду отвечать, правда это или ложь. Давай проверим!
Лора скривилась. Затея не казалась ей стоящей: вряд ли этот красавчик-попрыгунчик может быть хорошим психологом, а не изображать его ради впечатления. Но решила, что лучше не тратить время на бессмысленный спор.
– Ну хорошо… – она закатила глаза, стараясь припомнить или придумать что-нибудь. – В школе я была отличницей.
– Вранье.
– Э… Я не люблю цветы.
– Правда.
– Ладно… Я… Мне не нравится гулять с тобой по городу.
– Врешь, нравится!
– Моя мать живет у моря.
– Правда.
– Мой папа… живет в другом месте.
Сева сощурился.
– Хм. Полуправда. Он не с твоей мамой, но… Я понял, да. Его уже нет с нами.
Лора перестала издевательски улыбаться:
– Как ты это делаешь?
– Давай дальше, мне интересно! – Сева махнул рукой, подгоняя.
Но тут уж Астанина воспротивилась:
– Так не пойдет. Получается игра в одни ворота!
Сева с готовностью кивнул:
– Справедливо. Тогда пара слов обо мне: отличником я не был, был троечником. Цветы я люблю. Моя мама живет в Черемушках, а отец бросил нас, когда мне исполнилось четыре. Хотя знаю, что в прошлом году он умер. И мне тоже нравится гулять с тобой по городу…
«Если долго глядеть ему в глаза, начинает укачивать, – с досадой поняла Лора. – И если говорить, тоже».
– И все-таки, – не сдалась она. – Как ты понимаешь, когда я говорю правду, а когда – нет?
Сева сунул руки в карманы и побрел вперед:
– Умение распознавать блеф… Не знаю, мне кажется, это врожденное. Видимо, считываю мимику лучше других. Сложно объяснить словами, это неуловимо. Ты ошиблась, когда назвала меня золотым щенком. Щенок – возможно, но уж ничего золотого у меня в помине не было. Мама, сколько ее помню, работала научным сотрудником в Республиканской детской библиотеке, отца не было. В двадцать лет я стал играть в покер и на бирже. В двадцать три купил себе квартиру, кровно заработанную. В двадцать четыре проигрался почти в пух. И решил, что надо бы с этим завязать. С тех пор я юрист. Не фотограф, как ты изволила домыслить в прошлую нашу встречу. Не тусую в клубах и не нюхаю кокаин. Еще у меня есть диплом психолога-переговорщика, так что если надумаешь бросаться с крыши – звони. Я подтолкну.
Так они и шли, все дальше и дальше. Астанина давно не чувствовала ног, слишком сильно они устали. Но и прощаться с Севой не торопилась.
Несколько остановок на полуночном троллейбусе, и вот они присели на лавочку в каком-то опустелом дворе. С шипением открыли газировку и пили бьющую в нос жидкость, припадая к горлышку по очереди. Давненько Лора не сидела ни с кем на улице, вот так, по-простому. Такое родное, забытое состояние, казалось, что она снова юная, измотанная долгими шатаниями с приятелями, что сидит на рваной покрышке у костра на задах фабрики, на пустыре, заросшем крапивой и репейником, и вот-вот кто-то начнет бренчать на гитаре.
Разговор пересох, как слишком бурный паводковый ручей к середине лета. Лора боялась, что готова рассказать о себе больше, чем позволительно, и потому решила и вовсе помалкивать. Не то диплом переговорщика, не то обаяние делали Севу слишком привлекательным для синдрома попутчика, для той самой роли, что обычно безропотно принимала на себя Лора, не в силах сама никому выплакать свою беду.
Она на мгновение прикрыла глаза. И тут же вздрогнула от вопля. Слов было не понять, но звук отличался от радостного, или пьяного, или агрессивного. Это был крик боли и мольба о помощи, его ни с чем не спутать. Лора подскочила – Сева уже был на ногах.
– Там! – указал он на угол дома и помчался без раздумий. Устремляясь следом, она успела отметить про себя, как тихо его подошвы касаются асфальта. Топот кошачьих лап.
Из-за раскидистой черемухи, уже набирающей цвет, собранный пока в кисти зеленоватого горошка, Лора уже увидела все. Распахнутые двери «Приоры», водительскую и обе задних, два резко двигающихся человеческих очертания, неясную тень еще одного, лежащего на земле. Двое пинали третьего ногами, отчаянно матерясь. Тот уже не кричал, лишь поскуливал, взвизгивал каждый раз, когда носки ботинок с размаха встречались с его ребрами, солнечным сплетением, поясницей. Он свернулся, сжался в комок, обхватив руками голову.
– Ах ты гнида. Будешь знать… России тебе захотелось? Бабла заработать? А вот так! Вот тебе бабла! Вали обратно к своим чуркам, – приговаривал крепкий детина, осыпая его пинками. Второй, в шапке или берете – на таком расстоянии не разглядеть, – метелил молча. Он-то и услышал шаги Лоры и Севы первым, отскочил, завертел головой настороженно.
– Эй! – тут же прикрикнул Сева на бегу.
Сознание Лоры регистрировало все происходящее, как сейсмограф. Она заметила, что Сева даже не думает замедлить движение и скоро ястребом налетит на парней. Что детина всем телом уже поворачивается к ним, готовясь давать отпор. Что до столкновения еще метров тридцать, а двор темен, и ближайший фонарь слабенько светит лишь у детской площадки. Последний мгновенный взгляд, чтобы убедиться, что Сева не спасовал, – нет, он уже готов к схватке, как и она. Шансы? Невелики, если избитый не встанет и не поможет им, Севе и Лоре не одолеть двух бугаев. И тогда в ее голове почти зримо загорелась красная лампочка озарения. На шее-то, на черном кожаном шнурке, под блузкой, висит ведь не крестик, и не подвеска (верить в Бога и украшать себя она давно зареклась)…
Дремоту ночи разорвала яростная трель милицейского свистка. Истерично, безжалостно, с угрозой. Парни как по волшебству отскочили в сторону от избитого ими человека.
– Менты, валим! – приказал детина, и они бросились в ближайшую арку, ведущую на оживленную улицу. Меньше пяти секунд понадобилось им, чтобы исчезнуть, и ровно столько же, чтобы Сева и Лора подбежали к ничком лежащему мужчине.
– Эй, брат, ты как? – Сева присел на корточки, осторожно, но настойчиво оттягивая от головы руки избитого. Тот еще вздрагивал, хватал ртом воздух, силясь что-то сказать. Почувствовав, что угроза миновала, он попытался встать, упал навзничь и попытался снова, гротескно напоминая новорожденного осленка, только очень уж истерзанного.
– Тихо-тихо, не торопись. – Сева взял его за плечи и усадил, поддерживая под спину. Покосился на Лору ошалело: – Милицейский свисток, серьезно? Его ж уже лет пятьдесят не используют.
– А эффект еще есть. Остаточный, – отозвалась Лора. – Видимо, на подкорке закрепился…
Избитый мужчина оказался таксистом-частником, родом из Средней Азии, а парни – его пассажирами. Всхлипывая и сплевывая кровь, которой наполнялся рот, он поведал, что взял их на Шаболовке и привез сюда, а платить они не стали, и вместо этого принялись оскорблять, за шиворот выволокли из машины и повалили на землю. Таксист рассказывал еще что-то, но Лора не могла разобрать, из-за пары выбитых зубов его дикция пострадала, а знание русского языка и без того, видно, не славилось совершенством. Наконец он поднялся на ноги, покачиваясь, как пьяный.
– Я сейчас полицию вызову! Хулиганы! – вдруг угрожающе прокаркали откуда-то с верхних этажей. Сева задрал голову, и лицо его стало неожиданно свирепым.
– Давно пора! – проорал он.
Окно с грохотом захлопнулось.
– Где ваша бдительность, когда она действительно нужна, добрые вы люди… – в сердцах выпалил Сева уже тише, но с не меньшим пылом.
Поверхностный осмотр таксиста не показал серьезных повреждений. Более того, когда прошел первый шок, мужчина начал рассыпаться в благодарностях, и сливовые глаза его увлажнились.
– Ничего, брат, не надо, – отмахивался Сева.
Лора собиралась везти мужчину к врачу, но тот испугался, замахал руками, и тогда она сообразила, что страховки у него, конечно, нет, а возможно, и регистрации.
– Тогда хоть в аптеку?
– Аптека – можно, – согласился таксист робко.
Лора уговорила его сесть назад и предоставить ей возможность рулить. Сева устроился на соседнем с ней сиденье.
Теперь, когда острота момента уже отступала, Лору настигало удивление. Похоже, она и правда готова была драться с этими парнями. Прекрасно понимая, что не сможет их одолеть. Такая была отчаянность в ее решимости, что это даже пугало. А если бы случилось что-то серьезное?.. Хотя… Какая разница, сама она давно уже лишь пародия на человека, никто о ней не печется. Вполне предсказуемый мог быть итог. В подворотне. И поделом ей…
Странно, однако, что Сева тоже был готов идти до конца. При всей своей благонадежности и положительности он представился на мгновение ловкачом с Хитровки[5]5
Хитровка – до начала XX века московский район, дурно славившийся своими трущобами, кабаками и притонами.
[Закрыть], лихим, резким и опасным, как бритва, готовым без промедления ввязаться в потасовку. Не хватало лишь картуза, жилета на алой подкладке и скрипучих сапог. Какой внутренний зов так влек его к драке, что он даже не попытался избежать ее? Так не похоже на осторожничающих горожан… Не будь у Лоры свистка, сейчас они бы зализывали раны втроем. И это еще в лучшем случае.
Из размышлений ее вывело пиликанье незнакомого телефона. Таксист с кряхтением перегнулся вперед, взял с панели простенький дешевый мобильный и ответил на звонок. Говорил он на своем гортанном языке, и голос его был мягок, негромок и спокоен – так рассказывают родным о дне, прожитом без происшествий. Потом в разговоре возникла пауза, словно мужчина дожидался чего-то или кого-то. И вот он забормотал еще ласковее, еще тише. Усмехнулся, дважды повторил один и тот же вопрос, деланно удивился. Лора увидела почти наяву, что где-то там, в сотнях километров от московских улиц и того темного двора, где на асфальте остались кровь и пара зубов, в тепле южной ночи на ковре сидит ребенок, девочка или мальчик, с темной головенкой и такими же глазами-черносливами, неумело прижимает к уху телефон и слушает отцовский голос.
И вдруг таксист запел. Неторопливо, даже заунывно. Мелодия была незамысловатая, с несколько раз повторяющимся припевом, плавная и убаюкивающая. От нее веяло дыханием степей, лунным светом, жарким ночным ветром, сладкими снами ребенка. Лора нашла в зеркале заднего вида лицо избитого таксиста. Он старательно выводил звуки напева, крепко зажмурившись, и едва заметно улыбался. На щеке у него уже наливался мешковатый кровоподтек.
Астанина подумала о своем сыне.
Когда телефонный разговор закончился, никто в салоне не проронил ни слова. На светофоре, пока Лора держала рычаг коробки передач, на ее руку сверху легла ладонь Севы.
От того, что они больше не увидятся, у Лоры запершило в горле.
Часть вторая
Дневник Велигжанина (начало)
15 (2) марта 1932
Она царит над всем городом. Стройная, розовая, жестким каменным своим нарядом с фижмами опирающаяся на земную твердь государыня. И как царица не принадлежит своей свите, так и Башня не принадлежит нашей столице. Она – другая. Больше, выше, крепче. Словно исполин, рожденный в доисторические времена. Да она такая и есть, рожденная до всех нас, до всего этого. Она и сейчас – как на полотне Саврасова, огромная мощь, устремленная ввысь – посреди пустынных и заснеженных земель. Чужеродная, неуместная. Прекрасная и грозная. Только полнейший безумец, человек, потерявший всякое представление о пространстве, времени и своем месте в этом хронотопе, мог рискнуть и возвести эту громадину в чистом поле. А впрочем, это и есть наше, исконно русское. Вспомнить ту же изящную церковку Покрова-на-Нерли, что во Владимире. Венец творения посреди заливного луга, словно бы и не нужный никому. В весеннюю распутицу – не подступиться, вода лижет плиты у входа. В этом вся Россия: всегда горазда создать нечто настолько удивительное, насколько и неприкаянное. К чему?..
А Сухарева башня… Конечно, тогда, в годы создания, она была не просто башней, но – воротами, встречающими каждого, кто приближался к городу с севера. Не в чистом поле, ясное дело, вокруг нее раскинулись слободы, но в какое они шли сравнение с ней. С ней! И без того высокая, да еще на возвышенности земляного вала. Я бы отдал многое, лишь бы оказаться в тех временах и хоть глазком взглянуть на нее, ту, грозную и ликующую, скорее Брунгильду, чем Цирцею.
Иногда мне кажется, что Башня – первое мое детское воспоминание. Когда я размышляю о себе маленьком, только-только научившемся видеть и ощущать мир, я думаю не о шелковых рукавах матушкиного платья, не о жаре потрескивающего камина и не о крепких пальцах Матрены Семеновны, моей доброй няньки… Я думаю о ней, о Башне. Как увидел ее впервые – ехали тогда говеть в Лавру – и как она меня потрясла. Самая первая любовь моя, которая осталась горячей любовью на всю жизнь. Люди вокруг меня сменились, страна сменилась, что и не узнать. А Башня – вот она, стоит как ни в чем не бывало, и так ей смешны все наши перемены, что я почти вижу ее лукавый прищур. Колдунья среди трамвайных перезвонов…
Я помню ее, когда ее верхушку еще венчал двуглавый орел. Я помню ее сизой, грозовой тюремщицей, облепленной снегом – и легкой, задорной любовницей, в пеньюарно-шелковых рассветных лучах июня.
Проходил мимо сегодня, остановился, как это часто водится за мной, и таращил глаза, пока меня извозчик не окликнул. Какая-то баба, по всему видать, что вчера из деревни – платок до глаз намотан, юбка вся в брызгах, с темным намокшим подолом, из корзины синюшные куриные лапы торчат, – рядом со мной стояла и тоже любовалась. По-своему. Ладонь к глазам приставила, чтоб солнце не слепило, и все причитала:
– Батюшки, вот ведь громадина-то какая… Это ж надо…
Потянулась было ко лбу, перекреститься, но зыркнула на меня опасливо и опустила руку. Тогда я решил ее не смущать и пошел прочь. И все думал – почему она хотела креститься? Что такого внушила ей Башня? Что зашевелилось в этой боязливой и суеверной крестьянской душе…
Может быть, она припомнила когда-нибудь слышанные байки о чародее и алхимике Якове Брюсе и его дьявольской Башне, взлетающей в исчерканное вороньими стаями небо? О, эти городские легенды, от которых кровь стынет в жилах! Я и сам, бывало, затаивал дыхание, когда Матрена Семеновна рассказывала мне об этом. Мороз ткал белые саваны по окнам, я прикладывал ладонь к колючим стеклам и ждал, пока они оттают под моей кожей, а нянька вполголоса начинала, сдавшись наконец моим мольбам (слушать эти истории мне никогда не наскучивало):
– Давным-давно…
– Когда давно? Когда тятя был маленький?
– Не перебивай, Миша, нехорошо. И – нет, не когда ваш батюшка был маленьким, а намного раньше. Когда даже ваш дедушка и прадедушка еще не родились. Так вот, жил тогда в Москве один колдун, Яков Брюс. Обитал он на самой верхушке башни, и было у него там много всяких чудес. Книги с заклинаниями волшебными, пузырьки с живой и мертвой водой, даже дракон жил. Однажды царь Петр приехал к нему и говорит: «Ну, показывай, дорогой мой друг, что у тебя тут интересного? Чем удивишь?» И позвал Брюс свою прислужницу. Заходит в комнату девица красоты небывалой, и смотрит скромно, и на стол яства ставит. Глаза черные, коса в мою руку толщиной, и прямо до пят, а уж лицо – один раз взглянешь, так до смерти и будет перед тобой стоять. А царь Петр смотрит на нее во все глаза, налюбоваться не может. И стал он Брюса уговаривать, чтобы тот прислужницу свою к нему в Петербург, во дворец отпустил. Подарил, так сказать. А Брюс говорит: «Ваше величество, нет у меня никакой прислужницы…». «Да как же нет? – удивляется Петр Алексеевич. – Вот она, ходит, да не ходит, а словно бы порхает…» Тогда Брюс пальцами щелкнул, прошептал что-то, и девица пропала, растворилась в воздухе, и только несколько птичек взлетели с того места, где только что она была…
– А куда она делась? – спрашивал я, не в силах усидеть на месте, и теребил руку няни.
– В том-то и дело, что некуда ей было деться. Говорят, это была сама душа Сухаревой башни. В народе ее прозвали с тех пор Сухаревой барышней.
– А зачем царю нужна была девушка? У него же царица?
Помню до сих пор, с каким мастерством и деликатностью Матрена отвлекла меня от вопроса о царице и прислужнице, начав рассказывать о железной птице, которую Брюс смастерил в подземельях и на которой летал в гости к царю в Петербург и по другим своим надобностям. Я заметил тогда, что кормилица не ответила на мой вопрос, но я был довольно покладистым ребенком, и решил не донимать ее.
Это потом уже я узнал, что Брюс вовсе не был колдуном, таким сделали его недалекая молва и городские сплетни темных людей. А был он ученым, русским шотландцем Яковом Виллемовичем, родившимся в Немецкой слободе в Лефортове, астрономом и физиком, переписывался с Лейбницем и учился, говорят, у самого Ньютона. И Сухаревой барышней звали не дух, обитающий в каменных переходах, а саму Башню, раз за разом обручая ее с кремлевской колокольней Ивана Великого – видно, из непременной русской страсти всех сосватать и переженить… Что ж, я могу это понять, она и сейчас – грозная доминанта этой части города, и если бы оба строения были одушевленными, боюсь, Ивану Великому ни за что было не сладить с такой своенравной невестой.
Теперь я все чаще размышляю о том, какие причины заставили меня выбрать архитектуру своим призванием. Я смотрю на молодое поколение, моих слушателей курса истории и теории архитектуры, сперва во ВХУТЕМАСе[6]6
ВХУТЕМАС – Высшие Художественно-Технические Мастерские в Москве в 1920–1930 гг. (с 1926-го – ВХУТЕИН).
[Закрыть], теперь в архитектурном, и вспоминаю себя, юнца, бредившего зданиями. Мои теперешние студенты мыслят категориями, лозунгами, им подавай что-нибудь утилитарное, практичное. И хотя попадаются исключения, даже эти светлые головы принижают достоинства классики и возвышают недавние творения конструктивистов. Да, ребята из ОСА[7]7
ОСА – Объединение Современных Архитекторов – творческая организация архитекторов-конструктивистов (братья Веснины, М. Гинзбург, В. Татлин).
[Закрыть] взбудоражили молодые умы, этот безудержный полет фантазии, эти спирали, цельные металлические конструкции, максимально облегченные и довольно техногенные, кажутся порой верхом человеческо-инженерной мысли. Художественность нынче не в фаворе. А я… Человек, что называется, старой школы. В юности все, что когда-либо соорудил род людской, казалось мне чудом. Не только пирамиды или соборы с дворцами, но даже обычные жилые дома. Не землянки ведь, не гнезда птичьи из веточек и плевков, а настоящие каменные колоссы, выверенные, рассчитанные, не только предназначенные для житья-бытья, но и для души, духа, красоты. На это не способно ни одно живое существо, кроме человека. Конечно, я не говорю об избах, но даже деревянные терема стоили неимоверных усилий, замыслов и трудов.
Не знаю, откуда пошло это увлечение мое. Может, даже от рассказов Матрены про Башню – или от самого вида ее, так меня поразившего. Или, может, в голове что-то перещелкнуло, когда я увидел на Якиманке сказочный дом-шкатулку: новехонький, только тогда выстроенный особняк Игумнова, о котором ходили всякие россказни. Это сейчас в нем Институт мозга, и я не могу пройти мимо без мысли о том, что там, в дальней комнате под замком, в какой-нибудь стеклянной банке с формалином плавает выдающийся мозг нашего вождя – и много еще каких других мозгов, теперь уже совершенно бесполезных, только если ученым не удастся разгадать их экстраординарность с помощью микроскопов. А тогда это был мифический дом-ларец, в котором пол устелен золотыми червонцами, а в стене замурована неверная красавица, изменившая хозяину с другим и дорого за это поплатившаяся. Москвичи моих эстетических восторгов отчего-то не разделяли, говорят, большое было недовольство от его внешнего вида, и зодчий Поздеев якобы даже от этого не то повесился, не то отравился – не вынеся осуждения.
Эта история потрясла меня, и я проплакал два дня от обиды и жалости к бедному архитектору. Впрочем, потрясало меня в то время многое, я рос впечатлительным и болезненным ребенком, и каждый выход из дома становился для меня приключением. Все, что я видел за порогом, западало мне в мысли надолго, и во времена долгих простуд и горячек не было иного развлечения, как, обложившись книгами и альбомами, откинувшись на высокие подушки в жарко натопленной комнате, рисовать по памяти любимые дома и места. После смерти моей дорогой матушки я стал разбирать сундуки с разным добром и наткнулся на один, до половины наполненный этими чертежами, рисунками и набросками, сделанными еще нетвердой рукой, – оказывается, она все это хранила. Да, книги и здания, они остались со мной на всю жизнь и определили того, кто я есть сейчас.
В бытность гимназистом и тем более студентом я провел столько дней на Сухаревской толкучке, что и не сосчитать. И опять она, Башня, следила за мной зорким оком часового циферблата, пока я продирался, распихивая толпу локтями, от одной палатки букиниста к другой. Она словно проверяла, не сбился ли я с пути, следую ли по той дороге, на которую она вывела меня. А сколько сокровищ таили тогда развалы вокруг нее! Посреди рыночного шума и гама я – да и каждый, кто туда забредал, – чувствовал себя искателем клада, который только и ждет, чтобы прыгнуть мне в руки. Я, конечно, не говорю о подделках, их там было навалом, но у меня хватало ума, чтобы не поддаваться на уговоры и не приобретать «нового Репина», колье с бутылочным стеклом вместо изумрудов и «скифское серебро и злато» из старой латуни, меди, мельхиора и бог знает чего еще. Или просто не хватало свободных денег, чтобы прикупить что-то эдакое, сверх моих скромных нужд.
Словом, меня тогда интересовали только книги. Я перебирал их затертые корешки, выискивая какую-нибудь диковинку, или брал из протянутых рук торговца учебник, найденный по моему, недельной давности, заказу. История, философия, искусствоведческие записки… Именно там был куплен мой любимый иллюстрированный альбом с видами Венеции с отличными фототипиями. С ним я почти не расставался и листал каждый вечер. Увесистый том «Построения частей зданий» раскрыл мне премудрости способов проверочного расчета и определения размеров конструкций, к тому же он содержал 24 хромолитографированных таблицы с чертежами. Томик Вольтера в кожаном переплете достался даром, и то только потому, что я поймал за руку щипача, проворно обчищающего карманы какого-то господина в котелке, и тот в благодарность велел мне выбирать любую книгу с прилавка. И пока я шел восвояси, меня прошибал пот при каждом резком вскрике: мне чудилось, что обиженный неудачей вор вот-вот хватит ладонью по моему худому плечу, осклабится, сверкнув фиксой, – и выместит всю гамму чувств на мне. А на самом деле его, верно, уже и след простыл…
Что-то сегодня потянуло меня на ностальгию. Вот и моя Идалия Григорьевна ворчит, велит гасить лампу и идти спать. За все эти годы супружества – подумать только, в будущем месяце будет 19! надо бы не забыть… – она так и не смирилась, что ночами мне хочется сидеть и размышлять, в тишине и чтобы никто не тревожил. Она ворочается и ждет меня в постели, покашливает, намекая, что не спит, а потом встает, и я слышу не то стуканье, не то шарканье ее комнатных туфель по паркету. Я сижу за шторкой, а она все ближе и ближе…
– Еще минутку, – сказал ей, а тетрадку прикрыл чертежами, будто работаю. Жена не любит, когда я веду дневник, ее это нервирует. Сейчас она вздохнула, тяжко, но отчитывать не стала. Наверное, боится за мое сердце, под вечер опять давило и стискивало. Кажется, будет снегопад. Доктора велят побольше отдыхать.
Да, еще минуточку. Была какая-то мысль. Ах, да. Ностальгия. Все это оттого, что теперь так стремительно меняется мой город. Сегодня опять собирались, заседали всем комитетом, спорили до сиплых глоток. Тема все та же: «Новая Москва», «Большая Москва» – как ни назови. Что где расширять, что где сносить и застраивать. На душе неспокойно. Прожектов много, толковых мыслей много, согласия только нет и быть не может, у каждого свой взгляд. Народу много, в том числе мыслящего, хотя и не все попадают в эту категорию, однако Москва одна. И неплохо бы это осознавать.
17 (4) марта 1932
Сегодня мне снилось, что я будто бы птица, но при этом – я. Летаю над Москвой и то присяду на колокольню Страстного монастыря, то посижу на Башне. Город с высоты птичьего полета виден во все стороны – такая красота… А потом меня вдруг утягивает вверх. Такое тревожное, засасывающее чувство. И вот я уже настолько высоко, что все теряется и распадается на куски, и я не могу разобрать привычных очертаний и ориентиров, путаюсь в сторонах света. И мне хочется вернуться на землю, но так страшно. И отчего-то даже немножко… лень, что ли… Словно никто меня там уже не знает и не ждет.
18 (5) марта 1932
Город завалило снегом, щедрым, мартовским. Деревья и кусты, еще вчера разносортные, все сегодня – хлопковые, в больших кусках налипшей ваты.
Идалия Григорьевна поехала навестить родителей в Ленинграде, а меня работа не отпускает. Впрочем, не могу сказать, что меня это удручает, скорее, даже наоборот.
Пишу уже за полночь. Голова идет кругом, меня бросает то в жар, то в холод, и я все не могу понять, отчего. То ли выпитого на дне рождения у Ратникова было много, то ли есть этому и другое объяснение.
Ратников – председатель нашего комитета, и других замечательных постов и званий у него предостаточно, но даже этот факт не подготовил меня к тому, какой размах приобретет празднование его юбилея.
К семи часам я прибыл в его особняк в Замоскворечье. Конечно, он с семьей занимает там только флигелек, но все же жилищные условия у него – не в пример лучше всех, где мне доводилось бывать, по крайней мере, после революции и после уплотнения. Я был к такому не готов и тут же оробел. Смешно – мне сорок три года, почти старик, а я все еще чувствую себя не в своей тарелке, когда оказываюсь среди незнакомой публики. Все эти банкеты и званые ужины не для меня. Нет во мне не только светского лоска, но даже мало-мальской общительности, обязательно тут требуемой. А в наступившие времена, когда все больше в закоулочках возникает разных недобрых слухов и про Кремль, и про серые строения на Лубянке, как-то и вовсе знакомиться не хочется. Но поздравить человека с юбилеем все же надо. Не потому, что начальник, а потому, что я к Алексею Семеновичу очень тепло отношусь.
И вот я подал пальто домработнице в передней и встал, переминаясь с ноги на ногу. Старый отцовский фрак – откуда бы еще у меня таким изыскам взяться, как не по наследству? – чуть мал в плечах, и на рукаве прореху Идалия Григорьевна накануне лишь заштопала, правда, совсем невидно, надо отдать ей должное. А вот запах нафталина никуда не делся, и мне все казалось, что несет от меня за версту… Из гостиной доносились голоса, не то чтобы много – но мне уже достаточно, чтобы совсем упасть духом. И тут выпорхнула из дверей Марта, лукавая ратниковская женушка. У меня к этой женщине отношение очень смешанное. Есть в ней что-то сложное для понимания, второе дно, и хорошо, если дно, а не прорва, – и тем непонятнее, что она скрывает это под убийственной вуалеткой радушного гостеприимства и громкого обаяния. Невысокая ростом, вся мягонькая, с плавными движениями холеных маленьких рук, она радостно выбежала ко мне и расцеловала, а потом повела к гостям, торопливо шепча:
– Тут все знакомые, у нас, Михаил Александрович, сегодня по-простому! Одни архитекторы да скульпторы с супругами, вы, должно быть, знаете их по работе, ваш круг-то невелик. Тот же товарищ Жолтовский[8]8
Жолтовский И. В. (1867–1959) – российский и советский архитектор, художник, представитель ретроспективизма (т. е. освоение архитектурного наследия прошлых эпох) в архитектуре Москвы.
[Закрыть], к примеру. Он там, у камина, косточки греет. Еще пара художников. И моя подруга Нина Вяземская, бедняжка совсем заскучала. Ах да, еще Сытин.
Услышав знакомую фамилию, я приободрился. Сытин Павел Васильевич – мой давний товарищ и коллега, мы восемь лет назад часто общались с ним, когда я принимал участие в реставрации Башни. Она – наша общая страсть, Сытин потом и монографию опубликовал, серьезное исследование. А сейчас он и вовсе как бы ее хозяин, потому что директорствует в Коммунальном музее, который там расположился. Счастливец! Всегда обходительный, плотный, с круглым лицом, с первого взгляда он может показаться простоватым, но уже на второй минуте разговора невозможно не заметить гибкий ум и чувство юмора, обитающие за сим непримечательным фасадом.
Словом, все оказалось не очень страшно. Я поприветствовал знакомых, рукопожатия, хлопки по спине, тут же затеялась беседа о том, что у Татлина[9]9
Татлин В. Е. (1885–1953) – российский и советский художник, архитектор-конструктивист.
[Закрыть] готовится персональная выставка, в который раз обсудили грандиозный размах его мысли, к сожалению, в наших реалиях совершенно утопической. Кто-то называл его чуть ли не современным да Винчи, кто-то едко критиковал и закатывал глаза, но лично я считаю, что без таких вот мечтателей, глядящих в будущее и не озирающихся по сторонам, не прикрывающихся словами «это невозможно, не получится» – без таких людей человечеству путь вперед заказан. Они подобны легендарным атлантам и, если угодно, своими руками крутят земной шар.
Я сначала слушал, потом стал украдкой разглядывать убранство гостиной. Никогда не упускаю возможности узнать что-нибудь новенькое об интерьерах и экстерьерах, и все равно – как мало я еще видел!.. Никогда мне не унять этот жар, эту жажду знаний. Помню, даже в Италии в 13-м году, когда новобрачная моя Идалия Григорьевна едва передвигала ноги от усталости, измотанная долгой прогулкой, я несся вперед за впечатлениями, точно собачонка за экипажем. Увидеть новую площадь, узнать конструкцию нового театра, планировку бульвара, оценить смелость и дальновидность мастеров прошлого – как это может наскучить!
И вот я принялся изучать жилище Ратниковых. Флигель пристроили к традиционному замоскворецко-купеческому особняку явно позже, в самый пик увлечения модерном. Здесь стиль принял исконно московские черты, с московской же неуемной любовью к излишествам: резные двери из темного дуба, лепнина на потолке, два кованых напольных светильника-фонаря в виде лилий по обеим сторонам от входа в гостиную, огромное арочное окно в мелкий и тонкий гнутый переплет, со множеством небольших стекол с матовыми вставками. Я засмотрелся на улицу, где снова начался медленный снегопад, и едва слышал, о чем говорят вокруг меня.
Потом пригласили к столу, кое-как расселись. Я снова на минуту растерялся, отдалившись от общества, к которому только что успел привыкнуть. Марта, зная за мной эту особенность, подвела и усадила меня почти на углу, в дальнем от именинника конце стола. Место по левую руку от меня еще пустовало. И вот через минуту скатерть там чуть съехала, задетая подолом платья и чьей-то рукой, пошла складками, и лежавшие на ней приборы тоненько звякнули. Я машинально положил на полотно ладонь, останавливая начавшееся движение, и почувствовал, как это движение перетекло внутрь меня, сдвигая с привычной оси. Стало так не по себе, так жутко, что я не сразу заставил себя повернуть голову, словно рядом со мной село какое-то древнее божество, немилостивое и капризное, а я не принес даров в его святилище.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?