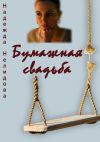Текст книги "Черный клевер"

Автор книги: Елена Вернер
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Наконец собрался с силами и поднял голову – и тут же стушевался еще больше. Немигающие дымчато-серые глаза оказались намного ближе, чем я был готов. У севшей рядом женщины было… Хотел описать, какое у нее было лицо, и понял, что не могу. Ее лицо было – эти глаза. Они заняли все пространство, все ощущение от ее облика. Одновременно туманные (это от их мягкой, вельветовой серости) и удивительно ясные, подвижные и выразительные.
Я, кажется, пробормотал, что нас не представили, и назвался сам.
– Нина Романовна Вяземская, – был ответ. И, если бы в торце стола не сел Сытин, не могу придумать, о чем бы мы с ней говорили…
Застолье длилось пару часов. Я и забыл, что бывают такие разносолы – особенно в наши новые времена. Однако мои знания о еде, стоявшей на столе, скорее от ушей, потому что я не столько ел и пил, сколько прислушивался. К тому, что говорят за столом, а более того – что происходит слева от меня, там, где на белизне скатерти то и дело появлялось кремовое пятно запястья, перехваченного серебряным браслетом.
Наше пестрое сообщество целиком отражалось в большой продолговатой зеркальной панели на стене, так что я мог, не поворачивая головы, наблюдать за своей соседкой в отражении. Она была тиха, изредка улыбалась на шутки гостей. И отвечала, только когда обращались напрямую к ней. Один раз она подняла глаза к зеркалу и поймала меня врасплох за разглядыванием. Она не отвернулась, и я тоже, и мы какое-то время так и сидели, плечом к плечу, но соединяясь взглядами лишь в зеркале: персонажи картины в гнутой раме модерна.
Ближе к девяти за столом возникло какое-то оживление. Ратников вынес из соседней комнаты граммофон, но тут Марта и еще несколько архитекторских жен стали уговаривать Вяземскую спеть: она слывет певуньей. Сам я небольшой поклонник песен, отец еще с юности привил мне любовь к опере и настоящему исполнительскому мастерству, и потому певцов-любителей слушать мне тяжко. Но свое мнение я держал при себе. Хозяйка настаивала, и Вяземская согласилась. Был тут же сдернут чехол с рояля, рассыхающегося и скучающего без дела, думаю, целыми месяцами. Люди поднялись с мест, некоторые развернули стулья и выставили их на середину залы. Гостья проскользнула к инструменту, такая худенькая и маленькая рядом с его лакированной громадиной, и села. Аккуратно подняла крышку, опустила руки на клавиатуру – будто положила их в чью-то пасть с черно-белыми зубами. И запела.
Я никогда прежде не слышал этот романс. Мелодия и сейчас крутится в голове, могу ее напеть, но, конечно, не процитирую. Это обращение девушки к возлюбленному. Он дарил ей луговые цветы, плел венки из трав, и девушка была счастлива. Но потом что-то изменилось, и когда она спрашивала возлюбленного, что не так, – тот лишь молчал. Это молчание изматывало ее, пугало, томило, каждый день неизвестности оставался черным цветком клевера, распустившимся под ее окном. Девушка взывает к своему любимому, моля, чтобы он пришел и все объяснил ей, ведь нет ничего хуже неведения. А верить плохим предчувствиям она отказывается, потому что верит в любовь. «Скажи, что любишь, скажи, что нет, нарушь молчанье», – просит она. Но время идет, и нет ни ответов, ни разъяснений, а черный клевер все распускается во дворе, и ни лепесточка не упадет с его вечно свежей махровой головки…
Голос, которым Вяземская потом щебетала в ответ на похвалы и благодарности, разительно отличался от того, каким она спела. Не поставленному, не гладкому, ему недоставало устойчивости и, быть может, объема и силы, но это с лихвой возместилось тем чувством, с которым был исполнен романс. Вяземская пела, словно дрозд из клетки. Мне казалось, что слушателей от нее отделяет решетка, или ограда, а то и стеклянный колпак, который озвончает звуки и не дает услышать что-то главное. Я впервые с такой отчетливостью увидел человеческое одиночество и покинутость, оставленность, заброшенность. Какой актерский талант: так рассказать историю между слов, между нот, – подумалось мне. Признаюсь, это меня глубоко поразило, и после я стал следить за ней глазами. Куда бы я ни посмотрел, всюду уже была эта Нина Вяземская, ее худые руки-палочки и темные волосы, гофрированные и перехваченные лентой, и ее струящееся платье на широких бретелях, голубизну которого тушило пепельное кружево, шедшее вторым слоем поверх шелка. Просто удивительно, как я помню все эти мелочи…
Незадолго до конца вечера меня окликнул Сытин, беседовавший с нею.
– А вот и наш Михаил Александрович, – улыбнулся Сытин, добро подмигнув мне из-за своих круглых очков. – Он такой же, как я, страстный поклонник.
– Наверное, поклонник, если вы утверждаете, – согласился я, – только вот о чем разговор?
– Я рассказываю Нине Романовне о нашей Башне и о музее. Михаил Александрович участвовал в реставрации башни, так мы и сдружились, – пояснил Сытин гостье. Та обратила на меня свои мягкие глаза и кивнула.
– Представляете, Нина Романовна никогда не бывала ни в музее, ни в самой Башне, – продолжал Сытин. – Мне представляется это огромным недочетом, который нужно поскорее исправлять.
– И что же вы предлагаете, Петр Васильич? – улыбнулась Вяземская.
– Да вот хоть завтра! Приходите после закрытия, в начале седьмого. Устрою вам экскурсию. И Михаил Александрович придет, правда ведь?
– Никогда не упущу возможность снова оказаться в самом прекрасном здании города, – подтвердил я, почему-то ужасно волнуясь.
– Значит, решено! – Сытин подвел итог, и тут же налетела хозяйка дома, добродушно пеняя нам за то, что завладели певицей и не пускаем ее к другим гостям, и увела Вяземскую прочь, к шумной группе молодежи. Ох уж эта Марта. Как любой мещанке, ей до ужаса хочется играть в элиту…
Скоро подали яичный десерт с ромом. Потом танцевали под граммофон, но я, конечно, таился в сторонке и видел только, что Вяземская за это время даже не присела. Танцевала она замечательно.
Наконец гости стали расходиться, все было сумбурно, толпились в прихожей. Я пожал руку Ратникову и поблагодарил за удавшийся вечер.
– Да, вечерок и правда был на славу, – пробасил он. – И главное, люди! Полезно, знаете ли, вот так общаться, не на работе, не на заседаниях комиссии, собраниях и комитетах. Именно здесь и крепнут связи. А связи в наше время – это все. Хорошо еще, что Марта это понимает. Вы вот, например, познакомились с Вяземской, да? А ведь у нее муж, ни много ни мало…
Ратников приблизился ко мне и понизил голос:
– …в Кремле обитает. На самом верху, один из Помощников, если вы понимаете, что я имею в виду… Сам-то я с ним не знаком, но вот жены наши дружат много лет, а я и рад. Мало ли когда такое знакомство пригодится!
Я был удивлен такой откровенностью начальника, хотя Ратников никогда не выказывал при мне какое-то особенное свое превосходство. Но все же субординацию соблюдал, и сегодня я все списал на армянский коньяк, несколько бутылок которого в течение ужина опустели и переместились под стол.
18 (5 по-старому) марта 1932
Никак не могу избавиться от привычки переводить дату в старый стиль – хотя прошло столько лет. Всегда отчего-то хочется уточнить, какое именно сегодня число в той системе координат, когда я родился. Извечное человеческое желание определить себя, чтобы не потеряться, не распылиться, разлетаясь миллионом несцепленных атомов. У нашего поколения осталось так мало постоянного и нерушимого, что это стремление стало почти болезненным.
Сегодня вечером пришел, как и договаривались, в Башню. На первом этаже теперь канцелярия и сытинский кабинет. Петр Васильевич уже ждал: на рабочем столе прибрано, поднос с чашками, вазочка с печеньем. Поболтали о том о сем, взглядывая на ходики – но пробило ровно шесть, четверть, а потом и половину седьмого (настенные часы начинали, и тут же высоко наверху, на всю площадь отзывались башенные куранты), а Вяземская так и не пришла.
Дома я оказался один. Даша, наша кухарка и соседка (они с мужем теперь занимают нашу третью комнату, ту, что в конце коридора), подала холодный ужин. Саша еще не вернулся с комсомольского собрания, а Люда все пропадает со своим ухажером Сафоновым по синематографам и музеям – или мне спокойнее так думать, ибо нравы у молодежи теперь не те, что были у нас. Сетовать я на это не имею права, это несовременно и ханжески, но я отец, и совладать с собой по этому вопросу никак не получается.
Недавно Люда окончила курсы машинисток, и ее взяли на полставки в машинописное бюро. Очень она теперь этим гордится. Надо же, моя дочь стала совсем взрослой. Все соотношу себя с нею, кажется, что она выросла, а я все тот же, что был в год ее рождения. Но между тем мне на восемнадцать лет больше, и жизнь моя уже прожита, ничего в ней уже не будет нового, разве что так, по мелочам. Будем с Идалией Григорьевной нянчить внуков, я по-прежнему буду преподавать, а молодое племя – и студенты, и дети – продолжит мечтать, пока не станет таким же, как мы, и не передаст привилегию мечтать уже своим детям.
19 (6) марта 1932
Она пришла!
Но обо всем по порядку.
Засиделись сегодня с чертежниками над проектом новой фабрики-кухни, под которую уже расчистили место в Дангауэровке, неподалеку от Рогожской заставы, так что освободился я только в половине шестого. В комнатушке было до того натоплено, что у меня голова пошла кругом, сердце опять прихватило, так что я решил потихоньку прогуляться до дома пешком. Хоть делопроизводитель меня и отговаривала, но ей не понять, что город лечит меня куда лучше, чем валериановые капли.
И вот я побрел, куда глаза глядят, и конечно же рано или поздно ноги вывели меня к Башне. Иногда кажется, что все дороги приводят к ней… Возле дверей музея приметил нерешительно замершую фигурку. Это была Вяземская, она смотрела на башенные часы, придерживая рукой беретик. Я подошел и поприветствовал ее.
– Михаил Александрович, какая удача, что я вас встретила! Вчера не было никакой возможности приехать, я подумала, вот, может, сегодня удастся напроситься на экскурсию снова.
Я ответил, что Сытин наверняка еще на месте, и через западный вестибюль проводил ее в кабинет. Петр Васильевич действительно разбирался с бумагами, ворохом наваленными на столе, и облик у него был далеко не такой парадный, как давеча, когда он и правда приготовился принимать в своих владениях высокую гостью. При виде нас он быстро справился с оторопью, выскочил буквально на минутку, а когда вернулся, его волосы уже были приглажены, и пиджак с немного лоснящимися локтями застегнут на все пуговицы.
– Приказания отданы, Башня готова к осмотру, – чуть не по-военному отрапортовал он. Я так понял, за эти сутки он узнал что-то новое о положении Вяземской, потому что заметно нервничал, чего обычно за ним не водится.
Когда мы вышли за дверь кабинета заведующего, музей словно подменили. Все служительницы, сотрудники и даже гардеробщик из раздевальной исчезли, а свет был приглушен. Все это напомнило мне какой-нибудь прежний дворец, где задача слуг – не высовываться. Впрочем, здесь слуг не было вовсе. Мы поднялись по лестнице на второй ярус, потому что на первом были, кроме канцелярии, только комнаты с трансформаторами, едва ли представляющими эстетическую ценность. Подниматься по ступенькам мне было тяжеловато, опять мучила одышка, и я старался переставлять ноги неторопливо, но с достоинством, чтобы наша гостья не заподозрила во мне недомогание. Хотя какое ей до меня могло быть дело, право слово!
Сегодня она была одета с таким же вкусом, как и в вечер нашего знакомства. На ней был белоснежный ангоровый свитерок с пышными рукавами и узкими манжетами, охватывающими запястья, и синяя юбка до самых ботиков с двумя рядами черных круглых пуговиц. А волосы убраны в низкий валик под затылком, просто и элегантно. Когда на лестнице я немного отстал от них с Сытиным, пятно белой ангоры, впереди и выше, казалось мне ангельским свечением.
– В западной части первого этажа, куда вы попали сразу от входа, располагались раньше кельи часовни Перервинского монастыря, – возвестил Петр Васильевич. – Мощенные метлахскими плитками. Плитки эти теперь можно увидеть в уборных музея. Если желаете, это в той стороне.
Он махнул рукой, а я заметил, что Нина (почему-то про себя я стал называть ее по имени, как только увидел сегодня у входа) поежилась. Я шагнул к ней:
– Вам холодно?
– Нет-нет, все в порядке, спасибо, – насторожились ее глаза. – Просто… Из немецкого Метлаха в монашеские кельи, а оттуда – в отхожее место… Какая судьба у этих плиток!
Сытин тут же обеспокоился еще больше:
– Красота обязана служить народу, и без этих религиозно-буржуазных глупостей. А холодно быть тут никак не должно! Нынче у нас современная система отопления, водяная. Котел и трубы… Вот раньше – другое дело! В бытность Башни пристанищем Школы математических и навигацких наук, еще при Петре и при Брюсе, северный ветер пронизывал ее, несмотря на толщину стен от одного до четырех аршинов. Жить здесь зимой было решительно невозможно, и очень скоро учащиеся попросили позволения переселиться в слободку по соседству, так что тут остались только научные помещения, архивы и обсерватория. Первая, между прочим, в стране астрономическая обсерватория! Колыбель, так сказать, науки.
Постепенно Сытин входил в раж. Ему нечасто в последнее время доводилось рассказывать о Башне, тем более он не водил экскурсий, а поведать новому человеку о своей каменной любимице, заставить гостью взглянуть на здание его глазами представлялось ему беспримерным удовольствием. Да и любому человеку – разве не хочется порой, чтобы нашелся еще хоть один кто-то, способный разделить восторг?
И вот он уже стал похож на мельницу, вращающую лопастями рук:
– Там у нас архив и склад музея. Изволите пройти? Сюда, пожалуйста. Это второй ярус. Здесь две западные залы и средняя заняты отделами музея, а в восточной у нас библиотека-читальня по коммунальным вопросам.
Нина внимательно изучала экспонаты в витринах и на стендах, Петр Васильевич щелкал выключателями, чтобы зажигать и гасить свет в залах, а я все не мог нарадоваться. И вечеру, и хорошей компании, и тому, что вижу Башню изнутри, ее скупое послеремонтное убранство. Ей всегда шла строгость, она ведь не из светских, а из сторожевых…
– В детстве она казалась мне почти заброшенной, – пробормотала Нина себе под нос.
– Так и было, – я приблизился, чтобы не говорить громко и не будить эхо под высокими сводами. – До реконструкции и реставрации она была в ветхом состоянии, постоянно все боялись обрушения. Потолки прохудились, дождь и снег заливал, все гнило, покрывалось плесенью. Помню, когда я осматривал фронт работ, мне казалось, что это какой-то многоэтажный погреб, банок с соленьями только не хватает. Того и гляди, рыжики с маслятами попрут.
Она рассмеялась, и ее смех рассыпался по каменным аркам. Я подождал, пока он затихнет, далекий и уже чужой, будто не Нинин.
– Без хозяина Башня ветшает, так было раз за разом. Получается, что Московский коммунальный музей ее истинный супруг, а не колокольня Ивана Великого…
– Да, Нина Романовна, ремонт пошел ей на пользу, – подытожил Сытин. – Спасибо нашему правительству! Вот до революции была беда, сколько раз ни принимались чинить, все без толку. Лет десять-двадцать проходило, и опять положение становилось бедственным. А все почему? Не было хозяина. Магазины устраивали, городовых селили, солдат, телеграфную станцию – всем по чуть-чуть, и словно бы никто не в ответе за все целиком. А ведь это памятник зодчества, такое величественное сооружение, настоящий символ! Иностранцы все, что про Москву знают, так это Кремль и Башня. Два символа. А польза-то, польза от нее какая! Знаете, она ведь и водонапорной успела побыть, сто лет, ни много ни мало. Раздавала воду на весь Мытищинский водопровод. Сюда вода поступала с севера, через трубы и от Ростокинского акведука, что за Яузой. Может быть, видали его, такая белая громадина в чистом поле… А отсюда уже вода расходилась на половину города, к водоразборным фонтанам. Видите арочки вот эти, заложенные? – Он ткнул в пару мест. – А под полом до сих пор железные клепаные балки сохраняются, на них резервуары и стояли.
Нина кивнула и подошла к витрине, над которой уже склонился я, изучая гравюры и рисунки с видами Москвы позапрошлого столетия. На потолке вспыхнули три лампочки, и стала видна потемневшая страница какой-то иноземной книги с рисунком Башни, к основанию которой, словно гусята к матери, жались шаткие хибарки.
– Она похожа на западноевропейскую ратушу, – проговорила Нина. – Смесь раннего Средневековья и готики…
– Совершенно верно! – Сытин обрадовался. – Готика и ломбардский, если быть точнее.
– А Борис Пастернак сравнил ее с Нотр-Дамом…
Я удивился, как начитана эта женщина, но постеснялся заострять внимание и только покачал головой:
– Коль скоро сравнивать ее с парижскими строениями, я бы скорее назвал ее Нельской башней. Всякого сброда здесь до недавних времен было предостаточно. И она всех привечала. Под навесами можно было укрыться от непогоды. Хорошо, правда, что стены в ту пору все же не обвалились и не придавили никого, потому что состояние у нее было аварийное.
– Но не теперь.
– Теперь? Нет, вы же видите, теперь она снова красавица.
– Смотрите, а на картине она не кирпичная…
– Все верно, – подтвердил я. – Это оттого, что Башня в те времена была крашеная. Ее красили и в желтый, и в зеленый, и в дикий.
– Как вы сказали? Дикий? – переспросила Нина весело.
– Да. «Дикий» значило тогда пепельно-серый, серо-голубой. У вас глаза такого цвета.
Наши взгляды пересеклись в отражении на стекле витрины, и Нина в замешательстве отпрянула, распрямилась. Я заложил руки за спину и отошел к дальнему концу комнаты.
Все четыре зала третьего яруса, привычную мрачность которых не рассеивал ни электрический свет, ни скромная однослойная покраска кирпичных стен и сводов (красить наглухо, а тем более штукатурить запретил Главмузей, так что швы между древней кладкой остались видны), были отданы под комнаты музея. Пока мы обстоятельно осматривали экспозицию, я помалкивал, предоставив Петру Васильевичу возможность выговориться.
– То ли еще будет, Нина Романовна, – воодушевлялся он все больше. Сейчас уже никто не распознал бы в нем ни сотрудника научного отдела Метростроя, ни главу Комиссии по переименованию улиц. Вот что делает с нами искренняя и глубокая привязанность. Он как ребенок, видит не то, что уже окружает его, а вымышленные миры.
– В скором времени внизу у нас будет лекционный зал на триста человек, тут прорубят дверь. Книгохранилище оборудуют стеллажами, а также отоплением, канализацией, телефоном. Музей Сухаревой башни устроим. А, Михаил Александрович, как тебе такая идея? Башня этого достойна!
– Вне всяких сомнений, достойна.
– А летом будем публику на галерею третьего этажа пускать. Это теперь везде внутри прорубили дверей, а раньше залы друг с другом не сообщались, только все выходили на галерею, которая опоясывает Башню. Вид оттуда открывается, скажу я вам!
Нина оживилась:
– Ой, а как бы нам сейчас туда забраться?
Сытин нахмурил лоб, прикидывая в уме.
– А не продрогнете? Там на высоте ветрище.
– Не продрогну.
– Хорошо. Тогда сперва покажу вам часовой механизм, а потом уж и на галерею.
Я знаю, что Петр Васильевич очень гордится курантами. И в заводе сам принимает участие, еженедельно по воскресеньям. Они громко, на всю округу отсчитывают каждую четверть часа. Мы идем к часовому механизму, и я замечаю, с каким живым и неподдельным интересом Нина рассматривает каждую шестерню и большой барабан с металлическими шипами, который и производит музыку:
– Надо же, мы словно внутри музыкальной шкатулки!
– Ну, принцип тот же, – улыбнулся довольный произведенным эффектом Сытин. – Очень большая музыкальная шкатулка, и вместе с тем очень большие ходики, только что без кукушки. Видите эти гири? Весом в пятьдесят пудов, представьте! Завод у часов рассчитан на неделю, причем к концу они опускаются до самого низа башенного столба, а после завода поднимаются под потолок четвертого яруса. Посмотрите-ка вверх, видите колокола? Специальные молоточки соединены с часовыми механизмами вот этими тросами, и когда приходит время, они начинают бить в колокола.
У меня в голове началась какая-то сумятица. Вспомнился и «Городок в табакерке», и Органчик Салтыкова-Щедрина, и даже почему-то подземные жители Погорельского, словом, все перемешалось, и мы втроем показались мне заводными игрушками, не принадлежащими больше нашему веку и людскому племени. Было в эту секунду между нами какое-то механистическое и при этом волшебное, сказочное чувство.
У массивной, обитой металлом двери на галерею Петр Васильевич вдруг нахмурился и зазвенел связкой ключей, перебирая в поисках нужного:
– Ох ты ж голова моя дырявая. Ключ-то от галереи у меня в столе, в кабинете. Я мигом!
Он заторопился прочь, забавно подпрыгивая на каждом шагу.
– Не торопитесь так, мы ведь не спешим! – крикнула ему вдогонку Нина, не рассчитав молодой силы своего голоса, и эхо перепуганно заметалось под арочными сводами: «спешим… спешим… спешим…»
Мы остались одни и переглянулись. Свет от тусклой лампочки почти не достигал этой части зала. Я как-то очень остро осознал, что никого, кроме нас, здесь нет, но…
– У меня почему-то такое ощущение, будто Башня живая и слушает, о чем мы говорим, – призналась Нина в ответ на мои мысли.
– Что ж… Она много чего слышала. Кстати, Петр Васильевич забыл рассказать про часы. Раньше, до этих, были и другие. У них стрелка стояла на одном месте, а вращался циферблат.
Нина очаровательно улыбнулась:
– Иногда циферблат так влюбляется в стрелку, что может начать крутиться вокруг нее.
– Какое необычное воззрение. Никогда не думал в таком ключе…
– Не обращайте внимания на мои глупости, – сильно смутилась она. – Иногда сама не понимаю, что несу.
– Ну почему же! Это довольно мило. А есть еще одно объяснение. Говорят, что часовой мастер Галоуэй придумал такие циферблаты специально для русских. А потом в письме объяснился, дескать, русские все на свете делают не так, как остальные люди в мире, отсюда и часы им нужны соответственные…
Нина прикусила губу, словно от смеха, но потом задумчиво прищурилась и легонько вздохнула:
– Он был, наверное, очень смышленым человеком.
На этом моя фантазия иссякла, и я быстро посчитал, сколько времени нужно Сытину, чтобы спуститься вниз и вернуться. Чем развлекать до его прихода Нину Вяземскую? От неловкости зачем-то подергал дверь галереи. Железо на ней было ледяное и чуть влажное, и – о чудо – дверь поддалась и стала со скрипом открываться.
– Вот как!
Я толкнул дверь посильнее, и порыв мартовского ветра ворвался в залу, пронесся по ней.
– Прошу вас. Только осторожнее, держитесь за что-нибудь.
Нина, только и ожидая приглашения, выпорхнула на обледеневшую галерею. И ахнула.
Я вышел следом и притворил дверь.
Да, этот вид мне никогда не наскучит. Надеюсь, что и дряхлым стариком, если доживу до того возраста, я буду иметь возможность взобраться сюда и оглядеть Москву, новую, с широкими проспектами, зелеными бульварами, домами культуры, театрами, общежитиями и институтами. Но непреложным останется это перекрестье улиц, в которое вправлен рубин моей драгоценной Башни. С одной стороны в нее упирается узкая Сретенка, с другой, расширяясь вдаль, убегает на север Первая Мещанская. И в обе стороны, как распластанные крылья, раскинуты рукава площади, еще недавно занятые рыночными развалами, а теперь освобожденные.
– Никогда прежде мне не приходило в голову, что это место – как компас, улицы на все четыре стороны света, да притом так точно… А пинакли[10]10
Пинакль – в романской и готической архитектуре маленькая декоративная башенка. На Сухаревой башне таких было четыре.
[Закрыть] указывают на промежуточные стороны. Зюйд-ост, зюйд-вест… – размышлял я тихонько вслух, и Вяземская, хоть и стояла довольно далеко, разобрала мои слова.
– Просто Башня – это та же стрелка, – и добавила: – А город вокруг – циферблат, и будет вокруг нее вращаться и меняться.
Как тонко она подмечает детали. Ее слова тронули в душе нечто неожиданно чувствующее.
Вдруг она проворно наклонилась и взяла что-то из-за кирпичного выступа.
– А вот и чей-то секрет.
В руках початая бутылка водки.
– Наверное, кто-то из сотрудников злоупотребляет… – огорчился я. Нарочно не придумаешь, такая высокая гостья – и обнаруживает водку. Но Нину находка, кажется, не сильно шокировала:
– Теперь понятно, почему дверь была открыта, хотя должна держаться запертой.
– Какой позор… Петр Васильевич разозлится. Обычно на вверенной ему территории порядок, вы не подумайте… Теперь непременно учинит разбор, виноватому объявит выговор.
– А мы ему не скажем!
– Великодушно, Нина Романовна, но…
Махнув рукой, чтобы я замолчал, она мгновенно вернула бутылку на место, в неприметную нишу. А потом повернулась ко мне с видом заговорщицы и пожала плечами, мол, никто ничего не видел.
Внезапно откуда-то возникло красноречие, и я процитировал по памяти, видимо, чтобы сгладить впечатление:
– «На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада – Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться…»
– А я знаю! – обрадовалась Нина и захлопала в ладоши, как девчонка. – Это Лермонтов. Вы знаете наизусть его прозу!
– Только любимое. И прозу, и поэзию.
– Это замечательно! Расскажите еще что-нибудь! – попросила она, глядя на меня с воодушевлением.
Окрыленный, я принялся вспоминать вслух. О Брюсе, о тайном Нептуновом обществе, что собиралось в восточном Рапирном зале Башни – том самом, где мы были только что, с плоским потолком. Франц Лефорт, сам царь, Брюс… Масоны. Какие вопросы они обсуждали, какие планы вынашивали?.. Ведь Брюс был ученым человеком, астрономом, он был способен на многое, даже предсказывал солнечное затмение. За что и прослыл колдуном.
– Все правильно! – Она зачерпнула кончиками пальцев снег с парапета и машинально сунула в рот. Проглотила. Я понял, что ее мучит жажда. – Никому не под силу предсказать затмение светила, если только не он сам тому причина.
– Ваша правда, – со смехом согласился я. – А еще поговаривали, что перед смертью он оставил в подвалах Башни – считайте, можете даже загибать пальцы, – во-первых, книгу из семи деревянных табличек с волшебными письменами. Книга эта хороша тем, что ее владелец будет править миром. Только вот беда, это книга-невидимка, и разыскать ее под силу только самому Якову Брюсу или его наследнику, коих не осталось. Во-вторых, приворотное зелье, что дарует самое сильное и нескончаемое чувство каждому пригубившему хоть каплю. В-третьих, кольцо царя Соломона, указывающее путь ко всем спрятанным кладам, открывающее все двери и дающее право взять в прислужники сатану. И это не говоря уж о всяких чудесах типа живой и мертвой воды в двух флакончиках, причем достоверно известно, что Брюс опробовал их на себе самом, а также всяких книг, приборов и снадобий, а может, и философского камня, превращающего любой металл в золото. Хотя – что было, то было – у Брюса получалось извлекать серебро из свинцовой руды.
Я перевел дух, причем часть меня опасалась, что сейчас либо каждую из перечисленных диковинок, либо все скопом назовут предрассудками, но Нина Вяземская стояла, устремив глаза в ломаные дали убеленных снегом крыш, дымящих в темное небо труб и искрящихся фонарями улиц. В ее огромных глазах дрожали отраженья.
– Как думаете, может, эти темные сокровища все еще лежат где-то… там. – Она указала на пол, и я почти увидел сундук, будто бы замурованный в нескольких этажах внизу, в подземельях глубоко под нами. Словно мы провалились сквозь перекрытия, словно в ней на мгновение воплотилась та девушка Брюса, колдовское создание, что вот-вот растает в воздухе, но, пока не растаяла, может провести меня за руку прямо к таинственному кладу.
– Может, и лежат, – ответил я. Мне показалось, что ответить здраво и серьезно «нет» – все равно что объяснить ребенку, что Деда Мороза не существует. К слову, я очень благодарен судьбе, что мои дети выросли до того, как новогодние елки и Деда Мороза запретили.
Опущу описание того, что было по возвращении Петра Васильевича. Он вывалил кучу исторических сведений и фактов, слушая которые, Нина серьезно кивала, и при этом я ясно видел, что она почти не замечает их. В ней поселилось какое-то беспокойство и тут же передалось мне. Озябнув на галерее, мы вернулись в залы, ступая по дубовому паркету, который положили лишь недавно, хотя его дощечки уже принялись скрипеть совсем по-старинному. Нина взглянула на изящные часики, вывернув запястье тыльной стороной, и возвестила, что ей пора, и поблагодарила за экскурсию.
– Приходите еще. Буду рад, всегда буду рад! – заверил ее Петр Васильевич.
У лестничного проема он отстал, выключая свет в комнатах. Оставшись с ней наедине, я замешкался, прежде чем решиться и выговорить:
– Могу я вас проводить? В городе слякоть, но красиво.
– За мной пришлют автомобиль… Наверное, уже прислали.
Ее лицо приняло виноватое и настороженное выражение. Да, конечно, кремлевский муж, некий таинственный Помощник, о котором ничего не известно – лишь слухи и домыслы.
– Разумеется. Что ж…
В молчании мы спустились по северной, белокаменной лестнице, и в вестибюле я помог ей надеть пальто. Какое счастье, что она не из тех новых суфражисток, что справляются сами, иначе как еще мужчине проявить свою заботу и предупредительность, когда этого так хочется.
– А впрочем… Возможно, ваше предложение распространяется на завтра? Давайте погуляем по городу? Только если у вас нет других дел… – проговорила она вдруг быстро-быстро, на одном дыхании.
– Я с радостью. Утром у меня занятия со студентами, но я освобожусь к двум.
– Хорошо. Тогда… у памятника Пушкину?
– У памятника Пушкину.
На сегодня я заканчиваю писать. Не буду выводить итогов и строить планов, я очень устал, а уже давно пробило час ночи. Рука ноет с непривычки, я ведь никогда не пишу так многословно. Но почему-то сегодняшний вечер мне хотелось запечатлеть настолько подробно, насколько это вообще возможно. Память человека ненадежна и обманчива, а мне необходимо сохранить это навсегда. Засим отправляюсь спать. И надеюсь, что усну.
20 марта 1932
Странно все так, не знаю, что и думать.
Мы, как и условились, встретились с Ниной (теперь она совершенно официально позволила называть ее по имени) у памятника Пушкину. Желтое пальто. Видно за две версты, и вся она – диковинная, как живой феникс или Алконост, птица радости.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?