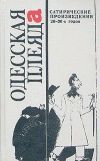Текст книги "Волки купаются в Волге"

Автор книги: Емельян Марков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Прогулка со стариком
(рассказ)
Старик в двухцветном пуховике лежит на заснеженном асфальте. Пытаюсь его поднять, он льнет к земле, словно боится упасть в небо, оттого очень тяжел. Поднимаю все-таки. Лицо в крови.
– Он пьяный, – говорит мне жена.
– Ну и что?
– Ладно, ты уж разберись с ним, я пока в магазин схожу.
– Купи чего-нибудь сладкого! – кричу ей вслед.
Старик тянется к земле вожделенно, пытаюсь удержать его на ногах.
– Вы где живете? – спрашиваю.
– Там, – неопределенно машет он и роняет руку, забывается.
– Где, там?
– Вот та-а-ам! – хрипит он и падает, я подхватываю его. – Севастопольский пятьдесят семь. Вот там! – слабо, как бы умирая, кричит он мне в лицо, не видя меня, и добавляет высокомерно: – я тебе заплачу.
Мы влечемся под гору. Места холмистые и овражные, тротуары часто соединяются лестницами.
– Куда так бежишь? – стонет старик.
Я останавливаюсь, прислоняю его к автобусной остановке, перевожу дух. Старик смотрит на меня бессмысленными, мутно-голубыми, как у мороженой курицы, глазами. Но на дне этих глаз праздник такой необузданный, что мне становится не по себе. Идем дальше: по неверной, узко протоптанной в снегу тропинке, через детскую площадку.
Вижу, старик начинает как-то таиться, беспокойно поглядывать на меня, что-то изображать, каменея лицом.
– Ладно, – отмахивается, – дальше я сам.
Я отпускаю его, он забирает ногами, тянет руки к земле, опять падает, ложится в снег, как в постель.
– Нет, – говорю ему, – так не годится.
Идем.
– Тут магазин продовольственный открыли… – указывает старик на «стекляшку», – цены – страшные! – он отстраняется, преувеличенно смотрит на меня, – стр-рашные цены!
– Какой у вас подъезд?
– Второй, нет… третий.
– Второй или третий?
– Второй, – сдается старик.
Подвожу к подъезду.
– Ну, все, спасибо, друг! – протягивает мне широкую ладонь с короткими пальцами. И опять норовит упасть.
– Какой код? Код, какой?
– Ты, это, там нажми, там легко… Вместе надо, одновременно…
– Что нажать-то?
Грустно становиться от его недоверия. Входим в подъезд. На лестнице нас обгоняет человек в большой писцовой шапке, с мощным ротвейлером на плетеном поводке.
– Здоро́во! – приветствует его старик. – Как дела?
– Да ничего, – отвечает человек.
– Мой друг, – указывает на меня старик.
Хозяин ротвейлера глянул в мою сторону – не на меня, а только в мою сторону. Собака и не замечает нас, стоит со свойственной ее породе печальной свирепостью в глазах, ждет, когда хозяин дернет поводок.
Мне досадно, что старик назвал меня своим другом. Мы опять остаемся с ним наедине.
– Здесь я живу, – указывает старик на дверь. Он долго жмет на звонок, ругает жену. Но ясно уже, что дома никого нет.
– Вы что, без ключей? – спрашиваю.
– Ключи есть, – мрачно отвечает старик и упрямо сторонится моего взгляда, боится, что, открой он дверь, я его ограблю. – Ладно, – говорит он, – пока.
Спешу домой. Жена купила черничный рулет.
Наступила весна. Встречаю того старика на остановке. Он, естественно, не узнает меня. Стоит в расстегнутом пуховике, вальяжно пошатывается, стреляет у подходящих сигарету.
– Дай закурить! – говорит одному.
Тот дымит, но не дает, как не слышит старика.
Старик обращается к другому, тот утомленно морщится, сплевывает подсолнечную лузгу, говорит, что нет у него.
Молодой человек в бородке-эспаньолке курит и кокетничает с низкорослой широколицей девушкой, приятно улыбается.
– Дай докурить! – бросается к нему старик.
– Да я только что закурил! – подосадовал молодой человек. Помолчал и добавил: – вон, сейчас троллейбус подойдет, тогда оставлю. – И принялся торопливо затягиваться.
Подъехал троллейбус. Молодой человек не глядя отдает сигарету, заскакивает со своей девушкой на приступку, светло улыбается: дыханье сперло от чрезмерных затяжек. Старик потом стоит, покачиваясь, дорогая сигарета повисла в расслабленных синюшных губах. Стоит кум королю.
Миражи
Мы занимали полдома, жизнь наша была замирающая, потому что мы ни в коем случае не хотели обеспокоить соседей, которые боялись потревожить нас – ступали глухо и отчужденно. Потому дом был всегда тих, даже семейные праздники становились приглушенными.
Теперь я не нашел бы своей дачи, я не помню к ней дороги. Но сам дом, то есть нашу половину, помню хорошо. На стенах тесных комнат висели сумрачные натюрморты а-ля «малые голландцы». В проходной комнате стоял резной темный буфет с рифлеными стеклами, над пыльной софой висел дешевенький настенный коврик с зеленой бахромой по нижнему краю, из которой я сплетал косички. Коврик изображал оленей у водопоя. В другой комнате – беленая печка, на терраске – раздвижной обеденный стол и над ним куполом кружевной белый абажур.
Летом я ел много вкусного, разве июнь был порой легкого голода. Я завтракал крутыми яйцами и, не очень насытившись, уходил вглубь нашего не широкого, но неимоверно длинного участка. Я нежно обхватывал ладонями космические лиловые ирисы, лохматые пионы, которые, влажные, распадались в руках. Осы, стрекозы, бабочки во множестве поднимались из золотых блестящих лютиков, сныти и крапивы, зонтиков дудника. Вечером садовые цветы мерцали собственным светом.
На стыке июля и августа зонтики дудника достигали гигантских размеров, крапива изящно изгибалась, запущенный участок превращался в рай. Бабушка варила вишневое варенье, я до одурения наедался горячих хмельных пенок. Тянулся с мягкой благодатной земли к спелым темно-красным вишням. Была у нас и беседка, выкрашенная, может быть и до революции, голубой, теперь шелушащейся краской. В беседке зимовал шаткий стол. В августе на нем простаивала большая миска, полная ос и вишен. Я ступал по прогнившему полу беседки, – ягод я не трогал, с веток есть интереснее и вкуснее, – залезал на перила, прыгал вниз. Так по нескольку раз. Я, восторгаясь, прыгал и краем взгляда замечал приближение осени. Я не грустил об этом, ведь на пороге осени поспевают яблоки, бабушка будет печь их в печке с медом.
Сколько счастья впереди! Я бежал на зады участка, падал там навзничь в холодную, как вода, сныть, долго смотрел на облака, плывущие ни быстро, ни медленно, как проплывало мое детство.
Теперь нет ни этой дачи, ни бабушки. Я бомж, сплю в городском дворе возле песочницы. Дети взяли мою шапку и льют мазутную воду мне на голову. Здравствуй племя молодое, незнакомое.
Пусть льют, я не поднимусь с земли этим вечером. Вот на рассвете, если, конечно, не заберут в ментовку, встану и пойду. Куда? Сам не знаю. Что-то завтра должно измениться в моей жизни. Потому что правда на моей стороне. В школе учительница нам говорила, что правда, она всегда торжествует. Эта учительница смело ставила неправильные ударения в словах, гораздо смелее, чем я ставил правильные, но она мне нравилась как женщина, и я до сих пор верю ей свято.
Я вообще верный человек, если поверю во что, пусть вначале с сомнением, но склонюсь к чему, – это и останется во мне. К тому же я сильный человек, просто коплю силы. Когда накоплю достаточно, подпрыгну на очередном витке своего вдохновения, и Земля уйдет из-под меня, верная своей орбите, как я верен себе; нам с ней, похоже, не по пути. Может быть я, конечно, сложусь, как письмо или как носовой платок, в космосе с незащищенным человеком, насколько помню науку, должно происходить нечто такое, а может быть случится чудо, и у меня вырастут прямо из души крылья.
Да, хочется есть, значит надо выпить. По карманам была какая-то мелочь, тысяч пятнадцать, двадцать…[2]2
Время действия конец 90-х.
[Закрыть] Вон идет моя муза, подгнивший плод моего воображения. И, о чудо! я встаю.
– Здравствуй, Веруня!
– Здравствуй, мой повелитель. У тебя выпить есть?
– А сходишь? Я денег дам.
– Вместе пойдем, – решительно говорит Веруня.
У нее опухшая рожа, лысина на макушке, в остальном она прекрасна, как прежде. Я когда-то испытывал к ней страсть, она моя первая любовь, и я у нее первый. Говоря прямо, я тогда, давным-давно, обесчестил ее, молодой козел. Правда, она отыгралась, бросила меня за то, что я слишком часто целовал ей ноги. По ночам я в шаткой надежде заснуть закрывал глаза, и явственно представлялось, что она со мной и лицо ее близко-близко, ресницы ее смежаются, тонкие ноздри раздуваются, распаляются у самой моей переносицы и сладостное ее дыхание клубится у меня в голове. Но она в это время была с другим. Теперь я не жалуюсь на плохой сон, сплю крепко, как убитый, прохожие нередко сомневаются, жив ли. Жив, жив, будьте спокойны, идите в гастроном, куда хотите, хоть к черту на покаяние!.. Теперь мечты сбылись, Веруня опять со мной, мы не виделись лет пятнадцать.
Идем к метро. Впереди я, сзади Веруня.
– Доставай бабки! – сделав непроницаемое для толпы лицо, половиной рта шепчет она.
– Эх ты, актриса, – умиляюсь.
Беру бутылку, сутулюсь, смотрю через одно плечо, через другое, а то, не ровен час, подойдет сзади мент прогулочным шагом и хрястнет резиновой дубинкой по шее. Веруня пьяна от одного предвкушения. Достаем из мусорной урны пластмассовые стаканчики, – что вы думаете? – мы ценим комфорт, – и исчезаем, как появились. Мы умеем исчезать, подобно миражам.
Заходим обратно во двор. К нам торопится старик, бывший уголовник, ныне тоже бомж.
– Налейте! – говорит, – налейте. Знаете, как меня зовут? Волк! – и таращит одуревшие красные глаза. – Волк!
– Ну и что, что волк, – смеемся мы, – не дети уж, чтобы волков бояться.
– Волк! – повторяет он и уходит ни с чем.
В тени подернутых зеленью лип выпиваем. Цветы распускаются перед глазами, и ты, Веруня, становишься так же обворожительна, как в молодости. Как долго я ждал тебя. Ничего не добился в жизни, лишь всё потерял, никем не стал, а мог бы стать Шопенгауэром, Достоевским, но я вместо этого ждал тебя. И вот ты со мной, ты безраздельно моя. Безраздельно.
Истукан
(повесть)
I
Маки
– Почему от тебя бабы шарахаются? Ты же, можно сказать, красавец?
– Ну, во-первых, это не совсем так…
– Не красавец?
– Не шарахаются.
– Я не имею в виду русалок из поймы реки Негодяевки, я говорю о более серьезных отношениях.
– Э-э! – вздохнул Паша, – ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках… Да и потом, для сурьезных отношений я недостаточно насмешлив.
– Кто же тогда насмешлив? Я вообще не насмешлив, стараюсь быть насмешливым, каждую ночь засыпаю с решением проснуться насмешливым человеком, но ничего не получается. Но все-таки худо-бедно…
– Ты – зануда, а дамам нравится занудство, сурьезные разговоры на предмет выеденного яйца.
– А ты бы сказал просто: я тебя люблю.
– Да! Чтобы она сразу взгромоздилась мне на шею. Не в прямом смысле, в прямом – это еще ничего, приятно… а фигурально. Стала проводить на мне смелые научные эксперименты, с летальным исходом.
– Ну не романтизируй, прям уж с летальным.
– Я не романтизирую.
Стояли возле ларька, пили баночный джин-тоник. Паша ехал с работы, Митя позвонил на сотовый и перехватил Пашу по дороге. Митя нигде не работал, точнее, работал сторожем в церкви, поэтому у него было много лишнего времени. После дневного мучительного бездействия вечерами он так вылетал на свидания с Пашей, попить пива. Но у Мити от пива стал неважно работать желудок, и холодно было сегодня для пива: скользко, гололед. Поэтому взяли джин-тоник. Митя вечно боялся, что Паша заговорит о своей нудной работе – Паша работал маркетологом. Паша опасался, что Митя, как человек незанятой, примется гундить: решать давно разрешенные вопросы добра и зла, жизни и смерти. Знакомы они были лет двенадцать. С тех пор, как поступили вместе в педагогическое училище на дошкольное отделение.
В детстве Паша пропадал на пятидневке. Митя тоже пропадал на пятидневке, но матушка забирала его не строго вечером в пятницу, а когда ей вздумается. Митя прятался в умывальне за шкаф, и там, возле окна, высматривал мать, своими словами молился на недействующую церковь, что стояла через дорогу напротив детского сада. Мать прививала ему религиозность, но каноническим молитвам не учила, поэтому Митя и работал теперь в церкви не священником и даже не пономарем, а сторожем. Паша знал, что за ним придут строго в пятницу, в окно не смотрел, и поэтому работал теперь полный рабочий день маркетологом, а в пятницу вечером, «после пяти дней непосильного труда», как он говорил, – давал себе волю.
Впрочем, маркетологом Паша работал сравнительно недавно. Трудовые дороги его и Мити несколько раз сходились и расходились. Вместе они торговали пивом в переходе на Павелецком вокзале; потом Митя в рамках малого предприятия делал резные деревянные телефоны, а Паша торговал штанами-слаксами в Лужниках; вместе они работали художниками по настенным кафельным панно в мастерской под Красносельским железнодорожным мостом, наносили краску из пульверизатора на необожженную плитку через трафареты; потом Митя работал дворником, Паша стропальщиком. Спускался Паша и в преисподнюю – когда варил майонез на майонезном заводе. Завод был действительно сущим адом. Темень, жира по щиколотку, вся одежда жиром пропитана, котлы с майонезом кипят, горчичная пыль бьет в глаза, тусклая лампочка под потолком огромного темного подвала, и лоснящиеся майонезные дамы в одних купальниках извиваются от непосильного труда, как чертовки в пляске смерти. Паше нравилась эта пляска, в отличие от Мити он легко вживался в коллектив. Майонез выпускали неважный, хозяин пузо изрядное сумел себе отрастить, а на яичный порошок денег не находил, заменял крахмалом. Из преисподней Паша вышел преображенным.
Заговаривая о юности Мити и Паши, этих тридцатилетних чудаков, следует предупредить, что они в отношении своей юности навязчивы. Им бы только вспомнить свою недавнюю юность. Чтобы удостовериться лишний раз в том, что юность у них все-таки была, они и пересекаются возле ларька, а иногда заезжают на Нагорную к своему приятелю Кафтанову. В прошлом музыканту, композитору, теперь внештатному бухгалтеру, любителю старомодных исторических романов, в изголовье его кровати всегда лежит пожелтевшими страницами вниз открытый том Пикуля. Заезжают с тревожным чувством.
Про квартиру Кафтанова Паша говорит: «Здесь брось семечко – оно прорастет». Люстра напрочь без висюлек, неметеный дощатый пол заставлен пустыми пивными бутылками. Отец Кафтанова, Юра, в прошлом капитан КГБ, ходит по квартире в лыжной шапке, натянутой на один глаз: у него глаукома и белая горячка, он живет в недрах квартиры, в дальней комнате по коридору, куда Митя никогда не заглядывал. Митя, не в пример Паше, нечастый гость на Нагорной. Кафтанов-старший не любит Митю. Бывали инциденты. Вот, например, сидели как-то, вернее, Митя стоял посреди комнаты, ожидая Пашу, когда тот сподобиться встать с угла кровати Кафтанова и выйти в прихожую. Давно подоспела пора раскланиваться. Кафтанов крепко спал, лежал почти бесплотный под шерстяным одеялом, а Паша сидел у него в ногах величественно и печально, с прямой спиной. Тут чертом из табакерки выскочил папаша, Кафтанов-старший. Он оглядел Митю, и тот опять ему не понравился, старик не стал скрывать своих чувств.
– Ну-ка, уходи отсюда! – закричал он визгливо, – уходи, я сказал!
Даже попытался схватить Митю за рукав.
– О, главный чувак вышел, католикос всех армян, – обрадовался Паша. – Ты это, Юр, грабли-то убери.
– А что он? – пожаловался Юра.
– Он-то ничего. А вот ты чего? Тебя что, совсем сколбасило? Что домотался до человека?
– Не нравится он мне, – стал извиваться Юра, – не нравится!
– Выпьешь беленького?
– Выпью.
– Вот и славно.
Юра вынес какую-то медицинскую склянку с резиновой пробкой, Паша отлил ему «беленького».
– Не нравится он мне… – поморщился напоследок Юра.
– Ладно, забей. Ты в состоянии сам передвигаться? Ну вот и иди.
– Я пойду, отдохну… – махнул рукой куда-то в сторону Юра.
– Во-во, отдохни, – сказал Паша, уже забывая о нем.
Юра исчез в конце коридора.
Когда же Юра бывает в духе, он рассказывает приятелям сына, как он в бытность капитаном ГБ «посматривал» за диссидентами и «полеживал» с женщинами. Кафтанов-сын и Паша называют старшего Кафтанова «католикосом всех армян», хотя он совсем не похож на армянина, скорее, на чиновного поэта Твардовского.
Иногда Кафтаныч-младший на расстроенной «Заре» по каким-то цыплячьим крючкам, которые Митя его давно и тщетно упрашивает перевести в человеческие ноты, для его, Митиной, супруги-пианистки, – исполняет гостям свои юношеские произведения, пивные бутылки на полу начинают казаться органными трубами. Митя в таких случаях плачет, Паша его насмешливо успокаивает, а Митя упрекает Пашу, что это он, Паша, погубил талант Кафтанова. Почему он – неизвестно. Талант Кафтанова, помимо водки и бухгалтерии, погубил то ли какой-то попмузыкальный педераст, по слухам, Кафтанова совративший, то ли, как утверждает сам Кафтанов, нормальная несчастная любовь к девушке.
Сегодня к Кафтанову не поехали, не хватило запала. Напоследок заспорили.
– Если бы Бог был, то он бы не допустил всего этого, – сказал Паша сорвано, без своей улыбочки, но и без слез, конечно.
– Старая песня! – поспешно обрадовался Митя. В споре он всегда радовался, равно и отчаивался, поспешно.
– Старая не старая, а песня.
– Да ты поэт…
– Нет, я не поэт. Это ты поэт, и причем, весьма посредственный, если веришь в Бога.
– Если бы Бога не было, то некого было бы и отрицать, ты бы Его и не отрицал, если б Его не было, – сказал Митя.
Рассуждение Паше понравилось.
– Тут я даже с тобой готов согласиться, – ткнул он пальцем в Митю. – Но не соглашусь.
– Почему?
– Лень.
– Никогда ты не скажешь ничего позитивного, – стал его укорять Митя, – одно отрицание. Светишь отраженным светом, как месяц в небе. Скажи что-нибудь позитивное.
– Не дождешься. Ни того тебе треба, тебе надобно преклонение. Улавливаешь? На Нагорной все дружно перед тобой преклоняются. Кафтанов, тот готов перед тобой на колени даже встать.
– Значит, мне скоро откажут там от дому, – опечалился Митя. – Хотя, вероятней всего, Кафтанов пошутил.
– Не-а, он не шутил. Они ведь преклоняются, не потому что ты какая-нибудь там незаурядная личность, а единственно потому, что ты этого сам хочешь, вот где собака порылась. Им-то, по большому счету, все фиолетово, – хочешь, чтобы мы перед тобой преклонялись? Изволь.
– А тебе не все фиолетово?
– Нет.
– Значит, у тебя все-таки есть святыня?
– Может быть, и есть. Но я тебе о ней не скажу, расслабься… Ты пойми! Ты, что называется, фишку не рубишь. Со своей жаждой чужого преклонения ты навсегда останешься шутом! На тебе кататься будут, а ты упорно будешь думать, что перед тобой преклоняются.
И Паша пошел прочь, ступая широко и стремительно, словно аршином мерил.
Следующим утром Паша был на работе, Митя дома.
Оттепель. Большой тополь перед окном стал от оттепели ярко-горчичным. Митя стоял перед окном и чего-то ждал. Яркость тополя потрясла его. Впереди бесконечный день, жена на работе, дочка в детском саду. Митя сел за письменный стол (у него был маленький студенческий письменный стол).
«Эх, сложно писать о молодости. Есть в ней что-то непривлекательное, – начал Митя, благо авторучка сегодня не спряталась от него, а покорно торчала из мраморного тяжелого стакана. – Или дело в читателе? Читатель завидует чужой молодости, а о своей ничего сказать не в состоянии, словно ее почти и не было: прожиты впустую просторные дни, брошены на произвол сильные мысли, не наверстать. И читатель завидует. Что ж, его право – ни в чем не надо стеснять читателя.
Юность наша началась с поступления в педагогическое училище № 4. И, если верить Гераклиту, тем же закончилась. Гераклит говорил: “Время существует и не существует. Всегда из сущего оно уходит и приходит само по противоположной себе дороге. Ибо завтра для нас на деле будет вчера, вчера же было завтра”».
Митя осекся, пошел пить кофе. «Почему кофе расплескивается всегда, тогда как чай только изредка? – подумал он. – Вот и опять клеенка залита кофе. Что за фатум?» Выхлебав чашку, он ринулся в комнату и продолжил.
«После школы я провалился в Университет и пединститут, причем в обоих случаях на сочинении, и в обоих случаях я, кроме прочих ошибок, написал слово философский через в, то есть филосовский, отказаться от этого слова я тогда, видно, не мог. Провалившись, я отнес документы в укромное педучилище на еще более укромное дошкольное отделение. Забился в угол. И явно поторопился. Кто раз поторопится, потом очень долго медлит. Хотя жизнь, по-моему, и есть промедление.
Сперва хотел на школьное, но только узнал, что туда надо сдавать алгебру, в страхе решил идти на дошкольное. Зачем я все это проделал, до сих пор не могу постичь, ведь отсрочки от армии училище не давало, от армии я откосил другим способом. Кроме меня и несметных девушек, идущих в два потока, поступили еще двое. Сначала о Паше Водопоеве.
Глубокие выпуклые синие глазищи ни рожна не видят, в одном линза, другой – для рассмотрения мелких предметов, подносимых к самому зрачку. Соломенные юношеские усы, легкие русые кудри, шея, как ствол, и весь, как тополь, – не этот за окном, а весенний, это сейчас он стал, как за окном. Но ручищи и тогда еле заметно дрожали, что-то нервное. Я сразу заговорил с ним. Он и не отвечал почти, лишь улыбался рассеянно и мелко кивал головой. На экзамене он вел себя схоже. Но мальчики так желанны были педулищу, что Паша поступил. Поступил и Толя Макаров.
Встретил как-то Толю, лет через семь после училища. Он еще полысел (лысеть он начал в юности). Я посоветовал ему мыть голову яйцом, он посмотрел на меня благодарно. Он попыхивал трубочкой, хотя раньше никогда не курил.
– А что ты закурил? – спросил я. – Попал в курящее женское общество?
– Нет, – пустынно улыбнулся Толя. – Но ты как всегда угадал, – добавил он таинственно.
– Какой же тогда резон курить?
– Я хоть спать стал, – объяснил он. – А то я совсем перестал спать. Мне снится, что я в белом костюме прохаживаюсь по морскому пляжу, ноги вязнут в песке, пиджак расстегнут, ворот синей шелковой рубашки расстегнут. А вокруг загорелые девушки в купальниках. Они льнут ко мне, смеются моим шуткам. Наяву никто не смеется моим шуткам.
Я засмеялся, но и этот смех был ему приятен.
– То есть этот сон вошел у тебя в обиход? – спросил я.
– Да, – сперва ответил Толя. Но потом потупился и спросил: – что ты имеешь в виду?
– Это не я имею в виду, а Паскаль, Блез.
– Паскаль? – со вздохом укоризны переспросил Толя.
– Да. Он полагал, что ремесленник, которому каждую ночь снится, что он царь, так же счастлив, как царь, которому каждую ночь снится, что он ремесленник.
– Я не так легковерен, – предупредил Толя.
– Ты хочешь сказать, что ты упрям, как осел?
– Возможно.
(Недавно Толя женился на балерине, значит, правильно не верил своим снам. А я верю своим счастливым снам и женился на пианистке.)
– Нет, не поэтому. Ты куришь, потому что никотин вызывает здоровую тревогу… – решил я.
Но вернемся. Через месяц после экзаменов, в первых числах сентября нас отправили на свеклу. Поселили в опустевшем после третьей смены пионерском лагере вблизи Оки. Но не только нас. Еще во множестве пэтэушников из какого-то подмосковного города. Хорошо, их корпуса были в стороне от нашего, хотя столовая с дискотекой – эпицентром их праздника – стояла прямо напротив.
Маргарита с одним из них якшалась. Маргарита – широколицая татарочка с кривоватыми ногами, тонкими щиколотками и хищной белой улыбкой, дочь мясника. Восточная сладость, тудой ее чих-пых. Когда девчонки в момент всплеска симпатии к нам убирались в нашей палате, Маргарита подняла одеяло на Толиной койке, вдохнула ноздрями, сказала: «Мужиком пахнет!». Так рассказывали ее подруги. А она в свой черед рассказывала, какие они все шлюхи, а одна так вообще оборотень – покрыта шерстью с головы до пят.
Я на Риту запал, завидя, с какой грацией и холодным азартом она большим гнущимся тесаком срубает свекольную ботву. На свеклу нас выгнали после недели сезона дождей. Мы так привыкли отлеживаться на койках, пить за намеренно открытой дверцей шкафа разбавленный спирт, покупаемый у строителей моста через Оку, слушать кассету Uriah Heep и петь под гитару «Воскресенье», иногда захаживая со всем этим репертуаром к нашим соседкам со старшего курса, – что решили поначалу саботировать уборку свеклы – в первый день работ слегли.
У меня свело ногу, у Паши схватило спину, у Толи тоже какой-то жуткий приступ, не помню. Впрочем, у него, в отрочестве перенесшего автокатастрофу, действительно болела голова от перемены погоды.
Пришла медсестра. Толю она сразу грубо пристыдила и отправила на работу. Паше сделала мучительный укол, от которого он и впрямь весь день воздерживался лишний раз покинуть кровать, а меня с моей, казалось бы, самой неубедительной ногой оставила невредимым и праздным.
Но на следующее утро на работу пришлось все-таки выползти. Началась для нас свекольная страда. В минуты передышки мы метали тесаки в полные свеклы мешки, сложенные грудой, от воткнувшегося лезвия расходилась по мешковине темная свекольная кровь. Запах жирной земли мешался с запахом раненой свеклы и мокрой мешковины, непромокаемые штаны обольстительно сидели на коротких ногах Риты. После дождей показалось сентябрьское солнышко и опалило нас – мы обгорели, задремав, по пояс обнаженные, на колхозных ватниках.
Вечерами на дискотеке мы шарахались меж разъяренных пэтэушников и не чуяли опасности в поисках женских ласк. У меня тогда были длинные волосы до плеч, за что пэтэушники окликали меня лохом.
Вот мы шли с дискотеки по тропинке, в очередной раз женскими ласками обделенные; и рядом со мной возник долговязый путяговец. Остальные путяговцы всерьез оскорблялись моими волосами, манили в сторону, делали гнетущие замечания, а этот придумал меня осмеять. «Дай, я тебя поцелую, моя красавица!» – говорит и прет с объятиями. Я его толкнул в грудки, он неплохо отлетел, и наскочил обратно с другими чувствами, но в сердцах – уже не на меня, а на влекущегося следом Пашу. Паша дальновидно воздержался от сопротивления. Они там, носились слухи, своему на третий день свеклы голову проломили. Что бы они сделали с нами, если бы мы затеяли битву, одному Богу ведомо. А так Паша получил разок-другой и удалился с миром.
Или вдруг он не сопротивлялся из брезгливости? То есть, на кой он, короткостриженый опять же, примется драться за чьи-то длинные волосы? Что за пошлая солидарность? Лучше уж получить трошки, а потом умыться холодной водой. Но так бы он сам объяснил. На самом деле, было что-то в Пашином непротивлении мечтательное, словно он просто замечтался, и глупейшие удары по лицу остались им почти незамеченными. Я потом весь вечер смотрел на Пашу с восхищением и любопытством: о чем он замечтался?
Под конец свеклы мы решили побриться, так как обросли непонятно чем, а бритву не припасли.
На свекольном поле я постоянно забывал свою шапку. Отойдем от поля километра на полтора, Паша скажет: «Ну что же ты? Беги обратно за шапкой». Я бежал, так ежедневно. Возвращался на безлюдное парное поле, уставленное мешками со свеклой, и чувствовал себя среди бугристых мешков и брошенных на землю и вонзенных в мешки обагренных тесаков Дон-Кихотом под Илионом.
Зато о бритье я позаботился единственный, взял с собой из Москвы матушкин французский крем для удаления волос с нежных мест. Мы обросли странно, более-менее полноценная борода образовалось к нашему возрасту разве что у Паши. Девочки без того относились к нам, как к курьезу: сдавались или не сдавались под гнетущим напором путяговцев, мы же были для них почти как подружки. Но вот «подружки» эти стали обрастать, и то не как мужчины, а скорее, как оборотни. Разве что та покрытая, если верить ревнивой Рите, шерстью сокурсница могла войти в наше положение. При таком скоплении осанистых чувих нежными нашими местами были, конечно, морды лица. Поэтому закономерно, что именно на них наносился французский крем.
Я, впрочем, класть благоуханный крем на свою нежную морду не торопился. Но Пашу и Толю искушал что было сил, нахваливал крем, называл его чудодейственным. И они искушению поддались.
Они нанесли крем на щеки, стали ждать установленные пять, что ли, минут. Я замер со специальной лопаточкой в пальцах, чтобы, как подойдет время, моментально ее и вручить для соскабливания сведенного волоса.
Толя сказал, глядя исподлобья угрюмо:
– Что-то дерет рожу нестерпимо. Зуд по всей роже. Может, пора?
– Да, – согласился Паша, различая в пространстве даль. – Чешется морда лица.
– Рано, – внушал я. – Надо потерпеть, а то неполный будет эффект.
Еще посидели.
– Нет, – порывисто встал Толя. – Не могу больше!
Он отнял у меня лопаточку, ринулся в умывальню. Паша величаво побрел за ним. В умывальне Толя стал сдирать запекшийся крем. Сходил крем неровно: местами волосы отстали, местами остались расти. Толя, не тая омерзения, смыл остатки крема. Показалось, что у него стригущий лишай или какая-то более опасная болезнь. Волос сошел плешами.
Паша стал скребсти вторым, эффект у него получился посимпатичней. Однако его нежная кожа не вынесла бытовой химии, украсилась яркими пунцовыми пятнами, так что получилась еще не морда, но уже и не лицо, а именно – морда лица.
Толя молча выбежал на улицу. Там возле крыльца он сразу встретил нашего красавца-милиционера, грузина, явно не обделенного лицевой растительностью, и вымолил у него сборную безопасную, на деле же небезопасную, бритву. Этой небезопасной бритвой Толя, вернувшись в умывальню, изодрал себе лицо вконец, до кровищи. Я же, как шаловливый демон, остался с легкой мефистофелевской бородкой на нежной, насмешливой и умиленной бедствию друзей физиономии.
В последний день работ нас перебросили на морковку. Мы выковыривали ее из вязкой глинистой земли, тосковали малость о мелькнувшем – как то нас опалившее солнышко – несбывшемся счастье, но счастье было впереди, оно и теперь впереди».
Митя отпрянул от рукописи, в нестерпимой восторженной тревоге заходил по своей тесной квартире. «Но дальше что? – спросил он неизвестно кого. – Описывать училище? Но я не умею. Будь я сатириком, наверное, смешно описал. Будь я сатириком, я б не перебивался от получки к получке поминальным печеньем, чаще стирал свои вещи, убирался в комнате, наконец, поклеил обои, устроился на человеческую работу, грешил бы меньше, не так боялся бы смерти, боялся бы, но по-другому – созидательно, запломбировал бы зубы, научился бы разговаривать с женщинами… и с мужчинами… Но я не сатирик. Пора бежать за дочкой в детский сад». Митя оделся, побежал по сугробам, буквально побежал, так он был взволнован.
Несколько дней он не мог вернуться к рукописи, лежал поверх покрывала бледный. Жена ругала его:
– Опять у тебя депрессия?!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?