Текст книги "Вся жизнь впереди (пер. В.Орлова)"
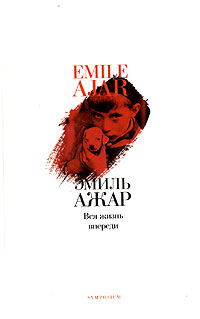
Автор книги: Эмиль Ажар
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Животики надорвешь смотреть на мадам Розу, когда она пугается звонков. Самый подходящий для этого момент – рано-рано утром, когда день еще только подкрадывается на цыпочках. Немцы встают рано и предпочитают раннее утро любому другому времени суток. Кто-нибудь из нас подымался, выходил на лестничную клетку и давил на кнопку звонка. Долго так давил, чтобы все произошло немедленно. Ну и умора! Это надо было видеть. В ту пору в мадам Розе было уже, наверное, килограммов под сто, ну так вот, ее будто ветром сдувало с кровати, она кубарем скатывалась на целый пролет вниз и только тогда останавливалась. А мы все лежали и прикидывались спящими. Когда до нее доходило, что это не нацисты, она приходила в неописуемую ярость и обзывала нас шлюхиным отродьем, на что у нее, впрочем, были все основания. На какое-то время она замирала с выпученными глазами и с бигуди на последних пучках волос, что оставались у нее на голове, – сперва, верно, думала, что ей это приснилось и никакого звонка не было вовсе, что это шло изнутри. Но всегда кто-нибудь из нас не выдерживал и прыскал, и когда до нее доходило, что она снова стала жертвой, она давала волю гневу или же ударялась в слезы.
Лично я считаю, что евреи такие же люди, как все, и нечего за это точить на них зуб.
Часто никому из нас не приходилось даже вставать, чтобы нажать на звонок, потому что мадам Роза проделывала все сама. Она ни с того ни с сего вдруг просыпалась, садилась на свой зад, который у нее был больше, чем вы в состоянии себе представить, потом спрыгивала с кровати, накидывала свою любимую сиреневую шаль и пускалась наутек. Она даже не смотрела, есть ли кто-нибудь за дверью, потому что звонить продолжало у нее внутри, а уж хуже этого не придумаешь. Иногда она спускалась на один-два пролета, но бывало, и мчалась до самого подвала, как в тот раз, о котором я уже имел честь. Поначалу я даже думал, что она спрятала в подвале клад и будит ее страх перед ворами. Я всегда мечтал иметь клад, спрятанный в таком месте, где он укрыт от всех и от всего и чтобы я мог найти его сразу, как только понадобится. Я думаю, что клад – это лучшее, что может быть, когда он действительно твой и в полной безопасности. Я засек место, куда мадам Роза прятала ключ от подвала, и как-то раз отправился туда поглядеть. Ничего я там не нашел. Мебель, ночной горшок, сардины, свечи – в общем, всякая всячина словно для того, чтобы кто-нибудь мог там жить. Я зажег свечу и стал приглядываться, но ничего, кроме щербатых стен, которые будто скалились, не увидел. И тут вдруг я услышал шум и подскочил на месте, но это была всего-навсего мадам Роза. Она стояла в дверях и смотрела на меня. И вид у нее был при этом не сердитый – скорее, наоборот, виноватый, как будто это ей нужно было просить прощения.
– Не нужно никому говорить об этом, Момо. Дай-ка его сюда.
Она протянула руку и забрала у меня ключ.
– Мадам Роза, а что здесь такое? Почему вы приходите сюда иногда даже среди ночи? Это что?
Она поправила на носу очки и улыбнулась.
– Это моя запасная резиденция, Момо. Ладно, пошли.
Она задула свечу, потом взяла меня за руку, и мы поднялись наверх. После она уселась в свое кресло, держась рукой за сердце, потому что семь этажей для нее уже тогда были мукой смертной.
– Поклянись мне, Момо, что никогда никому об этом не расскажешь.
– Клянусь, мадам Роза.
– Хайрем?
Это по-ихнему означает «клянусь».
– Хайрем.
Тогда она пробормотала, глядя поверх меня, словно видела очень далеко и позади, и впереди:
– Это мое еврейское логово, Момо.
– А, вон оно что.
– Ты понимаешь?
– Нет, но это неважно, я привык.
– Там я прячусь, когда мне страшно.
– Страшно чего, мадам Роза?
– Для страха вовсе не обязательно иметь причину, Момо.
Это я запомнил на всю жизнь, потому что это самая правдивая вещь, которую мне когда-либо доводилось слышать.
Я частенько заходил посидеть в комнате для ожидания доктора Каца, потому что мадам Роза твердила, что это человек, который творит добро, но я ничего такого не чувствовал. Видно, слишком мало там сидел. Я знаю, на свете полно людей, которые творят добро, но они занимаются этим не все время, так что нужно удачно попасть. Чудес не бывает. По первости доктор Кац, выходя, спрашивал, не заболел ли я, но потом привык и оставил меня в покое. Кстати, у дантистов тоже есть такие комнаты, но они лечат только зубы. Мадам Роза говорила, что доктор Кац занимается всеобщей медициной, и у него и вправду бывало все и вся: евреи, само собой, где их только нет, североафриканцы (это чтобы не говорить «арабы»), черные и всякие виды болезней. Наверняка там хватало и всяких венерических болезней – благодаря рабочим-иммигрантам, которые подхватывают эти штуки перед тем, как выехать во Францию, чтобы попользоваться социальным обеспечением. Венерические болезни в общественных местах не заразны, поэтому их доктор Кац принимал, но зато запрещалось притаскивать дифтерит, скарлатину, корь и прочие пакости, которые полагается держать на дому. Вот только родители, те не всегда знали, что с ихними детьми такое, и поэтому раз-другой я заполучил там грипп и коклюш, которые предназначались не мне. Но я все равно приходил. Я очень любил сидеть в комнате для ожидания и чего-то ожидать, и когда дверь кабинета открывалась и оттуда выходил доктор Кац, одетый во все белое, и гладил меня по волосам, я чувствовал себя куда лучше, а ведь медицина для того и существует.
Мадам Роза сильно беспокоилась о моем здоровье и говорила, что я настигнут созреванием и у меня уже пробудилось то, что она называла врагом рода человеческого: оно принималось расти по многу раз на день. Второй серьезной заботой после созревания у нее были дядья и тетки – это когда настоящие родители умирали в автомобильной катастрофе, а те не хотели по-настоящему заботиться о детях, но и отдавать их в Призрение тоже не хотели, ведь тогда вокруг стали бы считать, что у них нет сердца. Тогда-то они и приходили к нам, особенно если ребенок был подавленный. Мадам Роза называла ребенка подавленным, когда на него накатывала подавленность, как это видно из названия. То есть он знать ничего не желал про жизнь и становился истуканом. Это самое паршивое, что может приключиться с малышом.
Когда мадам Розе приводили новенького на несколько дней или на рабочую неделю, она обследовала его со всех точек зрения, но первым делом хотела убедиться, что он не подавленный. Она корчила ему рожи, чтобы напугать, или же надевала перчатку, где каждый палец – забавный человечек; это всегда вызывало смех у малышей, которые не были подавленными, а остальные были вроде как не от мира сего, потому-то их и называют истуканами. Таких мадам Роза принимать не могла, с такими нужно работать не покладая рук, а рабочей силы у нее не было. Как-то раз одна марокканка, которая боролась за жизнь в доме терпеливости на бульваре Гут д’Ор, всучила ей пацана, а потом померла, не оставив адреса. Мадам Розе пришлось отдать его в социальное учреждение вместе с фальшивыми бумагами, которые доказывали, что он существует, и от этого она даже заболела, потому что нет ничего тоскливей, чем учреждение.
Да и со здоровыми малышами всегда есть риск. Попробуйте-ка заставить неизвестных родителей забрать пацана, когда против них нет законных улик. Нет ничего хуже, чем бесчеловечные матери. Мадам Роза говорила, что у животных законы устроены лучше, а у нас приютить малыша и то опасно. Если настоящей матери вздумается потом прийти и закатить мадам Розе скандал из-за того, что ее ребенку хорошо живется, то все права будут на ее стороне. Вот почему фальшивые бумаги – лучшие в мире, и если найдется стерва, которая спустя два года обнаружит, что ее ребенку хорошо живется у других, и захочет забрать его назад и показать, где раки зимуют, то, если ему заделали фальшивые бумаги по всем правилам, она никогда его не разыщет, и это дает ему шанс на спасение.
Мадам Роза говорила, что у животных это устроено куда лучше, чем у нас, потому что у них есть закон природы, особенно у львиц. Львицами она прямо-таки восхищалась. Когда я ложился спать, то перед тем как заснуть, часто представлял себе, что позвонили в дверь, – я шел открывать, и там оказывалась львица, которая просилась войти, чтобы защитить своих малышей. Мадам Роза говорила, что львицы этим и знамениты и если бы вдруг какая-нибудь из них не стала защищать своих детенышей, все бы ее осудили.
Я вызывал свою львицу почти каждую ночь. Она входила, запрыгивала на кровать и принималась вылизывать нам физиономии – ведь другие пацаны тоже в ней нуждались, а я, как старший, должен был о них заботиться. Только вот львы пользуются дурной славой, ведь им надо, как и остальным, чем-то кормиться, так что когда я объявлял другим, что сейчас придет моя львица, подымался вой, и даже Банания присоединялся, хотя, видит Бог, уж ему-то на все было наплевать по причине своего баснословно хорошего настроения. Я очень любил Бананию, его взяла французская семья, в которой было место, и когда-нибудь я его навещу.
В конце концов и мадам Роза узнала, что, покуда она спит, я впускаю львицу. Она понимала, что это понарошку и я просто мечтаю во сне о законах природы, но ее система становилась все более нервной, и мысль о том, что по квартире бродят хищники, вызывала у нее кошмары. Она с воплями просыпалась, ведь если у меня это была мечта, то у нее это превращалось в кошмар: она всегда говорила, что мечты, когда стареют, непременно становятся кошмарами. У нас с ней были совершенно разные львицы, но что же вы хотите.
Понятия не имею, о чем мадам Роза могла мечтать во сне. В том, чтобы мечтать назад, я не вижу смысла, а мечтать вперед в своем возрасте она уже не могла. Может, ей снилась молодость, когда у нее была красота и еще не было здоровья. Не знаю, чем занимались ее родители, но дело было в Польше. Она боролась за жизнь сначала там, потом в Париже, на улице Фурси, на улице Блонделя, на улице Синь – везде понемножку, а после принялась за Марокко и Алжир. По-арабски она говорила очень хорошо, без всяких яких. Она обслуживала даже Иностранный легион в Сиди-Бель-Аббесе, но когда вернулась во Францию, все пошло кувырком, потому что ей захотелось вкусить любви, а тот тип отобрал у нее все сбережения и выдал французской полиции как еврейку. На этом месте она всегда прерывала свой рассказ и говорила: «Ну, что было, то прошло», и при этом улыбалась, ей это было приятно.
Вернувшись из Германии, она еще несколько лет боролась за жизнь, но после пятидесяти начала толстеть и стала уже далеко не такой аппетитной. Она знала, что женщинам, которые борются за жизнь, очень трудно держать при себе детей, потому что закон запрещает это из-за морали, и у нее возникла идея открыть внесемейный пансион для малышей, которые родились неправильно. По-нашему говоря – подполье. Ей посчастливилось вырастить таким макаром полицейского комиссара, тоже сына шлюхи, который ей покровительствовал, но теперь ей было шестьдесят пять и пора было готовиться. Больше всего ее страшил рак – это уж точно хана. Я хорошо видел, что она приходит в негодность, и иногда мы молча смотрели друг на дружку и вместе боялись, потому что больше у нас ничего на свете не было. Вот почему в ее состоянии ей не хватало только львицы, разгуливающей по квартире. Что ж, я приспособился, я лежал в темноте с открытыми глазами, львица приходила, ложилась рядом и вылизывала мне лицо, и все это – ничего никому не говоря. Когда мадам Роза со страху просыпалась, входила к нам и воцаряла свет, то видела, что все мирно спят. Но на всякий случай она все равно заглядывала под кровати, и это было даже забавно, когда подумаешь, что львы – это единственное, чего никак не могло с ней приключиться, поскольку в Париже, говоря по правде, их вообще нет, дикие животные бывают только в природе.
Тогда-то я впервые и понял, что она малость тронутая. Ей довелось в жизни хлебнуть всякого, и теперь наступала пора расплачиваться, потому что за все в жизни нужно платить. Она даже потащила меня к доктору Кацу и сказала ему, что я впускаю диких зверей, чтобы они свободно разгуливали по квартире, а это явный признак. Я прекрасно понимал, что они знают что-то такое, о чем не следует говорить при мне, но понятия не имел, что бы это могло быть и чего мадам Роза так боится.
– Доктор, у него будут припадки, я в этом просто уверена.
– Не говорите глупостей, мадам Роза. Вам нечего опасаться. Наш маленький Момо очень впечатлительный. Это не болезнь, и вы уж поверьте старому медику: вовсе не болезни лечить трудней всего.
– Тогда почему же у него все время львы на уме?
– Прежде всего, не львы, а львица.
Доктор Кац улыбнулся и протянул мне мятный леденец.
– Да, львица. А что делают львицы? Они защищают своих малышей…
Мадам Роза вздохнула.
– Вам хорошо известно, доктор, чего я боюсь.
Доктор Кац побагровел от гнева.
– Замолчите, мадам Роза. Вы совершенно темный человек. Вы ничего не смыслите в этих вещах и воображаете Бог весть что. Просто какие-то средневековые суеверия. Я вам повторял это тысячу раз и прошу вас, прекратите наконец.
Он хотел прибавить что-то еще, но тут глянул на меня, поднялся и вывел меня из кабинета. Пришлось подслушивать под дверью.
– Доктор, я так боюсь, чтоб он не оказался с наследственностью.
– Ну вот что, мадам Роза, хватит. Прежде всего, вы даже не знаете, кто был его отец, – при том ремесле, какое было у его бедной матери. Да и как бы то ни было, я вам уже объяснял, что это еще ничего не значит. Тут вступают в игру тысячи других факторов. Бесспорно одно – что этот ребенок очень чувствителен и нуждается в любви.
– Не могу же я вылизывать ему каждый вечер лицо, доктор. Откуда только он таких мыслей набрался? И почему его не захотели оставить в школе?
– Потому что вы снабдили мальчика такой метрикой, которая не имеет ни малейшего отношения к его истинному возрасту. Вы слишком привязаны к этому малышу.
– Я только боюсь, как бы его у меня не отобрали. Заметьте, про него никто ничего не сможет доказать. Такие вещи я помечаю на клочке бумаги или просто держу в голове, потому что девицы вечно трясутся, как бы это не выплыло наружу. Проститутки со своими дурными наклонностями не могут воспитывать детей, потому что лишены родительских прав. Благодаря этому их можно держать в руках и шантажировать годами, они согласны на все, лишь бы не потерять свое чадо. А сейчас среди сутилеров полно самых обыкновенных сводников. Никто уже не хочет делать свое дело как положено!
– Вы славная женщина, мадам Роза. Сейчас я пропишу вам успокоительное.
Так я ничего и не узнал. Только стал еще уверенней, чем прежде, что старуха что-то от меня утаивает, да я не так уж и рвался узнать. Чем больше знаешь, тем меньше остается хорошего. Мой приятель Махут – он тоже сын шлюхи – говорил, что среди нас тайна – дело обычное, из-за закона больших чисел. Он говорил, что если женщина делает все по правилам, но происходит несчастный случай и она решает ребенка сохранить, то ей постоянно угрожает административное расследование, а хуже этого ничего не бывает, это для нее уж точно хана. В нашем случае расплачивается всегда мать, потому что отец охраняется законом больших чисел.
У мадам Розы на дне чемодана хранился клочок бумаги, где я записан как Мухаммед, а еще – три кило картошки, фунт морковки, сто грамм масла, одна фиш, то есть рыбина, триста франков, воспитывать в мусульманской религии. Была там и дата, но это всего лишь день, когда она приняла меня на хранение, и понять, когда я родился, невозможно.
Об остальных пацанах заботиться приходилось мне, особенно по части подтирания, потому что мадам Розе из-за своей толщины нагибаться было тяжело. Талии у нее вообще не было, и зад переходил сразу в плечи без остановки. Когда она шла, будто вся квартира с места сдвигалась.
По субботам к вечеру она надевала синее платье с рыжей лисой и серьги, накрашивалась краснее обычного и уходила посидеть во французское кафе «Купол» на Монпарнасе, где съедала кусок торта.
Я никогда не подтирал пацанов старше четырех лет, потому что имел свое достоинство, а бывали такие, что делали в штаны нарочно. Но я-то хорошо знаю этих паршивцев и научил их таким вот макаром играть, я имею в виду – подтирать друг дружку: я им объяснил, что так оно веселей, чем оставаться при своих интересах. Дело пошло как нельзя лучше, и мадам Роза поздравила меня и сказала, что вот и я уже начинаю бороться за жизнь. Сам-то я не играл с другими пацанами, они для меня были слишком маленькими, разве что начнешь иной раз сравнивать пипирки, и тогда мадам Роза свирепела, потому что ужасно эти вещи не любила из-за всего, что ей пришлось пережить. Продолжала она бояться и львов по ночам, и даже не верится, что можно так нападать на львов, когда подумаешь, сколько для страха есть настоящих причин.
У мадам Розы были сердечные неприятности, поэтому по магазинам из-за лестницы ходил я. Для нее не было ничего хуже этажей. Она все сильней и сильней свистела при дыхании, и я из-за нее тоже начал мучиться астмой – как говорит доктор Кац, нет ничего заразней психологии. Это такая штука, о которой мало что известно. Каждое утро, видя, как мадам Роза просыпается, я был счастлив, потому что и у меня бывали кошмары – я страсть как боялся остаться без нее.
Самым верным другом был мне в ту пору зонтик по имени Артур, которого я разодел с головы до ног. Я сделал ему голову из зеленой тряпки, обмотанной вокруг ручки, и забавную рожицу с улыбкой и круглыми глазами – губной помадой мадам Розы. И не столько для того, чтобы было кого любить, а чтобы выступать клоуном, потому что карманных денег у меня не было и я ходил добывать их во французские кварталы, где они водятся. Я был в широченном пальто до самых пят, а вдобавок нахлобучивал котелок и размалевывал красками лицо, и с Артуром на пару мы выглядели – обхохочешься. Я черт-те что выделывал на тротуаре и порой заколачивал до двадцати франков в день, но приходилось быть начеку, потому что полиция глаз не спускает с несовершеннолетних на воле. Артур, как одноногий, был в одном кеде, синем с белым, в брюках, в клетчатом пиджаке – вместо плеч я приспособил к нему веревочкой вешалку, а еще я пришил ему к голове круглую шапочку. Я попросил мосье Н’Да Амеде одолжить мне одежонки для моего зонтика, и знаете, что он сделал? Он повел меня в «Пул д’Ор» на бульваре Бельвиля, где торгуют самым шикарным, и разрешил выбрать все что захочется. Не знаю, все ли они в Африке такие, как он, но если да, то у них всего должно быть вволю.
Давая представление на тротуаре, я вышагивал вперевалку, плясал с Артуром да подбирал деньгу. Некоторые начинали возмущаться и говорили, что, мол, никому не дозволено так обращаться с детьми. Понятия не имею, кто со мной как обращался, но были и такие, которые расстраивались. Странные люди – ведь все это делалось для смеху.
Время от времени Артур ломался. Вешалку я приколотил к нему гвоздем, так что в плечах он стал шире, но одна пустая штанина продолжала болтаться, что для зонтика дело обычное. Мосье Хамиль был недоволен, он говорил, что Артур похож на идола, а это против нашей религии. Сам-то я неверующий, но когда у вас появляется диковинная, ни на что не похожая штуковина, вы и впрямь начинаете надеяться, что она что-то может. Я спал с Артуром в обнимку, а наутро высматривал, дышит ли еще мадам Роза.
Я никогда не бывал в церкви, потому что это против истинной религии, а уж чего я хотел меньше всего на свете, так это впутываться в эти дела. Но я знаю, что христиане готовы отдать последнее, лишь бы иметь у себя дома Христа, а у нас запрещено изображать человеческое лицо, чтобы не оскорблять Господа, и это легко понять, потому что гордиться особенно нечем. Поэтому я стер Артуру лицо и оставил просто шар, зеленый, словно со страху, и тем пришел в согласие со своей религией. Как-то раз, когда на хвосте у меня висела полиция, потому что своими ужимками я устроил скопление народа, я, удирая, уронил Артура, и тот разлетелся в разные стороны: шапочка, вешалка, пиджак, кед и прочее. Самого-то его я подобрал, но он остался голым, каким его создал Господь. Так вот, самое смешное, что мадам Роза ничего не говорила, когда Артур был одет и я с ним спал, но когда он перестал быть идолом и я захотел взять его с собой под одеяло, она раскричалась, что никому еще в голову не взбредало спать с зонтиком. Вот и пойми ее после этого.
У меня было кое-что отложено про запас, и я купил Артуру новую амуницию на Блошином рынке – там у них чего только нет.
Но счастье начало от нас отворачиваться. До той поры мои чеки приходили хоть и нерегулярно – иные месяца проскакивали всухую, – но все-таки приходили. И вдруг как отрезало. Два месяца, три – ничего. Четыре. Я сказал мадам Розе, думая об этом так сильно, что голос дрожал:
– Мадам Роза, не надо бояться. Вы можете положиться на меня. Я не собираюсь бросать вас только потому, что вы не получаете больше денег.
Потом я взял Артура, вышел и сел на тротуар, чтобы не реветь у всех на глазах.
Надо вам сказать, что дело становилось дрянь. Мадам Розу настигал предел возраста, и она сама это знала. Лестница с ее семью этажами стала для нас врагом общества номер один. Когда-нибудь она доконает мадам Розу, та была в этом просто уверена. Да и я понимал, что доконать ее уже не составляло никакого труда, достаточно было посмотреть на нее. Где у нее грудь, а где живот и задница – и не разберешь толком, прямо как бочка. Пацанов на пансионе оставалось все меньше, потому что девицы не доверяли больше мадам Розе ввиду ее состояния. Они видели, что она уже не может ни о ком заботиться, и предпочитали платить дороже и обращаться к мадам Софи или к матушке Айше, что на улице Алжира. Денег они зарабатывали порядком, так что могли себе такое позволить. Шлюхи, знакомые мадам Розе лично, исчезли по причине смены поколений. Поскольку жила она за счет людской молвы, а на тротуарах молва о ней поутихла, то и репутация ее сходила на нет. Когда ноги еще служили ей, она сама обходила рабочие места и кафе на улице Пигаль и на Центральном рынке, где девицы боролись за жизнь, и помаленьку создавала себе рекламу, расхваливая качество обслуги, шамовку и прочее. Теперь же она этого не могла. Приятельницы все куда-то сгинули, и рекомендовать ее стало некому. К тому же появилась легальная пилюля для охраны младенчества, так что теперь ребенка надо было действительно хотеть, и если он все-таки появлялся, оправданий уже быть не могло – вы знали, на что шли.
Мне стукнуло десять, и пора было помогать мадам Розе. Вдобавок приходилось задумываться и о будущем, потому что останься я один, и Общественное призрение зацапает меня в два счета. От этого я не спал ночами и все глядел на мадам Розу, чтобы убедиться, что она еще не помирает.
Я пробовал бороться за жизнь. Хорошенько причесывался, мазал духами мадам Розы за ушами, как она, и ближе к вечеру отправлялся с Артуром на улицу Пигаль или на улицу Бланш – та тоже годится. Там всегда есть женщины – они ведь борются за жизнь круглосуточно, – и обязательно какая-нибудь из них подруливала ко мне и говорила:
– Гляди, какой славный мальчуган. Твоя мама работает здесь?
– Нет, у меня еще никого нет.
За это меня обычно угощали мятным чаем в кафе на улице Масэ. Но мне приходилось быть начеку, потому что за сутилерами охотится полиция, да и женщинам тоже следовало остерегаться – им запрещено приставать самим. Вопросы всегда были одни и те же:
– Сколько тебе годков, красавчик?
– Десять.
– Мама у тебя есть?
Я отвечал «нет» и всякий раз переживал за мадам Розу, но что же вы хотите. Одна там особенно со мной нежничала, а иногда, проходя мимо, совала мне в карман купюру. Она носила мини-юбку и сапоги до самого верха и была куда моложе мадам Розы. У нее были очень ласковые глаза, и однажды, хорошенько осмотревшись вокруг, она взяла меня за руку, и мы отправились в кафе «Клубничка», которого сейчас там уже нет, потому что в него бросили бомбу.
– Не надо слоняться по тротуарам, это не место для малышей.
Она все гладила меня по голове – вроде как волосы поправляла. Но я-то знал: ей просто хотелось меня приласкать.
– Зовут-то тебя как?
– Момо.
– А где твои родители, Момо?
– У меня никого нет, с чего вы взяли. Я свободен.
– Но в конце концов кто-то ведь о тебе заботится?
Я потягивал оранжад: сначала нужно поглядеть.
– Может, мне поговорить с твоими? Я бы с радостью заботилась о тебе. Отдала бы тебя в школу, ты жил бы как королевич и ни в чем не нуждался.
– Надо поглядеть.
Я покончил с оранжадом и слез со стула.
– Держи, это тебе на леденцы, дорогуша.
Она сунула мне в карман банкнот. Сто франков. Это как я вам имею честь.
Я наведывался туда еще раза два-три, и она всегда приветливо улыбалась мне, но издали, грустно, потому что я был не ее.
Но вот невезуха: кассирша в «Клубничке» была приятельницей мадам Розы еще с тех времен, когда они вместе боролись за жизнь. Она доложила старухе, и какую же я заполучил сцену ревности! Никогда еще я не видел ее в таком расстройстве, она плакала навзрыд. «Не для того я тебя воспитывала», – она повторила это раз десять и все рыдала. Пришлось поклясться ей, что больше я туда ни ногой и никогда не стану сутилером. Она сказала, что все они сводники и уж лучше ей умереть. Но я понятия не имел, чем еще можно заняться в мои-то десять лет.
Мне всегда казалось странным, что слезы предусмотрены заранее. Получается, что люди так задуманы, чтобы плакать. Об этом стоило поразмыслить. Ни один уважающий себя конструктор такого бы не сляпал.
Чеки по-прежнему не приходили, и мадам Роза начала набеги на сберегательную кассу. Она отложила кое-какие гроши на старость, но хорошо знала, что долго не протянет. Рака у нее все еще не было, зато все остальное приходило в негодность прямо на глазах. Она даже как-то раз впервые заговорила со мной про моих мать и отца, потому что, похоже, у меня были оба. Однажды вечером они пришли меня сдать, и моя мать разревелась и убежала. Мадам Роза пометила меня как Мухаммеда, мусульманина, и заверила, что я буду как сыр в масле кататься. А вот потом, потом… Она вздыхала и говорила, что больше ей, мол, ничего не известно, вот только глаза почему-то отводила. Я не знал, что она от меня скрывает, но по ночам это нагоняло на меня страх. Я так и не смог выудить из нее еще хоть что-нибудь, даже когда перестали приходить чеки и у нее не оставалось причин меня щадить. Все, что я знал, – это что отец и мать у меня наверняка были, тут уж природа неумолима. Но они так и не вернулись, и мадам Роза, говоря об этом, принимала виноватый вид и умолкала. Сразу же скажу вам, что мать я так никогда и не отыскал, – не хочу вызывать у вас напрасных надежд. Однажды, когда я уж очень насел на мадам Розу, та придумала такую убогую басню, что слушать было одно удовольствие.
– По мне, так у твоей матери были буржуазные предрассудки, потому что родом она из хорошей семьи. Она не хотела, чтобы ты узнал, что у нее за профессия. И уехала, рыдая, с разбитым сердцем, чтобы больше уж не вернуться, потому что, как считает медицина, предрассудки причинили бы тебе жестокую травму.
И тут мадам Роза сама всплакнула: никто так не любил красивых историй, как она. Думаю, доктор Кац был прав, когда я ему об этом рассказал. Он сказал, что шлюхи – это надуманное понятие. Да и мосье Хамиль, который прочитал Виктора Гюго и прожил больше, чем любой другой старик, с улыбкой объяснил мне, что нет ничего белого или черного и что белое – это зачастую хорошо замаскировавшееся черное, а черное – это белое, которое дало себя захватать. И он даже добавил, глядя на мосье Дрисса, который принес его любимый чай с мятой: «Уж поверьте моему опыту старика». Мосье Хамиль – великий человек, просто обстоятельства не так сложились.
Чеки не приходили вот уже несколько месяцев, а что до Банании, то этих денег мадам Роза и вовсе не нюхала, если не считать того дня, когда его нам сплавили, потому что тогда мадам Роза затребовала плату за два месяца вперед. Теперь Банании бесплатно шел четвертый год, но он вел себя без всякого стеснения, как если бы за него платили. Мадам Роза сумела подыскать ему семью – этому шкету всегда чертовски везло. Мойше – тот все еще состоял под наблюдением и лопал в семье, которая пасла его уже шесть месяцев, желая удостовериться, что ребенок хорошего качества и не страдает эпилепсией или припадками. Именно припадков больше всего боятся семьи, когда прицеливаются к малышу, так что это главное, чего надо избегать, если хочешь усыновиться. На приходящих пацанов и для прокорма самой мадам Розы требовалось тысяча двести франков в месяц, да еще к этому нужно прибавить лекарства и кредит, в котором ей отказывали. Одну только мадам Розу меньше чем на пятнадцать франков в день кормить было нельзя, не будучи извергом, даже если уговорить ее похудеть. Помню, я честно сказал ей, что нужно похудеть, чтобы поменьше есть, но это было очень жестоко по отношению к старому человеку, который один в целом свете и которому поэтому себя самого нужно больше, чем кому другому. Когда вас некому любить, все обращается в жир. Я снова зачастил на улицу Пигаль, где по-прежнему виделся с той дамой, Маризой, которая полюбила меня, потому что я был еще ребенком. Но я страсть как боялся, ведь сутилеров сажают в тюрьму, и потому встречаться нам приходилось тайком. Я поджидал ее в подворотне, она приходила, обнимала меня, наклонялась, говорила: «Золотко ты мое, как бы я хотела иметь такого сына, как ты», а потом совала мне плату за встречу. Еще я пользовался у нас в квартале Бананией, чтобы без помех шуровать на полках. Я оставлял Бананию одного с его улыбкой, чтобы та обезоруживала, и он устраивал вокруг себя скопление народа, потому что своим видом вызывал взволнованные и умильные чувства. К этим чернокожим очень хорошо относятся, когда им четыре-пять лет. Бывало, ущипну его, чтоб он заголосил, люди окружат его заботой и участием, а я тем временем тырю всякие пригодные для еды штуки. У меня было пальто до пят с бездонными, как прорва, карманами, которые мне пришила мадам Роза, и все выходило как по нотам. Голод спуску не дает. Чтобы выйти из магазина, я брал Бананию на руки и примащивался возле какой-нибудь женщины, которая расплачивалась, и все считали, будто я с ней, а Банания тем временем улыбался всем и каждому, как шлюха на панели. К детям все настроены очень хорошо, пока они еще не опасны. Даже мне доставались ласковые слова и улыбки – людям всегда как-то покойно на душе при виде пацана, который еще не достиг бандитского возраста. У меня каштановые волосы, голубые глаза и нет такого еврейского носа, как у арабов, так что со своей физиономией я могу сойти за кого угодно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































