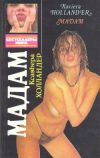Текст книги "Материя зримого. Костюм и драпировки в живописи"

Автор книги: Энн Холландер
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Разницу между барочными драпировками на этой картине, которые художники множили без какой-либо особой цели, просто ради них самих, в конце XVII века, и прекрасными эффектами, которые в целом были разработаны для гиматиев Мадонн к 1500 году, можно понять, сравнив эту «Мадонну с младенцем» Сассоферрато и «Мадонну с младенцем и двумя ангелами» Превитали в первой главе (см. ил. 17). Ренессансные драпировки выглядят списанными с натуры в их подлинном богатстве; драпировки Сассоферрато выглядят концептуально богатыми и обобщенно-теоретическими, как будто художник использовал формулу. Освещение у Превитали приглушено, чтобы объединить складки драпировок на фигурах с их окружением; у Сассоферрато агрессивный свет уплощает драпировки, и они выделяются как перегруженные элементы. Сассоферрато испытал влияние Караваджо, его смешения реальной и вымышленной ткани и того, как он обращался со светом, но ему недоставало изобретательности нидерландских живописцев, таких как Рембрандт и Вермеер, приложивших собственное трансцендентное видение к инновациям Караваджо.
Примечательно, что Караваджо, чтобы показать предельную остроту скорби своей Магдалины, не стал обнажать одну из ее грудей, как это делали многие художники. Обращаясь к древнегреческому образу воительницы-амазонки, художники эпохи Возрождения иногда изображали женских персонажей с одной грудью, обнажившейся в порыве самозабвенного фанатизма или страха в легендарном контексте смертного боя, борьбы за праведное дело, отчаянного побега. В течение XVII столетия мастера итальянского барокко подхватили мотив одной обнаженной груди для изображения кающихся Магдалин и суицидальных Клеопатр – женских персонажей, традиционно связанных с чувственностью. Поразительное мастерство, с которым художники передавали движение складок вокруг обнаженной груди, придавало дополнительную силу решимости или отчаянию таких персонажей. Многие художники барокко, как, например, Гвидо Рени в «Лукреции» (ил. 52), владели особым умением показывать крайнее проявление духовного кризиса и пик чувственности в одной картине.
Это сочетание кажется уместным в изображении истории Лукреции, прекрасной древнеримской матроны, известной своей добродетелью. Она заколола себя кинжалом, чтобы восстановить поруганную честь, после того как публично рассказала об изнасиловании Тарквинием, другом и союзником мужа. После ее самоубийства муж Лукреции с последователями отомстили Тарквинию и его семье, правящим тиранам, свергли их власть и основали Римскую Республику. Этот сюжет представляет Лукрецию ранней мученицей в легендарной истории Рима; но в дальнейшем его сопровождало устойчивое подозрение, что добродетельная Лукреция, должно быть, наслаждалась изнасилованием и покончила с собой из‐за личного стыда. Это подозрение использовал святой Августин, рассуждая о Лукреции в своем труде «О Граде Божьем», где он осуждает самоубийство, особенно невинных людей. Он считает, что самоубийство Лукреции можно было бы оправдать, только если бы она покончила с собой из‐за осознания собственной вины; и он утверждает, что лишь ей одной были известны причины отчаянного поступка. Далее он допускает, что языческая религия позволяла ей верить, будто самоубийство было единственным средством представить ее невиновной; но христианин должен счесть ее убийцей, ведь она убила невинного человека, если была таковой в действительности.
Лукреция стала частым персонажем произведений художников, наряду с самопожертвованием включивших в ее образ идею о сексуальном удовольствии, так что ренессансные картины с Лукрецией, держащей нож, иногда показывали ее в растрепанной версии все того же модного наряда, что могла бы носить Мария Магдалина. Имя Лукреции, а также ее кинжал могла носить соблазнительная обнаженная модель, изображенная во весь рост, а затем та же натурщица позировала в образе Евы с яблоком или Венеры с зеркалом. Версия перед нами, приписываемая Гвидо Рени, предлагает нам объемные, текучие складки, обнажающие живую грудь перед нависающим лезвием в кулаке Лукреции, и больше ничто на картине не говорит нам о сути происходящего, кроме выражения нарочитого отчаяния и осознания собственной сексуальной привлекательности на лице модели.
Мы можем видеть, как изменился эротический поясной портрет через два поколения со времен спокойной дамы Тициана в начале этой главы: в чувственную драму наготы, частично приоткрытой драпировкой, был включен исторический элемент. Более поздний пример этой перемены представляет улыбающийся крестьянский мальчик, написанный в 1670‐х годах Мурильо (см. ил. 41), чье привлекательное обнаженное плечо, которое мы видели ранее, перекликается с плечами юношей у Караваджо. Но в то время как мальчики Караваджо, так же как и Флора, признают свою привлекательность без претенциозности и, похоже, носят свои соблазнительные драпировки по личным причинам, а не для зрителей, мальчик Мурильо и Лукреция Рени, как кажется, каждый играют свою роль: один чуть улыбается с отрепетированным шармом, другая смотрит в небо в позе страдания. Ощущение театральности проистекает из более доступного восприятию эмоционального уровня, на котором находится чувственность, мы считываем ее по возведенным к небу глазам Лукреции и перекрученным драпировкам, по сентиментальному сочетанию обнажающих лохмотий и привлекательной улыбки крестьянского ребенка.
Художники никогда не отказывались от ренессансного мотива поясного изображения наполовину задрапированной фигуры, которое может носить легендарное или экзотическое название, но в котором нам легче увидеть натурщицу или портретируемого. Многовековая история великих шедевров со времен Античности придала престиж виду драпированной ткани, льнущей к коже или скользящей по ней, – мотив, возбуждающий чувства еще более базовые, чем вид расстегнутой одежды; и художники эпохи Возрождения предоставили удобный формат для изображения этой темы крупным планом. Хорошим примером тому может послужить автопортрет Синди Шерман со слегка растрепанными волосами: розовый банный халат из шенили, задрапированный по-барочному, чтобы обнажить одно плечо, соблазнительная складка между рукой и подмышкой и одна обнаженная лодыжка (ил. 54). На первый взгляд, она больше напоминает Вакха Караваджо, чем венецианскую Венеру; но на женском поясном портрете Фридриха фон Амерлинга 1840‐х годов (ил. 53) мы можем видеть источник женского обнаженного плеча, как у Шерман, в романтической живописи: здесь художник также подчеркнул квазидекольте (находящееся на спине, но намекающее на грудь), используя настоящие предметы одежды, изображающие из себя драпировку, а также несколько завитых локонов.
Великие голливудские фотографы, которым позировали женщины с легендарными именами и лицами, использовали мотив изображенной по пояс наполовину задрапированной фигуры на протяжении всего XX века, ловко приспосабливая его к моде на драпированные платья, часто подчеркивая поднятые вверх голые плечи (ил. 55, 56). На этих изображениях мы видим неотразимый образ сознающей свою красоту, себялюбивой красавицы, образ Венеры, удваивающей свою силу в зеркале объектива. Эти драматические голливудские портреты еще ярче, чем модные фотографии, показывают, что дух барокко крепко удерживает свои позиции и в современном мире.
В XVIII веке французские художники эпохи рококо продолжали – теперь уже с беззаботным энтузиазмом, а не серьезным фанатизмом – прославлять античную привлекательность обнаженных частей тела, появляющихся из ничем не мотивированных вихрей ткани, и не только в поясном портрете. В своей «Темноволосой одалиске», написанной около 1745 года (ил. 57), Франсуа Буше ориентализирует сюжет, изображая модель, лежащую на животе, на низком диване. Она игриво смотрит на зрителя, обнажая нижнюю часть тела и раздвигая ноги в океане жестких ломаных складок. Большая часть этого моря тяжелым каскадом спускается вниз со стены позади нее и поднимается между ее ног голубыми бархатными волнами; некоторые из них раздуваются под ее телом, словно буруны, сине-белыми полосами, а остальная часть пенится вокруг ее талии и плеч белыми брызгами, возможно, являя собой сорочку. Ее стопа касается дна в виде розового ковра на полу: его сине-золотая кайма вздымается, будто стремясь слиться с остальными волнами. О помещениях сераля напоминают лишь ее маленький расшитый жемчугом тюрбан с пером, да курильница для благовоний на низком столике, где также лежат жемчужные ожерелья. Экзотика главным образом передана беспорядочным изобилием тканей, нарисованных только лишь для того, чтобы разливаться вокруг этих ягодиц, ради чувственности как таковой, не подчиняясь никаким бытовым функциям.
На более позднем изображении (ил. 58) Жан-Оноре Фрагонар придает сюжету немало пикантности, уложив модель на спину в обычную кровать и прикрыв ее обнаженное межножье мехом живой зверушки. Ее кровать при этом целиком состоит из драпировок, волнами сбегающих и пузырящихся вокруг основного действия. Они словно бы убеждают задравшуюся сорочку, отброшенный ночной чепец и скинутый халат тоже превратиться в драпировки вместе с простынями, так чтобы они могли все вместе колыхаться в бурном текстильном волнении от того, как эта девушка вскинула голые ноги, чтобы удержать на весу свою счастливую собачку.
Глава 4
Высокое трюкачество и чистая выдумка
Ко второй половине XVII века использование художниками совершенно фантастических драпировок достигло апогея и пребывало там, пусть и с некоторыми изменениями тона, большую часть XVIII столетия. В этот период самозабвенная увлеченность живописными драпировками в стиле барокко, будь то церемониально пышными или неистово бурными, постепенно уступала место нарочитому духу театра. Сопутствующие драпировки в мифологических и библейских сюжетах стали все больше походить на декоративные занавесы, развешанные гирляндами вокруг сцены, в то время как фигуры стали выглядеть так, будто вместо одежды, соответствующей их действиям или страстям, их одели в исторические или фантастические костюмы для театрального представления. Элегантная портретная живопись могла включать большой отрез дорогой ткани, наброшенный на одетое тело модели, не для того, чтобы служить плащом или мантией, а просто для зрелищности, вне зависимости от того, была ли одежда модели настоящей или выдуманной.
К 1630‐м годам ван Дейк уже использовал этот особый эффект в своих портретах, хотя, когда он одевал своих моделей в особенно причудливую одежду, он мог вводить отсылки к костюмам, которые носили модели Тициана, – то есть вариацию ансамбля Флоры, состоявшего из сорочки и драпировки, – такую, как мы видим на леди Венеции Дигби, олицетворявшей Благоразумие в 1634 году (ил. 59). На картине она благоразумно носит два плаща, один черный, чтобы эффектно закрепить его по диагонали на груди, а другой – из плотного розового атласа, предназначенного только для того, чтобы он сиял на коленях и плечах. Эти драматические эффекты драпировки тем не менее так же просты, как и в «Вознесении» Рубенса 1626 года или в «Святой Екатерине» Пуссена 1629 года, которые мы рассматривали в предыдущей главе. В случае портретируемых, изображавших самих себя, мы также видим, что ван Дейк создавал одинаково естественные эффекты как в объемной одежде и шарфах моделей, так и в обильных драпировках за ними (см. ил. 37, 38).
Однако портрет графини Каслхейвен (ил. 60) показывает необычайно нереалистичное для того времени использование живописной драпировки, вызывая в памяти Тинторетто, но в то же время предвосхищая более нарочито украшенные портреты последующего столетия. Леди Каслхейвен изображена стоя в три четверти роста на нейтральном фоне. В первую очередь мы видим на ней некое обобщенное платье, которое, как пришли к выводу историки костюма, было полностью изобретено ван Дейком, по-видимому, для того, чтобы позволить себе использовать ничем не скрываемое декольте по моде XVI века в женских портретах – леди Энн Карр (см. ил. 38) тоже носит такое.
В настоящих парадных английских платьях первой трети XVII века ни один низкий вырез нельзя представить без декоративного кружева либо снаружи, в качестве отделки платья, либо внутри, на белье, либо и там и там: сам ван Дейк отразил этот факт в официальных портретах королевы Генриетты Марии 1630‐х годов.
Вместо кружева между откровенным вырезом леди Каслхейвен и ее плотью появляется тонкая белая линия – художественный прием, как и брошь на ее плече и фестоны, окаймляющие рукава, отсылающий нас к пасторальным образам венецианских художников высокого Возрождения. На ее теле и в воздухе извиваются два или три метра синей драпировки в духе Тинторетто: укрощенная на мгновение ладонью и предплечьем дамы, она явно изо всех сил старалась взлететь к полной свободе в эмпиреи искусства. Чтобы создать уравновешенный и реальный образ, художник обрамляет выразительное лицо леди Каслхейвен современными прической и украшениями.
Активная драпировка, помещенная в пространство изображения исключительно ради нее самой, как на фигуре, так и возле нее, к 1700 году стала довольно типичной чертой европейской портретной живописи. К этому времени она уже создавала впечатление, которое я называю театральным, или нарочитым, или сценическим, или зрелищным, в отличие от раннего выразительного использования, которое я называла драматическим; и применение этого эффекта не ограничивалось портретами. Я утверждаю, что разница между драпировкой такого рода и той, что мы видели в более ранних барочных произведениях, заключается в посыле, с которым они добавляются: теперь она явно присутствует в изображении в качестве знака того, что я бы назвала трюкачеством от искусства. В мифологических и библейских сюжетах драпировки присутствуют теперь не для того, чтобы усилить драму, происходящую между персонажами, или внутреннюю драму в душе одной фигуры, такой как Мария Магдалина или святая Инесса, или создавать выигрышный контраст кроеному гардеробу модели; и не для того, чтобы установить связь с работами более ранних художников, чтобы воззвать к силе искусства. Их присутствие призвано поместить картину в область ловких трюков, подобно драпировке вокруг сцены, и схожим образом вызвать в зрителе желание поверить в невероятное. Драпировка может использоваться с прямой отсылкой к театру или просто как указание на выдумку, но с большим реализмом в изображении складок, чтобы зрителю было легче расстаться со своим неверием.
Небольшой и прелестный тому пример – портрет, написанный около 1700 года голландским художником Готфридом Схалкеном (ил. 61), в котором мы видим модель с современной прической и в современной сорочке с широкой оборкой, без малейшей отсылки к Тициану или же ван Дейку, отсылающему к Тициану. Но поверх сорочки художник пустил перекрученный отрез синего шелка, один конец которого – не ясно, какой именно конец, – взмывает в воздух позади модели. Ее предплечья и руки невидимы, и они явно не имеют совершено никакого отношения к полету этого куска ткани. Позади нее висит настоящая завеса, отороченная бахромой, превращающаяся слева в тусклый пузырь типичной сопутствующей драпировки. Театральность заключена в змееподобном виде и развевающемся уголке этого отреза живописного текстиля, хотя в самом изображении нет ни ветра, ни эмоциональной драмы. Драпировка – единственный декоративный, представительный и зрелищный элемент в этом нежном портрете.
Другим впечатляющим примером является портрет графа Фульвио Грати, созданный болонским художником Джузеппе Марией Креспи в 1705 году (ил. 62). Здесь фоновая драпировка была специально выделена как театральная с помощью фигуры, напоминающей слугу, подбирающей ее в складки за спиной портретируемого. Граф позирует с лютней на коленях и касается мандолины на столе, в то время как другой слуга ищет нужную страницу в нотном сборнике. Одна роскошная зеленая драпировка прикрывает ножки стола под мандолиной, но самая эффектная лежит под лютней, крупными складками золотого шелка спускаясь с колен модели и образуя роскошный фон для одной из его стройных икр. Даже если этот объект представляет собой плащ, он не изображается здесь как таковой. Все эти драпированные складки дополняют портрет благородного музыканта-любителя, добавляя театральную текстильную составляющую, и превращают его в фантастическую «живую картину», передающую слабые отголоски лиры императора Нерона. Помимо всех прочих атрибутов выдумки, граф одет в жилет и простую сорочку с длинными рукавами на старинный манер без кружевных манжет или галстука для удобства игры на лютне.
Во Франции в 1724 году Гиацинт Риго изобразил Антуана Париса (ил. 63) покойно сидящим в кресле в своей библиотеке в отороченной кружевом сорочке с раскрытым воротом и расстегнутом коричневом шелковом камзоле без узоров, и даже его пышный парик выглядит вполне естественно. Тем не менее к животу портретируемый прижимает примерно пятнадцать метров собранного в складки иссиня-черного бархата, отрезы которого сшиты вместе видимым швом, подбиты прекрасно выписанной золотой парчой и по краям отделаны четко различимой золотой вышивкой. У этого роскошного предмета нет ни начала, ни конца, он тяжело приземлился в объятия модели откуда-то слева, затем блеснул подкладкой над правым коленом и, наконец вырвавшись, обвился вокруг правой руки графа, сложился, чтобы еще раз продемонстрировать подкладку, прежде чем исчезнуть за его спиной, возможно, чтобы спуститься с кресла и проследовать в следующую комнату. Эта ткань, без сомнения, представляет собой настоящую мантию с реальными размерами, предназначенную для того, чтобы в торжественных случаях ниспадать тяжелыми складками вокруг фигуры Антуана Париса. Риго изобразил ее здесь в виде моря беззастенчивого хвастовства, своего рода тайную парадную завесу, струящуюся посреди камерного портрета.
Еще одно поколение спустя, в 1749 году, Жан-Марк Натье дает нам пример еще более вычурного стиля французского портрета (ил. 64). Тяжелая драпировка, все еще, возможно, наводящая на мысль о парадной завесе, здесь подхвачена в откровенно театральной манере, как и у Креспи; но теперь она украшает интимный будуар с покрытым кружевами туалетным столиком, и в то же время приоткрывает вид на некую неправдоподобную классическую архитектуру на заднем плане. На матери и дочери – исключительно изобразительная одежда, в обоих случаях смутно напоминающая сорочку, платье и просторную бесформенную мантию. Однако одежда полностью выписана как драпированная ткань, что соответствует скорее оригинальному идеалу Тициана, чем его версии у ван Дейка, но теперь она живая и задорная, без намека на аллегорию или четко определенный классический источник. Тема украшательства прямо заявлена действием: мать украшает прическу дочери, стоящей на коленях рядом с ней, держа открытую шкатулку с украшениями. Предполагается, что талант применять украшения является добродетелью, подходящим предметом изучения через материнские наставления и ее личный пример.
Нарядные платья этих двух дам, столь пышные и взбитые, соотносятся с теми, что мы увидим позже в том же столетии на моделях Цоффани и Рейнольдса, хотя к тому времени возымеют свое влияние неоклассические представления о природе и Античности, и пенная пышность сойдет со сцены. Ценность переодевания только для портрета в драпированную одежду, смутно намекающую на античный мифологический характер, решительно заявлена уже в этом портрете; от нас не требуется верить в то, что эти две аристократки одеваются подобным образом в повседневной жизни: скрепляя широкие рукава и перехватывая талию нитями драгоценных камней, как мадам Марсолье на этой картине. Мы знаем, что на самом деле они обе носили конические корсеты и узкие рукава с оборками на локтях, украшенные лентами, точно так же как и другие модели Натье того времени, независимо от того, вводил ли художник в их портреты богатые драпировки в духе Риго. На других костюмированных портретах они могли появиться вне помещения в костюме Дианы с луком и колчаном, диадемой с полумесяцем и шкурой леопарда. В реальных обстоятельствах, показанных здесь, каждая из них будет одета в домашнее платье, не похожее на эти одежды; но на этой картине мы можем насладиться пышными складками их нарочито живописных, квазиклассических костюмов, а также театральным декором их будуара.
Этот портрет выполнен в духе жанровой сцены или же сцены из романа или легенды; и картины этой категории характеризовались той же зрелищностью в исполнении драпировок и одежды. В них мы находим дух трюкачества, поддерживаемый новым и более нарочитым использованием живописного костюма, часто изображаемого как некое намеренно причудливое платье, даже если драпировка в картине не используется.
Узкая тема театрального костюма давно обсуждается в рамках общего вопроса о том, что носят на картинах. Факты свидетельствуют о том, что с XIII по XVI век между одеждой, которую носили люди на картинах, и той, что они надевали для придворных театральных представлений или на уличных театральных подмостках, существовал взаимообмен; и я бы осмелилась утверждать, что большей частью обмен этот протекал совершенно неосознанно. Художников интересовали способы изображения одежды, которую зрители могли распознавать не как театральную, а как подходящую для персонажа; а сценические портные редко шили костюмы, копируя конкретные картины. В любую эпоху портной и художник разделяли бы общее мнение о том, как должен быть одет тот или иной персонаж или тип: например, что должен носить рядовой ангел; и художники иногда создавали эскизы для портных; но театр не пытался быть живописным, как и живопись не старалась быть театральной. Они были частью одного цеха.
Реальное маскарадное платье имеет более интересную связь с живописью, потому что оно придумывается и надевается не-актерами для особых костюмированных случаев: карнавала, придворных масок, балов-маскарадов, праздников. Одним из таких случаев также могло быть написание портрета натурщицы, переодетой Флорой, или благородной аристократки, переодетой Дианой, только в этом случае переодевание совершал художник и лишь в пространстве изображения. Мы видели, что художники всегда располагали свободой добавлять современные стилистические признаки или современные детали к одежде своих библейских или мифологических персонажей, при условии что они оставались узнаваемыми. Так, на картинах Дева Мария могла появляться с самыми разными фасонами рукавов, при этом она всегда носит то, что по сути является костюмом Девы Марии; а богиня Диана, или Клеопатра, или олицетворение Благоразумия могли носить по сути классический костюм, при этом весь ансамбль художник составлял так, чтобы он был похож на элегантное модное платье современной ему дамы или современной натурщицы, с силуэтом и прической надлежащей формы.
Я выдвигаю предположение, что все европейские художники были склонны так поступать совершенно неосознанно вплоть до того периода, который мы рассматриваем сейчас; и что где-то около 1700 года или, возможно, чуть раньше живописная одежда на картинах – портретах и не только – стала более преднамеренно похожа на маскарадный костюм или же на самом деле им являлась; и что в то же самое время любые сопутствующие драпировки становились нарочито сценическими, даже если художник не ставил перед собой цели найти им определенное театральное применение.
Сценические и маскарадные костюмы, как представляется, стали вызывать у художников больший интерес как предметы изображения сами по себе: создавались картины по мотивам театральных постановок, а профессиональные актеры и актрисы часто изображались на портретах как в сценических костюмах или выдуманных живописных нарядах, так и в их собственной одежде. Другие портреты в обычной одежде, и мужские, и женские, продолжали выглядеть довольно незатейливо, заметно отличаясь от театральных с их выдуманной одеждой, в то время как прически в этих двух типах портрета, как правило, не различались. Жанр, который теперь назывался «исторической живописью», то есть картины на серьезные сюжеты из мифологии и библейской истории, стал приобретать ярко выраженное театральное качество, предоставляя драпировкам служить решением еще более зрелищных задач.
Великие венецианские художники XVIII века Джованни Баттиста и Джованни Доменико Тьеполо, отец и сын, часто изображали исторических и вымышленных персонажей в костюмах XVI века, независимо от того, когда происходили события изображенной сцены, и «костюм» – единственное подходящее определение тому, что носят герои этих произведений. Гармоничные одежды со множеством деталей на Антонии и Клеопатре или на дочери фараона, нашедшей младенца Моисея, и на многих других, хотя и наследуют тяжелым одеждам на ранних картинах Веронезе, тем не менее демонстрируют все стилистические признаки сценического платья. Квазиисторические высокие воротники слишком высоки, широкие – слишком широки, рукава слишком раздуты, завитые рога волос слишком велики, так что весь ансамбль был слегка гипертрофирован, как было свойственно историческому костюму для придворных процессий или променадов, где фигура должна была лишь показаться, а не актерствовать, петь или танцевать.
В эскизе маслом для своей знаменитой фрески «Встреча Антония и Клеопатры» (ил. 65), датируемой примерно 1743 годом, Тьеполо-старший приписывает египтянам тюрбаны как жителям востока, а героического Антония одевает в настоящий римский доспех со шлемом и короткой походной юбкой; при этом ноги воина он закрывает плотно облегающими бриджами. Все эти моды следовали за сценическими конвенциями, заимствованными из театра эпохи Возрождения, которые во времена Тьеполо все еще бытовали на сцене для обозначения древности. Однако в соответствии с ними героиню следовало облачить в жесткий корсет и пышную двойную юбку, совсем не древнеримскую: женские персонажи всегда носили современное модное платье с дополнительными экзотическими штрихами, соответствующими роли. Но вместо этого Тьеполо превратил весь ее наряд в венецианский сценический костюм XVI века, включая прическу Клеопатры в виде рогов и украшенные прорезями валики по верху ее рукавов – и те и другие могли бы появиться на сценической Клеопатре во времена Веронезе, как тогда было модно.
Это значит, что отсылка Тьеполо к театральной сцене не прямая: он изображает не текущую сценическую практику, узнаваемую для всех. Скорее, он создает более общее впечатление театральности или то, что я бы назвала зрелищным способом использовать историческую одежду, способом подчеркнуть присущий ей характер «костюма» без намерения изобразить то, что можно было увидеть в тот момент или в прошлом на реальной театральной сцене. Это исключительно живописный театр, в котором Тьеполо был первоклассным мастером. На стенах и потолках дворцов, для которых были выполнены многие из его фресок, в обрамлении подобной декорациям иллюзионистически выписанной архитектуры, такой образ квазитеатрального зрелища находил свое идеальное место.
Мы можем видеть несколько иной сарториальный эффект на небольшом полотне Джованни Доменико Тьеполо, датируемом примерно 1752–1753 годами. Оно изображает бракосочетание Фридриха Барбароссы и Беатрис Бургундской, событие, которое произошло в середине сурового XII века (ил. 66). Джандоменико тоже костюмировал его участников так, как будто это происходило в конце роскошного XVI века, хотя гиперболические воротники и рукава на новобрачных и их свите гораздо больше напоминают нашему с вами глазу то, что художники по костюмам французских исторических фильмов любили создавать примерно в 1948 году, чем то, что он мог видеть на картинах Веронезе или на сцене эпохи Возрождения. Композиция, однако, вовсе не кинематографична, она полностью соответствует логике истории искусства и, в отличие от костюмов, отдает должное великим венецианским предшественникам. Но праздничные драпировки, украшающие обстановку, зрелищны в стиле их собственной эпохи: огромное количество совершенно достоверной шелковой саржи, поднятой работниками сцены, чтобы она покровительственно раскинулась во время церемонии или радостно заколыхалась на созданном театральной машинерией ветру.
Коронный прием Тьеполо – это реализм всех костюмов: они выглядят так, как будто были выкроены и сшиты из определенной ткани, посажены на подкладку, подбиты, усилены элементами жесткости, проложены подушечками и взбиты специально для данной постановки, будь то «живая картина», аллегория «Четыре Континента», драма из Торквато Тассо или библейский эпизод. Швы и крепления четко обозначены, так же как галуны и кромки, и одежда отлично сидит. Это не воображаемая живописная одежда в микеланджелевской или тинтореттовской манере, где невразумительность кроя является выразительным преимуществом. Она победоносно достоверна, даже когда представляет собой не квазиренессансные исторические костюмы, а выдуманные плащи и туники, а также части театрального доспеха на сверхъестественных персонажах, парящих в воздухе. Будь то летящие шарфы или пояса, развевающиеся в облаках вокруг фигур персонажей, вы можете рассмотреть, где эти воздушные предметы одежды начинаются и заканчиваются, из чего они сделаны и как они держатся на теле.
Во Франции, примерно на десятилетие раньше, чем Тьеполо-старший, и в более интимном ключе, Жан-Антуан Ватто также специализировался на театрализованных фантазиях, встраивая свою знаменитую деликатную двусмысленность в точно отрисованные версии костюмов конца XVI столетия. Он также отдавал дань уважения Веронезе, но еще больше – Рубенсу, отчасти потому, что Ватто сам был фламандским художником, полноправным наследником раннего фламандского способа обращения со светом, деталями и несколько неуклюжим движением. Только некоторые из его персонажей носят маскарадные платья, и немногие из них обращаются к гардеробу итальянской комедии дель арте, и все же все они так или иначе позируют, играют и переодеваются в костюмы. В частично мифических и абсолютно постановочных сценках Ватто нет ни эпического замысла, ни кинематографического размаха, в них нет даже явного повествования – только слои атмосферы. Большая ее часть создается способностью художника вдохнуть трепет живого опыта в ловко расставленные им нарисованные фигурки, носящие костюмоподобную одежду с естественной грацией.
На картине «Приятный отдых» (ил. 67), написанной около 1713 года, ничего не происходит: никто не играет на музыкальных инструментах и не танцует, никто даже не поворачивается и не встает. Кажется, будто пара общается без слов: кавалер теребит эфес шпаги, опираясь на одну руку, а дама держит свой веер закрытым, сидя с идеально прямой спиной благодаря жесткому корсету. Из-за ее спины выглядывает ручная собачка, настороженно ожидающая сигнала, на случай внезапной смены эмоциональной обстановки. Маска упала на землю вместе с длинной лентой, связывающей букет, и несколькими складками накидки-домино, на которой сидит дама.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?