Текст книги "Плач к небесам"
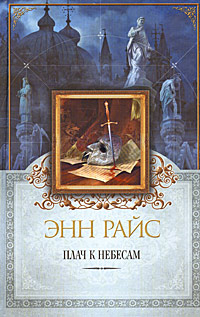
Автор книги: Энн Райс
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
5
Теперь Марианна редко била Тонио. В тринадцать лет он был уже одного роста с нею.
Он не унаследовал ни темный цвет ее кожи, ни ее раскосые византийские глаза; у него была светлая кожа, но те же пышные черные кудри и та же гибкая, почти кошачья фигура. Когда они танцевали вдвоем, а этим они занимались постоянно, то были похожи на двух близнецов, светлого и темного. Она покачивала бедрами и хлопала в ладоши, а Тонио бил в тамбурин, стремительно кружась вокруг нее.
Они танцевали фурлану, уличный танец, которому их научили горничные. Когда старинная церковь, находившаяся позади палаццо, проводила ежегодную сагру[10]10
Sagra – храмовый праздник.
[Закрыть] или ярмарку, они вдвоем, свесившись из задних окон, смотрели, как кружатся в танце девушки-служанки, и сами с каждым разом танцевали все лучше.
Они жили одной жизнью, и постепенно во всем, что они делали совместно – в танцах и пении, в играх и чтении, – ведущую роль стал играть Тонио.
Очень рано ему пришлось осознать, что мать его является ребенком в большей степени, чем он, и что она никогда не причиняла ему боль нарочно. Но в дурном настроении она становилась беспомощной; мир обрушивался на нее, а прижавшийся к ней плачущий и перепуганный сын приводил ее в ужас. За этим следовали яростные шлепки и пощечины, крики, швыряние в него разными предметами через всю комнату. При этом она зажимала руками уши, чтобы не слышать его громкого плача.
Он научился тому, как прятать во время ее приступов свои страхи, и всячески пытался успокоить ее, отвлечь. Если была возможность, он выводил ее куда-нибудь, развлекал.
Одним из самых надежных способов была музыка.
Она выросла в атмосфере музыки. Совсем крошкой она потеряла обоих родителей и была отправлена в «Оспедаль делла Пиета»[11]11
Ospedale della Pieta. См. прим. 3 и 4.
[Закрыть], одну из четырех знаменитых монастырских консерваторий Венеции, чей хор и оркестр, состоявшие исключительно из девочек, приводили в изумление всю Европу. В ее юные годы не кто иной, как сам Антонио Вивальди, служил там капельмейстером, и это он научил ее петь и играть на скрипке, когда ей было всего шесть лет и она уже считалась исключительно талантливой.
Ноты Вивальди стопками валялись в ее комнатах. Среди них были собственноручно написанные им для девочек вокализы. Услышав о выходе его новой оперы, она обязательно посылала за партитурой.
С того самого момента, когда она поняла, что Тонио унаследовал ее голос, она окружила его отчаянной и мучительной любовью. Свои первые песни он узнал от нее, и это мать научила его играть и петь на слух, что впоследствии приводило в такой восторг его учителей. То и дело она говорила: «Если бы ты родился без слуха, я бы утопила тебя. Или утопилась сама». И он верил этому, пока был мал.
Так что даже когда она была в самом ужасном состоянии, от нее несло вином, а взгляд сверкал злобой, он принимал легкомысленный и капризный вид и увлекал ее к клавесину.
– Пойдем, мама, – говорил он ласково, словно ничего не случилось, – пойдем споем что-нибудь вместе.
В свете утреннего солнца ее комнаты были всегда такими красивыми. Кровать застелена белым шелковым покрывалом, а в бесконечных зеркалах отражались херувимчики и веночки с обоев. Она любила часы, и у нее было множество разных расписных часов, тикавших на столах, комодах и мраморной каминной полке.
И среди всего этого она, с растрепанными волосами и дурно пахнущим бокалом в руке, казалась чем-то чужеродным. Она смотрела на сына, словно не узнавая.
Без промедления открывал он крышку клавесина с двойным рядом клавиш из слоновой кости и начинал играть. Чаще всего это бывала музыка Вивальди, но иногда также Скарлатти или даже более сдержанная, меланхоличная музыка композитора-аристократа Бенедетто Марчелло. И уже несколько минут спустя он чувствовал, как мать мягко опускается на скамью рядом с ним.
Стоило ему услышать, как сливаются их голоса, как он сразу же испытывал приятное возбуждение. Его сильное, чистое сопрано поднималось выше, но ее голос имел более глубокий и чарующий оттенок. Мать нетерпеливо перебирала старые партитуры в поисках своих любимых арий или просила его продекламировать какое-нибудь недавно выученное стихотворение, чтобы тут же сочинить на него мелодию.
– Ты настоящий имитатор! – говорила она, когда он блестяще справлялся с каким-нибудь сложным пассажем.
Она выводила какую-нибудь ноту, медленно, мастерски наращивая звук, и тут же слышала его безошибочное эхо. А потом, обхватив его неожиданно теплыми и очень сильными руками, шептала:
– Ты любишь меня?
– Конечно люблю. Я говорил тебе это вчера и позавчера, но ты забыла, – поддразнивал он.
Это было ее самое горькое, вырывающееся из глубины души восклицание. Марианна кусала губы; глаза ее становились необыкновенно широкими, а потом сужались. И Тонио всегда давал ей то, что она хотела от него. Но в душе он страдал.
Всю свою жизнь, открывая по утрам глаза, он уже знал, весела она сейчас или печальна. Он умел это чувствовать. И торопил часы занятий, чтобы поскорее улизнуть к ней.
Тонио не понимал ее.
Но начинал осознавать, что его одиночество в младенческие годы, тишина этих пустых комнат и мрачность огромного дворца связаны с ее замкнутостью и склонностью к затворничеству не меньше, чем с возрастом и старомодной суровостью его отца.
К тому же у нее не было подруг, хотя в «Пиета» было полно как знатных дам, так и простолюдинок, а очень многие из них попали в замужестве в благородные семейства.
Но она никогда не упоминала «Пиета» и никогда не выезжала.
А когда их навещала двоюродная сестра отца, Катрина Лизани, Тонио знал, что этим визитам они обязаны лишь ее доброте. Марианна была похожа на монашенку. Она одевалась в черное, складывала руки на коленях, а ее черные волосы лоснились, как атлас. Катрина же, в веселом платье из набивного шелка с множеством желтых бантов, брала инициативу в разговоре на себя.
Иногда Катрину сопровождал ее охранник, обладающий отличными манерами и приятной наружностью дамского угодника, бывший к тому же отдаленным родственником, хотя Тонио никак не мог запомнить, с какой именно стороны. Но его приход радовал Тонио, потому что, когда они вдвоем отправлялись в большую гостиную, родственник пересказывал ему газетные новости и сообщал о театральных новинках. Он носил туфли на красных каблуках и монокль на синей ленточке.
Но этот аристократ был бездельником, проводящим все время в компании женщин. И Тонио знал, что Андреа против того, чтобы его жену сопровождал тип, подобный этому, да и самому Тонио тоже это не понравилось бы.
И все же он думал, что, будь у Марианны такой сопровождающий, она выезжала бы, встречалась с людьми, а те приезжали бы к ним домой и все вокруг было бы совершенно по-другому.
Но мысль об охраннике в такой близости от нее, в гондоле, за столом, во время мессы, мучила Тонио. Он испытывал сильную, крайне болезненную ревность. Ни один мужчина не должен был приближаться к ней, за исключением его самого.
– Если бы я мог быть ее охранником! – вздыхал он и видел в зеркале высокого молодого человека с лицом мальчика. – Почему я не могу защитить ее? – шептал он. – Почему я не могу спасти ее?
6
Но что делать с женщиной, которая все чаще и чаще предпочитает бутылку вина дневному свету?
Болезнь! Меланхолия! Так это обычно называлось.
К тому времени, когда Тонио исполнилось четырнадцать, Марианна уже никогда не вставала с постели раньше полудня. Часто она сказывалась «слишком уставшей», чтобы петь, и он был рад услышать это, потому что видеть, как она, спотыкаясь, тащится по комнате, было для него невыносимо. Ей хватало ума большую часть времени проводить в постели, где, утопая в белых подушках, с изможденным лицом и блестящими глазами, она слушала концерты, которые он для нее устраивал.
Стоило сгуститься сумеркам, она становилась раздражительной и непредсказуемой. Конечно, она не хотела выезжать в «Пиета». А почему она, собственно, должна была туда стремиться?
– Знаешь, – сказала она как-то вечером, – когда я жила там, меня знали все. Обо мне говорила вся Венеция. Гондольеры твердили, что я лучшая певица во всех четырех школах, я лучшая, кого они когда-либо слышали. «Марианна! Марианна!» – мое имя знали в гостиных Парижа и Лондона. И в Риме! Как-то летом мы плыли на барже вниз по Бренте. Мы пели во всех виллах, а потом танцевали, если нам этого хотелось, и пили вино со всеми гостями…
Тонио был потрясен.
Лина умыла и причесала ее, как будто она была ребенком, и налила ей вина, чтобы успокоить, а потом отвела его в сторону.
– Да так прославляют всех консерваторских девиц! Ничего это не значило, не будь дурой! – проворчала она. – Да и сейчас ведь все то же самое, спроси Бруно. Гондольеры любят девушек, хоть знатных дам, которые должны выйти замуж за патрициев, хоть самых безродных подкидышей. Это совсем не то, что стоять на сцене ради любви небес. Почему ты так смотришь?
– Я должна была выйти на сцену! – внезапно сказала Марианна.
Она резко отшвырнула покрывала и мотнула головой. Волосы рассыпались у нее по плечам.
– Помолчи! – прикрикнула на нее Лина. – Тонио, погуляй-ка немного.
– Нет, почему это он должен уходить! – рассердилась Марианна. – Почему ты всегда отсылаешь его?! Тонио, спой! Мне все равно, что ты споешь, спой то, что хочешь сам. Я должна была сбежать с оперным театром, вот что я должна была сделать! А ты должен был жить в фургонах и играть среди декораций и реквизита! А теперь… Да ты только посмотри на себя! Его превосходительство Марк Антонио Трески!
– Это чистое безумие, – сказала Лина.
– Чего ты не знаешь, моя милая, – вскричала Марианна, – так это того, что больницы для умалишенных плодят безумцев!
Это были ужасные времена.
Когда приехала Катрина Лизани, Лина удержала ее от встречи с Марианной, сославшись на какой-то не слишком внятный диагноз, а когда однажды утром нанес свой редкий, хотя и регулярный визит в женины покои Андреа Трески, его остановили под тем же предлогом.
Тогда Тонио впервые всерьез собрался улизнуть из дома.
Город был возбужден приготовлениями к самому главному венецианскому празднику – Дню Вознесения, когда дож выходил в лагуну на великолепной позолоченной галере «Буцентавр» и бросал в воду церемониальное кольцо, символизирующее его «венчание с морем» и господство Венеции над ним. Венеция и море, древний и священный союз. Тонио тоже находился в приятном предвкушении, хотя и знал, что увидит не больше, чем сможет ухватить его взгляд с крыши палаццо. И когда он теперь думал о двухнедельном карнавале, который должен был последовать за праздником, и об участниках маскарада на улочках и набережных, где маски надевают даже на младенцев и все бегут, бегут на площадь, ему становилось не по себе от ожидания и чувства обиды.
Более усердно, чем когда-либо, собирал он теперь маленькие подарки, которые можно было ночью кинуть уличным певцам, чтобы те задержались под его окном. Он нашел сломанные золотые часы, завернул их в дорогой шелковый платок и швырнул им. Эти люди не знали, кто он.
Иногда спрашивали об этом в песне.
Однажды ночью, когда Тонио чувствовал себя особенно несчастным, а до Дня Вознесения оставалось всего две недели, он пропел в ответ: «Я тот, кто любит вас этой ночью больше, чем кто-либо другой в Венеции!»
Его голос отразился от каменных стен. Он был напряжен до такого предела, что чуть не рассмеялся, но продолжал петь, вплетая в песню все известные ему цветистые стихи во славу музыки, пока вдруг не осознал, что смешон. И все же испытывал волшебное чувство. И даже не заметил воцарившееся внизу молчание. А когда в узком переулке раздались аплодисменты, неистовые хлопки и крики, он покраснел от смущения и сдерживаемого смеха.
А потом оторвал от камзола пуговицы с драгоценными камнями и кинул певцам.
Но иногда певцы приходили, когда было уже очень поздно. А иногда не приходили совсем. Может быть, им поручали петь серенады дамам, а может, они пели для влюбленных парочек на канале, он не знал. Сидя у окна, положив руки на влажный подоконник, Тонио мечтал о том, чтобы найти тайную, никому не известную дверь и уйти с ними. Он мечтал о том, как было бы хорошо, если бы он не был богат, не был патрицием. Лучше бы ему быть уличным мальчишкой, свободным петь и играть на скрипке всю ночь, посылая дивные звуки на все четыре стороны этой тесной каменной страны – той волшебной страны, которой был его город, громоздящийся вокруг него.
И все же в душе у Тонио нарастало предчувствие: что-то должно случиться.
Впрочем, как ему казалось, хуже того, что есть, уже ничего быть не могло.
И вот однажды после обеда Беппо по глупости привел Алессандро, главного певца собора Сан-Марко, послушать, как Тонио поет дуэтом со своей матушкой.
Кажется, незадолго до этого Беппо появился на пороге спальни Марианны и спросил, позволит ли она такой визит. Беппо страшно гордился голосом Тонио, а Марианну обожал как ангела.
– Конечно, приводи его в любое время, – весело сказала она. В этот момент она распивала уже вторую в этот день бутылку испанского сухого вина и бродила по комнате в халате. – Приводи. Я буду рада повидать его. Я станцую для него, если хочешь. Тонио может сыграть на тамбурине; мы устроим отличный праздник.
Тонио был оскорблен и унижен. Лина уложила хозяйку в постель. Конечно, Беппо должен был понять: ведь он стар и мудр. Учитель ничего не сказал, лишь сверкнули его маленькие голубые глазки, а несколько дней спустя Алессандро уже стоял в музыкальной гостиной в роскошном бархатном кремовом костюме и зеленом жилете из тафты. Было очевидно, что он чрезвычайно рад этому приглашению.
Марианна крепко спала при поднятых шторах. Тонио предстояло разбудить горгону Медузу.
Пробежавшись гребнем по волосам и надев лучший костюм, он в одиночестве отправился к Алессандро и пригласил его войти в дом, словно был здесь хозяином.
– Я в растерянности, синьор, – сказал он. – Моя матушка больна. Мне неловко петь для вас одному.
Но даже в этой неожиданной компании он почувствовал душевный подъем. Солнечный свет заливал резную мебель из красного дерева и обитые камчатной тканью мягкие диваны, составлявшие убранство гостиной. И, несмотря на выцветший ковер и потрескавшийся потолок, комната выглядела очень мило.
– Пожалуйста, принеси кофе, – попросил он Беппо.
А потом открыл клавесин.
– Простите меня, ваше превосходительство, – мягко сказал Алессандро. – У меня и в мыслях не было вас побеспокоить. Я думал, что просто посижу где-нибудь в сторонке, пока вы с матушкой будете петь, и не стану вам мешать. Беппо много рассказывал мне о ваших дуэтах, и к тому же я помню ваш голос. Я его не забыл.
Его улыбка была ласковой и задумчивой. Без своих хоровых одежд он уже не выглядел неземным созданием и походил скорее на деревенского богатыря, чем на аристократа. Каждый его жест смягчался плавным ритмом голоса.
Тонио засмеялся. Но он был одинок и знал, что непременно расплачется, если этот человек сейчас уйдет.
– Садитесь, пожалуйста, синьор, – предложил он. И обрадовался, когда появилась Лина с чайником, а за ней – Беппо с целой стопкой нот.
Тонио был страшно взволнован. Ему пришло в голову, что, если его общество будет приятно для Алессандро, тот будет приходить к нему снова и снова. Он взял партитуру последней оперы Вивальди, «Монтесума». Все арии были для него новы, но он не мог рисковать, исполнив что-то старое и банальное. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы погрузиться в энергичную и драматическую вещь, и голос его быстро окреп.
Он никогда не пел в этой комнате. Здесь было больше голого мрамора, чем ковров и драпировки. Возник великолепный резонанс, и, когда Тонио замолчал, тишина напугала его. Он не смотрел на гостя. Но прислушивался к себе и удивлялся нарастающему любопытному ощущению: какому-то смущенному восторгу.
Он повернулся к Алессандро и импульсивно подозвал его. И был безумно рад тому, что евнух поднялся и устроился рядом с ним за клавесином. Тонио быстро начал первый дуэт и услышал тот самый восхитительный голос, как могучая сила поднимающий и выводящий вперед его собственный.
За этим последовал другой дуэт, а потом еще один, и когда дуэтов уже не осталось, они принялись сами составлять их из арий. Они выбрали из этой стопки и спели все, что им нравилось, и даже кое-что, что им вовсе не нравилось, а потом перешли к другой музыке. В конце концов Тонио уговорил Алессандро присесть рядом с ним на скамеечку, и им подали кофе.
Затем пение продолжилось и продлилось до тех пор, пока между гостем и маленьким хозяином уже не осталось никаких формальностей. Алессандро указывал ему на разные нюансы того или иного сочинения. Он то и дело замолкал, настаивая на том, чтобы Тонио пел один, и в этом случае его ободряющие слова были такими теплыми и взволнованными, словно он пытался убедить мальчика в величии его дарования и в том, что эти слова не являются пустой лестью.
Они прекратили пение только тогда, когда кто-то поставил перед ними подсвечник. Дом погрузился во тьму: было уже поздно, а они этого даже не заметили, позабыв обо всем.
Тонио притих. Мрачный вид окружающих предметов действовал на него подавляюще. Комната, словно глубокая пещера, разверзлась перед ним, и ему захотелось озарить ее всеми свечами, которые он мог бы найти. Музыка все еще звучала у него в голове, а вместе с нею пульсировала боль, и когда он увидел на лице Алессандро ласковую улыбку, встретил его задумчивый, исполненный благоговения взгляд, то почувствовал к этому человеку непреодолимую любовь.
Он хотел рассказать ему о той давнишней ночи, когда впервые пел в соборе Сан-Марко, о том, как ему это понравилось, и о том, что воспоминание об этом останется в нем навсегда. Но было совершенно невозможно облечь в слова то первое детское желание стать певцом, невозможно выговорить: «Конечно, я не могу им быть», невозможно объяснить ему комизм положения, то, что он ведь не знал, кем был Алессандро… Он отбросил эти мысли, неожиданно устыдившись.
– Послушайте, вы должны остаться на ужин, – заявил он, вставая. – Беппо, передай, пожалуйста, Анджело, что я хотел бы и его увидеть с нами за столом. И скажи поскорей Лине. Мы будем ужинать в главной столовой.
Стол был быстро накрыт подобающей скатертью и сервирован серебряными приборами. Тонио попросил принести больше свеч. Усевшись во главе стола, там, где сидел обычно, когда обедал в одиночестве, он быстро увлекся беседой.
Алессандро весело смеялся, пространно отвечал на вопросы, хвалил вино. И вскоре уже описывал недавний прием у дожа.
Такие приемы были просто чудовищны, ведь за столом сидели сотни приглашенных, а простые люди с площади ломились в открытые двери, чтобы поглазеть на них.
– И тут одна серебряная тарелка пропала. – Алессандро улыбнулся, подняв густые темные брови. – И представьте себе, ваше превосходительство, государственные мужи терпеливо ждали, пока пересчитают все серебро. Я еле удержался от смеха.
В том, как он рассказывал об этом, не чувствовалось непочтительности, к тому же он быстро переключился на другую тему. В нем была какая-то расслабленная утонченность. При свете свечей его длинное лицо было таким сглаженным, что казалось почти неземным.
И Тонио неожиданно для себя осознал, что Анджело и Беппо тихо сидят по его правую руку и делают все, что он им ни скажет. Так, Тонио предложил открыть вторую бутылку вина, и Анджело тут же послал за нею.
– И обязательно десерт! – добавил Тонио. – Если у нас нет ничего дома, пошлите кого-нибудь за шоколадом или мороженым.
Беппо действительно смотрел на него с восхищением, а Анджело даже с некоторым испугом.
– Но скажите мне, что вы чувствуете, когда поете для монарха: короля Франции, короля Польши?
– Нет разницы в том, для кого поешь, ваше превосходительство, – ответил Алессандро. – Просто хочешь, чтобы все было безупречно. На твой собственный слух. Ведь ошибки невыносимы. Поэтому я никогда не пою в одиночестве, у себя. Я не хочу услышать что-нибудь, что… несовершенно.
– Но опера? Неужели вы никогда не хотели петь на сцене? – настаивал Тонио.
Алессандро сложил пальцы домиком. Он явно задумался над ответом.
– Стоять перед рампой – совсем другое дело. Боюсь, я не смогу это объяснить. Вы видели певцов на…
– Нет, еще нет, – ответил Тонио и внезапно покраснел. Сейчас гость поймет, насколько он еще юн и как нелепо все происходящее.
Но Алессандро спокойно продолжал, объясняя, что на сцене актер предстает в образе другого человека, ему приходится играть, правильно держать себя и притом быть все время на виду. В церкви совсем не так: там главное голос.
Тонио отпил еще вина и уже собирался сказать, как страстно желает посмотреть оперу, но вдруг заметил, что Анджело и Беппо поспешно встали. Алессандро быстро перевел взгляд в другой конец стола и тоже вскочил. Тонио невольно последовал их примеру и лишь тогда увидел в голубоватом полумраке фигуру отца.
Андреа только что вошел в столовую. Свет падал на его тяжелое красное одеяние. За его спиной находилось множество других людей.
Синьор Леммо, его секретарь, стоял рядом с ним, а за ним – те молодые люди, которые учились у почтенного старейшины риторике и политическому такту.
Тонио так перепугался, что потерял дар речи.
О чем он думал, приглашая гостя поужинать? Андреа между тем уже стоял перед ним. Тонио склонился, чтобы поцеловать отцу руку, не представляя, что может за этим последовать.
А потом он увидел, что отец улыбается.
В полнейшем изумлении следил Тонио за тем, как отец садится на стул рядом с Алессандро. Некоторые из молодых людей получили приглашение остаться. Синьор Леммо велел старому лакею Джузеппе зажечь факелы на стенах, и синие атласные обои внезапно чудесным образом ожили.
Андреа много говорил, отпускал остроумные замечания. Для него и молодых людей принесли ужин, и в бокал Тонио подливали и подливали вина, а когда отец посматривал на сына, в его глазах светились лишь теплота, ласка, безграничная любовь, проявлявшаяся решительно и щедро.
Сколько это длилось? Два часа, три? Потом Тонио лежал в постели, вспоминая каждое произнесенное слово, каждый взрыв смеха. После ужина они снова отправились в музыкальную гостиную, и впервые в жизни Тонио пел для своего отца. Алессандро пел тоже, а потом они вместе пили кофе с кусочками свежей дыни, а еще им подали чудесное мороженое на серебряных тарелочках, и отец предложил Алессандро курительную трубку и даже захотел, чтобы его юный сын тоже попробовал.
В этой компании Андреа выглядел очень старым. Прозрачная кожа на его лице была столь иссохшей, что через нее проглядывали кости черепа. Но неменяющиеся глаза его, как всегда, мягко лучились и резко контрастировали с остальным обликом. Тем не менее губы его иногда старчески дрожали, а когда он встал, чтобы попрощаться с гостем, было видно, что напряжение болезненно для него.
Когда компания удалилась, вероятно, уже перевалило за полночь. И, двигаясь медленно и осторожно, Андреа двинулся за Тонио в его комнаты, где не бывал никогда, за исключением тех случаев, когда сын болел. Он почти торжественно вступил в спальню и оглядел ее с явным одобрением.
Он казался слишком великолепным для этого места, слишком величественным.
Свеча бросала отблески на его белые волосы, дымкой обрамляющие лицо.
– Ты стал уже совсем самостоятельным, сын мой, – сказал Андреа, и в его голосе не слышалось упрека.
– Простите меня, отец, – прошептал Тонио. – Мама была больна, а Алессандро…
Легким жестом отец остановил его.
– Я доволен тобой, сын мой, – произнес он.
И если у него были на этот счет какие-то другие мысли, то он их скрыл.
Но как только Тонио опустился в подушки, он тут же почувствовал крайнее возбуждение Ему никак не удавалось улечься поудобнее. Руки и ноги дрожали.
Этот простой ужин был очень похож на его сны, на фантазии, в которых оживали его братья. Даже отец сидел с ними за столом. И теперь, когда все закончилось, он испытывал внутреннюю боль, и ничто не могло ее унять.
В конце концов, когда часы по всему дому пробили три, он поднялся с постели и, положив в карман тонкую восковую свечу и одну спичку, хотя ни то ни другое не могло ему понадобиться, отправился бродить по дому.
Он скитался по верхним этажам. Заглянул в старые комнаты Леонардо, где стояла голая, похожая на скелет кровать, потом в покои, в которых Филиппо жил со своей юной невестой, а теперь не осталось ничего, кроме выцветших пятен на стенах там, где раньше висели картины. Он зашел и в маленький кабинет, где на полках все еще стояли книги Джамбаттисты, а потом, миновав комнаты для прислуги, поднялся на крышу.
Легкий туман не скрывал город, но придавал ему особенную красоту. Темные черепичные крыши поблескивали от влаги, а огни площади вдалеке отражались в небе розовым ровным светом.
Прежние мысли овладели Тонио. Кто будет его женой? Имена и лица двоюродных сестер в монастырских школах ничего для него не значили. Но он представлял себе будущую подругу жизнерадостной и милой, воображал, как она откидывает с лица вуаль и смеется застенчиво и страстно. Она никогда не будет печальной и грустной. Вдвоем они примутся устраивать грандиозные балы, будут танцевать всю ночь, у них вырастут сильные сыновья, а летом они будут ездить с другими знатными семействами в свою виллу на Бренте. Даже ее старые тетушки и незамужние кузины смогут жить в этом доме, как и ее дядья, ее братья, – место найдется для всех. Он прикажет сменить все обои, всю драпировку. Заскрипят ножи, счищая плесень с настенных росписей. Здесь не останется ни одного пустого или холодного помещения, у его сыновей будут друзья, и десятки этих друзей будут все время приходить в гости со своими воспитателями и няньками. Он так и представлял себе этих детишек, вставших парами и приготовившихся танцевать менуэт, в чудесных шелковых костюмчиках и платьицах самых разных пастельных тонов, представлял себе, как дом звенит от музыки! Он никогда не будет оставлять их одних, своих детей. Не важно, насколько он будет занят неотложными государственными делами, он никогда, никогда не оставит их одних в таком пустом огромном доме, он никогда…
И эти мысли все еще переполняли его, когда он спустился по каменным ступенькам и вошел в холодные покои матери.
Здесь он зажег спичку, чиркнув ею о свой башмак, и поднес ее к тонкой свече.
Мать спала так глубоко, что ничто не могло ее потревожить. Когда он приблизился, то уловил несвежее дыхание, однако лицо ее было удивительно гладким и оттого совершенно невинным. Впервые он столь долго без отрыва наблюдал за ней. Смотрел на ее маленький подбородок, на бледную яремную впадину.
Загасив свечу, он забрался в постель и лег рядом. Ее тело было таким теплым под покрывалами. Она пододвинулась к нему и обвила своей рукой его руку, словно хотела прижаться к ней.
Лежа с нею, он придумывал для нее сны.
Он воображал множество модно одетых дам, а рядом с ними – кавалеров. Но это ему не понравилось. Со смутным ужасом он представлял себе всю ее жизнь: она как будто медленно проходила перед ним. Он увидел ее безнадежное одиночество, ее постепенное угасание.
Прошло много времени, прежде чем она тихонько застонала во сне. Потом еще раз, громче.
– Мама, – прошептал он. – Я здесь. Я с тобой.
Она попыталась сесть. Волосы упали ей на лицо, как нелепо накинутая вуаль.
– Мой милый, мое сокровище, – сказала она. – Дай мне стакан.
Он откупорил бутылку. И смотрел, как она выпила и откинулась на спину. Убрав волосы с ее лба, он еще долго лежал, опершись на локоть, и просто смотрел на нее.
На следующее утро он почти не поверил, когда Анджело сообщил ему, что отныне они ежедневно по часу будут гулять на площади.
– Но конечно, не во время карнавала! – добавил учитель сердито. А потом сказал не слишком уверенно и чуть воинственно, словно не одобрял этого: – Ваш отец говорит, что вы уже достаточно взрослый для этого.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































