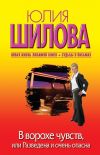Текст книги "На обратном пути"

Автор книги: Эрих Мария Ремарк
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Первая часть
Длинные дороги тянутся мимо деревень, пасмурно, шумят деревья и падают, падают листья. А по дорогам в полинялой, грязной форме бредут серые колонны – шаг, еще шаг. Заросшие лица под стальными шлемами осунулись, исхудали, их выел голод и скорби; черты застыли в рисунок, на котором изображены ужас, отвага и смерть. Колонны бредут молча; так же, как шли по бесконечным дорогам, сидели в бесконечных товарных вагонах, ютились в бесконечных блиндажах, лежали в бесконечных траншеях, без особых разговоров, так и сейчас бредут по дороге, домой, в мирную жизнь. Без особых разговоров.
Бородатые старики и тоненькие мальчики, которым нет и двадцати, – все товарищи, без различий. Рядом с ними их лейтенанты – полудети, но командиры стольких ночей и атак. Позади армия мертвых. А они бредут вперед, шаг, еще шаг, больные, оголодавшие, без боеприпасов, жидкими ротами, с глазами, которые все еще не в силах постичь: вырвавшись из преисподней, мы на обратном пути в жизнь.
I
Рота шагает медленно, так как мы устали и с нами еще раненые. Из-за этого мы постепенно отстаем. Местность холмистая, и когда дорога идет вверх, с высоты мы видим впереди остатки наших уходящих войск, а сзади плотные, бесконечные, следующие за нами колонны. Это американцы. Как широкая река, они идут между деревьями, над ними тревожно посверкивает оружие. А вокруг мирные поля, и кроны деревьев серьезно, безучастно высятся над напирающим потоком.
На ночь мы встаем в маленькой деревеньке. За домами, выделенными под постой, журчит поросший ивой ручей. По берегу бежит узкая тропинка. По одному, друг за другом, длинной цепочкой мы идем вдоль ручья. Впереди Козоле. Рядом с ним, обнюхивая вещмешок, семенит Вольф, наш ротный пес.
Там, где тропинка выходит на дорогу, Фердинанд вдруг отскакивает.
– Берегись!
Мы тотчас же поднимаем винтовки и рассыпаемся. Козоле, изготовившись к стрельбе, уже лежит в придорожной канаве, Юпп и Троске на корточках притаились за зарослями бузины, Вилли Хомайер тянется за гранатами, даже наши раненые готовы к бою.
По дороге идут американцы. Они смеются и о чем-то болтают. Это нагнавший нас головной дозор.
Адольф Бетке единственный остался стоять. Он спокойно делает несколько шагов из укрытия на дорогу. Козоле опять встает. Мы тоже приходим в себя и смущенно, растерянно оправляем пояса с гранатами и ремни винтовок – ведь боев нет уже несколько дней.
Заметив нас, американцы теряются. Разговор прерывается. Они медленно идут в нашу сторону. Мы, прикрывая спину, медленно отступаем к сараю и ждем. С минуту все молчат, а потом высоченный американец отделяется от группы и машет нам рукой.
– Привет, брат!
Адольф Бетке тоже поднимает руку.
– Брат!
Напряжение ослабевает. Нас окружают подходящие американцы. До сих пор мы их видели так близко только пленными или мертвыми.
Странный момент. Мы молча смотрим друг на друга. Они стоят полукругом, высокие, сильные, сразу видно, что кормили их досыта. Все молодые – даже близко никого возраста Адольфа Бетке или Фердинанда Козоле, а они далеко не самые старшие среди нас. Но и ни одного юнца вроде Альберта Троске или Карла Брёгера, а они у нас далеко не самые молодые.
Американцы в новой форме, новых шинелях, в непромокаемых, по ноге, ботинках, оружие отличное, сумки набиты боеприпасами. Все свежие, полны сил.
По сравнению с ними мы словно банда разбойников. Форма выцвела от многолетней грязи, дождей Аргонн, извести Шампани, болот Фландрии, шинели посечены осколками и шрапнелью, чинены грубыми стежками, задубели от глины, а то и крови, сапоги растоптаны, оружие раздолбано, боеприпасы почти закончились; все мы одинаково грязные, одинаково одичавшие, одинаково усталые. Война проехалась по нам паровым катком.
* * *
Американцы все идут и идут. Любопытных уже целая толпа. А мы все стоим, забившись в угол, сгрудившись вокруг раненых, не потому, что боимся, просто мы вместе. Американцы пихают друг друга, кивая на наши ветхие пожитки. Один предлагает Брайеру кусок белого хлеба, но тот не берет, хотя в глазах голод.
Вдруг кто-то негромко восклицает, обращая внимание остальных на перетянутые шпагатом повязки наших раненых из креповой бумаги. Все смотрят на них, затем отходят на пару шагов и перешептываются. Дружелюбные лица исполнены сочувствия, они видят, что у нас нет даже бинтов. Окликнувший нас человек кладет Бетке руку на плечо.
– Неметский – хоуоший солдат, – говорит он, – смеуый солдат.
Остальные старательно кивают.
Мы не отвечаем, потому что не можем сейчас ответить. Последние недели дорого нам дались. Нас все время бросали под обстрел, мы попусту теряли людей, но особо не задавались вопросами, а просто делали, что говорят, как делали все это время, и под конец в нашей роте осталось тридцать два человека из двухсот. Так и выбрались, не предаваясь раздумьям и чувствуя лишь одно: мы правильно делали то, что нам было поручено.
Однако теперь, под сочувственными взглядами американцев, мы понимаем, как все это, в общем-то, было бессмысленно. Их бесконечные, добротно оснащенные колонны говорят нам, какой безнадежно превосходящей силе – что по людским резервам, что по технике – мы противостояли.
Мы кусаем губы и смотрим друг на друга. Бетке вытягивает плечо из-под руки американца, у Козоле застыл взгляд, Людвиг Брайер выпрямляется; мы крепче сжимаем винтовки, мускулы напрягаются, глаза отрываются от земли и становятся жестче, мы снова смотрим в даль, из которой пришли, лица напряжены, собраны, и горячей волной все снова проносится перед внутренним взором – все, что мы делали, все, что перенесли, все, что оставили позади.
Мы не понимаем, что с нами; но если бы сейчас кто-нибудь бросил резкое слово, мы, невзирая на свои желания, собрались бы с силами, кинулись, рванули вперед, в бешенстве и неудержимости, в безумии и отчаянии, и начали бы драться – несмотря ни на что, драться…
Коренастый сержант с разгоряченным лицом, пробравшись к нам, обращает к Козоле, который стоит к нему ближе всех, поток немецких слов. Фердинанд вздрагивает от неожиданности.
– Да он говорит точно как мы, – удивляется он, повернувшись к Бетке. – Что скажешь?
Сержант говорит даже лучше Козоле, более бегло. Он рассказывает, что до войны жил в Дрездене, где у него было много друзей.
– В Дрездене? – совсем оторопев, переспрашивает Козоле. – Так я тоже там жил два года.
Сержант улыбается, как будто это знак отличия, и называет свою улицу.
– Это от меня пять минут ходу, – сообщает взволнованный Козоле. – И что мы не встретились! А вы, может быть, знаете вдову Поль, на углу Йоханнисштрассе? Толстая такая, черные волосы. Моя квартирная хозяйка.
Нет, ее сержант не знает, зато знает финансового советника Цандера, которого, в свою очередь, не может вспомнить Козоле. Но оба помнят Эльбу, замок и радостно смотрят друг на друга, как старые приятели. Фердинанд хлопает сержанта по плечу:
– Ну надо же, ты смотри, тарахтит по-немецки, как я не знаю, и жил в Дрездене! Господи, а чего же мы тогда воевали?
Сержант, который тоже этого не знает, смеется и, достав пачку сигарет, протягивает ее Козоле. Тот торопливо берет, потому что за сигарету каждый из нас душу продаст. Мы курим листья бука и солому, и это еще лучшее. Валентин Лаэр утверждает, что обычные сигареты делают из водорослей и сушеного конского навоза, а он в таких вещах разбирается.
Млея от удовольствия, Козоле пускает дым. Мы жадно принюхиваемся. Лаэр бледнеет. Ноздри у него дрожат.
– Дай затянуться, – с мольбой в голосе говорит он Фердинанду.
Но прежде чем он успевает взять сигарету, другой американец протягивает ему пакетик табака «Вирджиния». Валентин недоверчиво на него смотрит. Затем берет пакет и нюхает. Лицо его проясняется. Неохотно он возвращает табак. Но солдат отказывается и тычет в кокарду на пилотке Лаэра, которая торчит из вещмешка. Валентин не понимает.
– Он хочет обменять табак на кокарду.
Тут Лаэр вообще перестает что-либо понимать. Первоклассный табак на какую-то жестяную кокарду? Он, должно быть, рехнулся. Сам он не отдал бы такой пакетик, даже если бы его за это произвели в унтер-офицеры или лейтенанты. Валентин предлагает американцу всю пилотку целиком и дрожащими руками жадно набивает первую трубку.
Теперь мы понимаем, в чем дело: американцы хотят меняться. Видно, что они недолго на фронте, еще собирают сувениры – погоны, кокарды, пряжки, ордена, форменные пуговицы. Мы отдаем все это добро за мыло, сигареты, шоколад и консервы. Они даже суют нам целую горсть денег за пса – в придачу, но тут уж пусть предлагают сколько угодно, Вольф останется с нами. Зато нам повезло с ранеными. Один американец с такой кучей золота во рту, что лицо у него блестит, как латунный сервиз, хочет перевязочные клочья с кровью, чтобы показать дома, что они в самом деле из бумаги. Он предлагает за них отличное печенье и, главное, целую охапку перевязочного материала. Осторожно, с сияющим от радости лицом он засовывает ошметки в бумажник, особенно Людвиговы, потому что это кровь лейтенанта. Брайеру приходится карандашом написать на них место, имя и войсковую часть, чтобы в Америке поверили, что это не обман. Сначала он, правда, не хотел, но Вайль уговорил, потому что нам позарез нужны бинты. Кроме того, с этим поносом печенье для него спасение.
Однако самую выгодную сделку заключает Артур Леддерхозе. Он достает шкатулку с орденами, на которую набрел в брошенной канцелярии. Один американец, такой же помятый, как и Артур, и с таким же кислым лицом, хочет заграбастать всю шкатулку. Но Леддерхозе долго, свысока смотрит на него сощуренными глазами. Американец так же неподвижно и вроде бы без усилий выдерживает взгляд. Они вдруг становятся похожи, как братья. Возобладал переживший войну и смерть дух гешефта.
Противник Леддерхозе быстро понимает, что делать нечего, Артура не провести: торговля в розницу для него значительно выгоднее. Он ведет обмен, пока шкатулка не пустеет, потихоньку обрастая целой кучей вещей, даже таких, как масло, шелк, яйца, белье, и под конец стоит, будто лавка колониальных товаров на кривых ногах.
* * *
Мы трогаемся в путь. Американцы что-то кричат нам вслед и машут руками, энергичнее всех сержант. Насколько это возможно для старого солдата, возбужден и Козоле. Он блеет что-то прощальное и тоже машет; правда, у него это всегда похоже на угрозу, а потом говорит Бетке:
– Нормальные ребята, правда?
Адольф кивает. Мы молча идем дальше. Фердинанд повесил голову. Думает. Он занимается этим не очень часто, но уж если его скрутило, то не оторвешь, долго мусолит. У него все не выходит из головы сержант из Дрездена.
Деревенские смотрят нам вслед. В будке путевого обходчика на окошке стоят цветы. Женщина кормит ребенка полной грудью. Она в синем платье. Нас облаивают собаки. Вольф огрызается в ответ. На дороге петух покрывает курицу. Мы бездумно курим.
Идем, идем. Зона полевого лазарета. Зона управления продовольственного снабжения. Большой парк с платанами. Под деревьями носилки и раненые. Падающие листья укрывают их красным и золотым.
Лазарет для травленных газами. Тяжелые больные, которых уже нельзя транспортировать. Синие, восковые, зеленые лица; мертвые, разъеденные кислотой глаза; умирающие хрипят, задыхаются. Все хотят убраться отсюда, боясь угодить в плен. Как будто не все равно, где помирать.
Мы пытаемся их утешить, говоря, что у американцев уход лучше. Но они не слушают и кричат нам вслед, чтобы мы взяли их с собой. Крики эти ужасны. В ясном воздухе бледные лица совершенно неправдоподобны. Но хуже всего щетина. Она как-то отдельно, жесткая, упорная, лезет, выпирает на подбородках, черный плесенный налет, питающийся человеческим разложением.
Некоторые тяжелораненые, как дети, тянут тонкие, серые руки.
– Ребята, возьмите меня с собой, – умоляют они. – Ребята, возьмите меня с собой.
В глазницах уже залегли глубокие, потусторонние тени, и только, будто у утопленников, пучатся глазные яблоки. Другие лишь молча следят за нами взглядом. Сколько могут.
Постепенно крики становятся тише. Одна дорога сменяет другую. Мы тащим кучи всякого барахла: надо же что-то принести домой. Небо обложено облаками. После обеда прорывается солнце, и березы с почти облетевшей листвой отражаются в дождевых лужах. Ветви окутаны легким голубым воздухом.
Я иду с ранцем за спиной, опустив голову, и в прозрачных лужах на обочине вижу отражение светлых шелковистых деревьев. В этом случайном зеркале оно сильнее реальности. На коричневом грунте угнездился кусочек неба со всей его глубиной, ясностью, с деревьями, и внезапно мне становится страшно. Впервые за долгое время я опять вижу красоту, чистую красоту, отражение в лужице – просто красиво. И сквозь страх распирает сердце, все на мгновение отступает, я впервые чувствую – мир, вижу – мир, до конца понимаю – мир. Напряжение, не оставлявшее места для другого, ослабевает; взмывает неизвестное, новое, чайка, белая чайка, мир, мерцающий горизонт, мерцающие ожидания, первый взгляд, предчувствие, надежда, нарождающееся, грядущее – мир. Я в ужасе оборачиваюсь; позади мои товарищи на носилках, они всё кричат мне вслед. Уже мир, а им все-таки придется умереть. Но я дрожу от радости и не стыжусь этого. Странно…
Может быть, войны не прекращаются оттого, что никто не в состоянии до конца прочувствовать страдания другого.
II
После обеда мы сидим во дворе пивоварни. Нас созывает ротный, Хеель, вернувшийся из фабричной конторы. Поступил приказ: нужно выбрать надежных людей. Мы изумлены. Раньше такого не бывало.
Тут во дворе появляется Макс Вайль. Он машет газетой:
– В Берлине революция!
Хеель резко оборачивается:
– Чушь. В Берлине беспорядки.
Но Вайль еще не все сказал.
– Кайзер бежал в Голландию.
Тут все переполошились. Вайль, видать, рехнулся. Побагровевший Хеель орет:
– Врешь, негодяй!
Вайль протягивает ему газету. Хеель комкает ее и гневно смотрит на Вайля. Он терпеть его не может, потому что Вайль еврей, спокойный человек, все время сидит и читает книги. А Хеель удалец.
– Ерунда, – ворчит он и смотрит на Вайля, как будто хочет съесть его с потрохами.
Макс расстегивает мундир и достает еще один экстренный выпуск. Хеель, бросив на него быстрый взгляд, рвет газету в клочья и уходит в дом, где расположился штаб. Вайль снова складывает газетный лист и читает нам новости. Мы сидим ошалевшие, как пьяные курицы. Никто уже ничего не понимает.
– Пишут, он не хотел гражданской войны, – говорит Вайль.
– Глупости, – отзывается Козоле. – Мы бы тоже так могли сказать, тогда. Черт подери, и за это мы здесь корчились.
– Юпп, ущипни меня. Может, я сплю? – качает головой Бетке.
Юпп с удовольствием его щиплет.
– Тогда это, наверно, правда, – продолжает Бетке. – Но все-таки я ничего не понимаю. Если бы это сделал кто-нибудь из нас, поставили бы к стенке.
– Только не думать сейчас про Веслинга и Шрёдера. – Козоле сжимает кулаки. – Иначе я лопну. Этот цыпленок Шрёдер, его просто расплющило, как он там лежал. А тот, за кого он погиб, дает деру! Чертово дерьмо! – Он шарашит кулаком в бочку с пивом.
Вилли Хомайер делает примирительный жест рукой.
– Давайте о чем-нибудь другом, – предлагает он. – С этой сволочью мне все окончательно ясно.
Вайль рассказывает, что в некоторых полках создают солдатские советы. Офицеры уже не командиры. Со многих сорвали погоны.
Он хочет и у нас учредить солдатский совет. Но воодушевления это предложение не встречает. Мы не хотим ничего учреждать. Мы хотим домой. А туда мы дойдем и без солдатских советов.
В конце концов избирают трех надежных человек – Адольфа Бетке, Макса Вайля и Людвига Брайера. Вайль требует, чтобы Людвиг снял погоны.
– Очумел? – устало отвечает Людвиг и стучит пальцем по лбу.
Бетке отталкивает Вайля со словами:
– Людвиг наш.
Брайер добровольцем пошел на фронт и тут стал лейтенантом. Он на ты не только с нами – с Троске, Хомайером, Брёгером, со мной – это само собой разумеется, мы вместе учились, – но и со старшими товарищами, когда поблизости нет других офицеров. За это его очень уважают.
– А Хеель? – не унимается Вайль.
Это еще можно понять. Хеель часто задирал Вайля, неудивительно, что он хочет поквитаться. Нам, в общем, все равно. Хеель хоть и резковат, но на врага бросался, что твой Блюхер, всегда был впереди. А для солдат это важно.
– Ну так спроси его, – говорит Бетке.
– Только не забудь бинты! – кричит вслед Тьяден.
Но получается иначе. Хеель выходит из штаба и на пороге сталкивается с Вайлем. Ротный показывает нам какие-то бланки и кивает Максу:
– Все верно.
Вайль начинает говорить. Когда речь заходит о погонах, Хеель делает резкое движение. Мы уже думаем, что сейчас полетят перья, но ротный, к нашему изумлению, говорит:
– Вы правы. – Затем оборачивается к Людвигу и кладет ему руку на плечо. – Вам, наверно, это непонятно, Брайер, да? Солдатский мундир, и все. Остальное провалилось к чертям.
Мы молчим. Это не тот Хеель, которого мы знаем, тот ночью ходил в дозор с одной тросточкой и был заговорен от пуль. А сейчас перед нами человек, которому трудно стоять и говорить.
Вечером – я уже уснул – меня будят голоса.
– Ладно тебе, – слышу я Козоле.
– Да ей-богу, – отвечает ему Вилли. – Сам иди посмотри.
Они поднимаются и идут на двор. Я за ними. В штабе свет, можно заглянуть в комнату. Хеель сидит за столом. Перед ним его офицерский мундир. Без погон. Сам он в солдатском мундире. Голову опустил на руки и – но это же невозможно… Я делаю шаг вперед. Хеель – Хеель! – плачет.
– Ничего себе, – шепчет Тьяден.
– Пошли, – говорит Бетке, пихая Тьядена.
Мы, потрясенные, удаляемся.
На следующее утро все говорят, что один майор, узнав о бегстве кайзера, якобы застрелился.
Приходит Хеель. Лицо серое, видно, не спал. Тихо дает необходимые указания. И уходит. Всем не по себе. Последнее, что у нас было, отняли. И мы утратили почву под ногами.
– Как будто тебя предали, – бурчит Козоле.
Колонна выстраивается и мрачно идет дальше. Это совсем другая колонна, чем вчера. Потерянная рота, брошенная армия. Котелки мерно постукивают в такт шагам: всё-зря-всё-зря.
Только Леддерхозе бодрячком, распродает свои американские запасы – консервы, сахар.
* * *
К вечеру следующего дня мы доходим до Германии. Теперь, когда вокруг говорят не по-французски, мы действительно начинаем верить в мир. До сих пор в глубине души мы всё ждали приказа «Кру-у-гом!» и возвращения в траншеи, потому что солдат с подозрением относится к хорошему; лучше исходить из плохого. Но теперь нас начинает слегка потряхивать.
Мы входим в большую деревню. Над дорогой несколько увядших гирлянд. Наверно, тут прошло уже столько войск, что ради последних нет смысла специально что-то затевать. Нам приходится довольствоваться поблекшим «Добро пожаловать!» на залитом дождем зеленом плакате в обрамлении кривых буковых веток. Мы идем по деревне, и на нас почти никто не обращает внимания, настолько люди привыкли. Но для нас-то все это в новинку, нам ужасно хочется приветливых слов, взглядов, хоть мы и говорим, что плевать. Ну, хоть девушки могли бы на минутку встать у дороги и помахать платочками. Тьяден и Юпп то и дело окликают их, но тщетно. Наверно, мы слишком грязные. И они в конце концов сдаются.
Только детям интересно. Мы берем их за руку, и они бегут рядом. Мы дарим им шоколад, которым можем поделиться, потому что сколько-нибудь нужно, конечно, принести домой.
Адольф Бетке берет на руки маленькую девочку. Она дергает его за усы, как за уздечку, и взахлеб смеется, потому что он корчит гримасы. Ручонками девочка шлепает его по лицу. Он берет одну ручку и показывает мне: смотри, мол, какая маленькая.
Когда Бетке перестает кривляться, девочка начинает плакать. Адольф пытается ее успокоить, но она только пуще плачет, и ему приходится ее опустить.
– Нами, похоже, теперь только детей пугать, – бурчит Козоле.
– Они пугаются настоящих траншейных лиц, им жутко делается, – заявляет Вилли.
– От нас пахнет кровью, вот в чем дело, – говорит Людвиг Брайер.
– Наверно, надо помыться, – полагает Юпп. – Тогда девчонки, может, будут повнимательнее.
– Да, если бы это можно было просто смыть, – задумчиво отвечает Людвиг.
Раздраженные, мы идем дальше. После стольких лет на чужбине мы представляли себе возвращение домой иначе. Мы думали, нас ждут, а теперь видим, что все по-прежнему заняты только собой. Жизнь шла и идет, как будто мы тут лишние. Эта деревня, конечно, не вся Германия, но тем не менее досадно, будто какая-то тень легла на нас, странное такое предчувствие.
Грохочут мимо телеги, кричат возницы, люди бросают на них мимолетные взгляды и спешат дальше вслед своим мыслям и заботам. На церковной башне бьют часы, сырой ветер будто обнюхивает нас. И только пожилая женщина в чепце с длинными лентами без устали ходит вдоль наших рядов и всё опасливо спрашивает про какого-то Эрхарда Шмидта.
Мы располагаемся в большом сарае, но, хоть прошли много, спать никто не собирается. Идем в пивную.
Там гульба вовсю. Разливают мутное молодое вино, замечательно вкусное. Оно здорово бьет по ногам. Тем приятнее сидеть. Табачный дым стелется по низкому залу, вино пахнет землей и летом. Мы достаем консервы, ножом толсто намазываем их на хлеб, втыкаем ножи в широкие столешницы и едим. Керосиновая лампа сияет над нами прямо как мать.
Такой вечер скрашивает жизнь. Не в каких-то траншеях, а в мире. Мы пришли сюда злые, а теперь оживаем. Маленький оркестрик в углу быстро пополняется нашими. Среди нас не только виртуозные пианисты и мастера губной гармошки, но даже один баварец, играющий на басовой цитре. К ним присоединяется Вилли Хомайер, который соорудил что-то вроде скрипки об одной струне и что было мочи наяривает на тазах и крышках от корыт, изображая ударные и бунчук.
Но самое непривычное – девушки, это бьет в голову посильнее вина. Они совсем не такие, как днем, смеются, разговаривают. Или это другие? Девушек мы не видели очень давно.
Нам не терпится, однако сначала мы робеем, просто не решаемся, поскольку на фронте разучились иметь с ними дело, но потом Фердинанд Козоле приглашает одну на вальс – здоровую, как гренадер, с мощным бруствером, на который так удобно опираться. Остальные следуют его примеру.
Сладкое тяжелое вино приятно поет в голове, девушки щебечут, музыка играет, а мы в углу сидим вокруг Адольфа Бетке.
– Дети мои, – говорит он, – завтра или послезавтра мы дома. О, дети мои, моя жена… вот уже десять месяцев…
Я наклоняюсь к Валентину Лаэру, который невозмутимо, уверенно рассматривает девушек. Рядом с ним сидит блондинка, но он не обращает на нее особого внимания. Когда я нагибаюсь над столом, мне что-то впивается в живот. Часы Веслинга. Как все это далеко!
Юппу досталась самая толстая дама. Он танцует с ней, превратившись в вопросительный знак. Лапища легла на мощный круп и играет на нем, как на пианино. Влажными губами девушка смеется ему прямо в лицо, и он все заметнее оживляется. В конце концов Юпп подтанцовывает с ней к выходу и исчезает во дворе.
Через несколько минут я выхожу на улицу поискать укромный уголок, но там уже потный офицер с девушкой. Я брожу по саду и только собираюсь заняться делом, как сзади раздается грохот. Я оборачиваюсь и вижу на земле Юппа с толстушкой. Они свалились с садового стола. Заметив меня, толстушка хихикает и высовывает язык. Юпп шипит. Я торопливо удаляюсь в кусты и тут же наступаю кому-то на руку. Треклятая ночь.
– Ты что, болван, не видишь? – раздается густой бас.
– Откуда мне знать, осел, что ты тут разлегся? – огрызаюсь я и наконец нахожу спокойный уголок.
Пока я оправляюсь, меня овевает прохладный ветерок, это приятно после чада пивной. Темные фронтоны домов, листва, тишина, мирное журчание. Ко мне подходит и становится рядом Альберт. Светит луна. Струя будто из серебра.
– Господи, Эрнст, это надо же! – говорит Альберт.
Я киваю. Мы еще какое-то время стоим в лунном свете.
– Что все это дерьмо закончилось, а, Альберт?
– Да, черт подери…
Позади раздается треск. Девушки в кустах ликующе вскрикивают, тут же зажимая ладошкой рот. Эта ночь, как гроза, заряжена лихорадочным огнем бьющих через край жизней, буйно и стремительно загорающихся друг от друга при малейшем соприкосновении.
В саду кто-то стонет. В ответ хихиканье. С сеновала спускаются тени. Двое стоят на приставной лестнице. Мужчина как безумный вжимает голову в женские юбки и что-то бормочет. Она хрипло смеется, как будто ершиком проходится по нервам. За воротник затекает мелкий дождик. Как все это рядом – вчера и сегодня, смерть и жизнь.
Из темного сада выходит Тьяден. Он весь взмок, но лицо сияет.
– Ребята, теперь я опять знаю, что мы живы, – говорит он, застегиваясь.
Обойдя пивную, мы видим Вилли Хомайера. Он развел на поле большой костер из травы, бросил туда несколько злодейски добытых картофелин и теперь мирно, мечтательно сидит и ждет, пока они испекутся. Справа от него отбивные из американских консервных банок, рядом с мясом бдительный Вольф.
Мерцающий огонь медью отсвечивает в рыжих волосах Вилли. С луга тянется туман. Блестят звезды. Мы подсаживаемся к нему и достаем из огня картофелины. Кожура сгорела дотла, но нутро золотисто-желтое и пахнет. Мы хватаем отбивные обеими руками и впиваемся в них, как в губную гармошку. Запиваем шнапсом из алюминиевых стаканчиков.
Какая вкусная картошка! Мир, что ли, вернулся на круги своя? Где мы? Может, снова мальчишками сидим на поле у Торлокстена, после того как целый день выбирали из сильно пахнущей земли картошку, а за нами девочки в синих полинялых юбках и с корзинками? Печеная картошка детства! Белый дым тянется над полем, потрескивает костер, больше ни звука, это последняя картошка, остальное уже убрано, только земля, ясный воздух, горький, белый, любимый дым, последняя осень. Горький дым, горький запах осени, печеная картошка юности – дым пластается, стелется, его утягивает, лица ребят, мы в пути, войне конец, все чудесным образом сливается воедино – снова печеная картошка, и осень, и жизнь.
– Господи, Вилли, Вилли…
– Недурственно, да? – спрашивает он, поднимая глаза и еле удерживая в руках мясо и картошку.
Ах, дурья твоя башка, да я совсем о другом.
* * *
Огонь догорел. Вилли вытирает руки о штаны и складывает нож. В деревне лают собаки. В остальном полная тишина. Никаких гранат. Никакого грохочущего транспорта с боеприпасами. Даже осторожного шуршания санитарных машин, и того нет. Ночь, в которую умрет намного меньше людей, чем в любую за последние четыре года.
Мы возвращаемся в пивную. Там уже намного тише. Валентин снял мундир и пару раз встал на руки. Девушки хлопают в ладоши, но мрачный Валентин с досадой говорит Козоле:
– Я ведь когда-то был неплохим акробатом, Фердинанд. А это не годится даже для ярмарки. Все повыбило из костей. Валентин на трапеции – какой был номер! А сейчас у меня ревматизм…
– Да ты радуйся, что кости целы! – восклицает Козоле, стукнув рукой по столу. – Музыку, Вилли!
Хомайер охотно возвращается к своим ударным и бунчуку. Атмосфера оживляется. Я спрашиваю у Юппа, как было с толстушкой. Он пренебрежительно отмахивается.
– Да ты что! – оторопев, говорю я, – как у тебя все быстро.
Он кривится.
– Думаю, она в меня влюбилась, понимаешь? Конечно, денег эта потаскуха потом от меня потребовала. И при этом я так трахнулся коленом об этот чертов стол, что еле хожу.
Людвиг Брайер сидит тихий, бледный. Вообще-то ему давно пора спать, но он не хочет. Рука заживает хорошо, и понос несколько ослаб. Но он как-то ушел в себя.
– Людвиг, – многозначительно говорит Тьяден, – тебе бы тоже в сад. Помогает ото всего…
Людвиг качает головой и вдруг страшно бледнеет. Я подсаживаюсь к нему и спрашиваю:
– Ты что, совсем не рад, что скоро будешь дома?
Он встает и уходит. Я перестаю его понимать. Чуть позже я обнаруживаю его на улице. Он совсем один. Я больше ни о чем не спрашиваю. Мы молча идем обратно и в дверях сталкиваемся с Леддерхозе, который как раз удаляется с толстушкой. Юпп ухмыляется:
– Вот он сейчас удивится.
– Ну-у, удивиться-то придется ей, – говорит Вилли. – Или ты думаешь, что Артур выложит хоть пфенниг?
Вино течет со стола, лампа коптит, летают девичьи юбки. На лице у меня теплая усталость, все очертания размыты, как светлые пятна в тумане, голова медленно клонится к столу… Мягко и чудесно гудит ночь, словно скорый поезд домой. Скоро мы будем там.