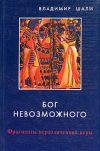Автор книги: Эрнст Гофман
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Как? Что ты говоришь? Андрес, министр, феи на моей земле?! – воскликнул князь и, весь бледный, откинулся назад в своем кресле.
– Мы можем быть спокойны, дражайший господин мой, – продолжал Андрес, – если мы с умом поведем войну против этих опасных врагов просвещения. Да, я называю их врагами просвещения, потому что они одни, злоупотребившие добротой вашего покойного папаши, виноваты в том, что наше любезное государство пребывает в полном невежестве. Они ведут опаснейшую игру с чудесным и не боятся распространять под именем поэзии тайный яд, который делает людей совершенно неспособными служить просвещению. Кроме того, у них такие неудоботерпимые, достойные полицейского надзора привычки, что уже одно это не позволяет терпеть их в культурном государстве. Так, например, эти дерзкие не боятся, когда им нравится, ездить по воздуху, запрягая голубей, лебедей и даже крылатых коней. Я спрашиваю вас, государь, стоит ли вводить в государстве разумный акцизный тариф, когда в нем есть люди, способные, если им заблагорассудится, бросить всякому легкомысленному гражданину через печную трубу запрещенные товары? А потому, дражайший, как только будет объявлено просвещение, следует выгнать всех фей. Их дворцы будут оцеплены полицией, у них отберут их опасное имущество и прогонят, как бродяг, в их отечество, которое, как вы можете знать из «Тысячи и одной ночи», есть страна Джинистан.
– Ходит ли почта в эту страну, Андрес? – спросил князь.
– Теперь нет, – ответил Андрес, – но после введения просвещения, может быть, заведутся ежедневные сношения с этим местом.
– Но, Андрес, – продолжал князь, – не найдут ли наш поступок с феями строгим? Не стал бы народ роптать.
– Против этого тоже есть средство, – сказал Андрес. – Мы не будем отправлять в Джинистан всех фей, а оставим некоторых здесь, и даже не лишим их всех средств вредить просвещению, только направим их целесообразным образом, чтобы создать полезных членов просвещенного государства. Если вы не желаете склонить их к солидному браку, они могут заняться под строгим надзором каким-нибудь полезным делом, вязать носки для солдат во время войны и т. п. Заметьте, что, когда феи будут постоянно в среде людей, в них скоро перестанут верить, а это и есть самое лучшее. Таким образом, ропот исчезнет. А что касается до разной утвари фей, то их отберут в княжеское казначейство, голубки и лебеди пойдут в виде редкого жаркого на княжескую кухню, а с крылатыми конями еще можно сделать попытку их культивировать, и сделать их полезными животными, обрезав им крылья и приучив их к тому корму, который мы введем в конюшнях вместе с просвещением.
Пафнутий был в высшей степени доволен всеми проектами своего министра, и на следующий же день было введено все то, что они порешили.
На всех углах виднелся эдикт о вводимом просвещении, и в то же время полиция вторглась во дворцы фей, отобрала у них все имущество и увела их под стражей.
Одному небу известно, как случилось, что фея Розабельвэрде одна из всех узнала обо всем за несколько часов перед тем, как водворилось просвещение, и воспользовалась этим временем, чтобы выпустить на свободу лебедей и припрятать свои волшебные розовые палочки и другие драгоценности. Она знала, что это самое вынуждает ее остаться в стране, но на это она пошла, хотя и с большой неохотой.
Вообще ни Андрес, ни Пафнутий не могли понять, почему феи, которые были высланы в Джинистан, выражали такую необузданную радость и уверяли, что они вовсе не держатся за то имущество, которое оставляют.
– В конце концов, – сказал озабоченный Пафнутий, – Джинистан гораздо лучше моего государства, и они смеются мне в нос со всем моим эдиктом и просвещением, которые будут теперь вводиться.
Географ вместе с государственным историком должны были собрать подробные сведения об этой стране.
Оба сошлись на том, что Джинистан – жалкая страна без культуры, просвещения, обучения, акаций и оспопрививания и, в сущности, даже вовсе не существует. А что же может быть хуже для страны или человека, как вовсе не существовать? Пафнутий успокоился.
Когда срубили чудный цветистый лес, где стоял покинутый дворец феи Розабельвэрде, и Пафнутий для примера сам привил оспу нескольким крестьянским детям в окрестных деревнях, фея встретилась князю в лесу, через который он возвращался в свой замок с министром Андресом. Там она так приперла его к стене разными речами, а, в особенности, разными волшебными штуками, которые она скрыла от полиции, что он умолял ее взять место в единственном и лучшем в стране женском приюте, где она может делать все, что угодно, невзирая на эдикт о просвещении.
Фея Розабельвэрде приняла это предложение и поступила таким образом в женский приют, где она назвалась, как было сказано, девицей Розенгрюншён, а затем, по настоятельной просьбе барона Претекстатуса фон-Мондшейна, девицей фон-Розеншён.
Глава 2
О неизвестном народе, который открыл во время путешествия ученый Птоломей Филадельф. – Университет Кэрепес. – Как студенту Фабиану полетели в голову верховые сапоги, а профессор Мош Тэрпин пригласил на чай студента Бальтазара.
В письмах, которые писал своему другу Руфину знаменитый профессор Птоломей Филадельф, находясь в дальнем путешествии, есть следующий замечательный отрывок:
«Ты знаешь, милый Руфин, что мне ничто так не страшно и не противно, как палящие лучи дня, которые истощают силы моего тела, и так напрягают и утомляют мой дух, что все мои мысли сливаются в смутной картине, и я напрасно стараюсь поймать в душе хоть какой-нибудь ясный образ. Поэтому я стараюсь в это жаркое время года отдыхать днем, а ночью продолжаю свое путешествие, и таким-то образом я в прошлую ночь находился в путешествии. Мой возница сбился в темноте с прямой удобной дороги и незаметно попал на шоссе. Несмотря на то, что, вследствие сильных толчков, я подпрыгивал в экипаже так, что голова моя, вся усаженная шишками, напоминала мешок с орехами, я проснулся от глубокого сна, в который был погружен, не прежде, чем я был выброшен страшным толчком на жесткую землю. Солнце ярко светило мне прямо в лицо, а за шлагбаумом, стоявшим прямо передо мной, увидел я высокие башни красивого города. Извозчик сильно жаловался, так как не только ось, но и заднее колесо экипажа сломалось о большой камень, лежавший среди шоссе, и, по-видимому, очень мало, а то и совсем обо мне не беспокоился. Я подавил свой гнев, как подобает мудрецу, и совсем кротко сказал этому малому, что он сущий негодяй, и мог бы подумать о том, что Птоломей Филадельфус, знаменитейший ученый своего времени сидит на земле, и оставить в покое свои оси и колеса. Ты знаешь, мой милый Руфин, как сильна моя власть над человеческими сердцами. Так и теперь случилось, что извозчик сейчас же перестал жаловаться и поднял меня на ноги с помощью шоссейного смотрителя, перед домиком которого случилось это происшествие. К счастью, я не потерпел никакого серьезного ущерба и был в состоянии медленно ходить по улице в то время, как извозчик старательно чинил разбитый экипаж. Неподалеку от ворот того города, который виднелся в голубой дали, я встретил много людей такого странного вида и в таких удивительных одеждах, что я протирал себе глаза, желая убедиться в том, действительно ли я не сплю, или какой-нибудь безумный, дразнящий сон перенес меня в незнакомую сказочную страну. Эти люди, которых я справедливо считал жителями того города, из ворот которого они шли, были одеты в очень широкие панталоны, скроенные на манер японских, из дорогих материй: атласа, бархата, тонкого сукна или очень пестрой бумажной ткани, богато выложенной галунами или красивыми лентами и шнурками. При этом на них были маленькие детские кафтанчики, едва прикрывавшие верхнюю часть тела, по большей части ярких цветов, только немногие были в черном. Волосы их спускались на плечи и на спины, непричесанные, в естественной дикости, а на головах сидели странные маленькие шапочки. У многих была голая шея на манер турок или новогреков, другие носили при этом на груди и на шее кусочки белой бумажной материи, очень похожие на воротники, точно такие, как ты видел, милый Руфин, на изображениях наших предков. Несмотря на то, что эти люди казались вообще очень молодыми, их речь была груба, все движения негибки и у многих была под носом густая тень, точно будто у них там усы. У многих торчали из нижней части кафтанов длинные трости, на которых болтались большие шелковые кисти. Некоторые вынимали эти трости и надевали на них большие и малые, а иногда и очень большие головки странной формы, из которых они, дуя в суживающийся конец тросточки, очень ловко извлекали искусственные облака дыма. У других были в руках широкие сверкающие мечи, точно будто они шли навстречу врагу; у иных были повешены или пристегнуты к спине небольшие вместилища из кожи и олова. Ты представляешь себе, милый Руфин, что я, стараясь обогатить мои знания посредством тщательного изучения всякого нового явления, остановился и устремил пристальный взгляд на этих странных людей. Тогда они столпились вокруг меня, громко закричали: «Филистер, филистер!» и разразились страшным хохотом.
Это меня раздосадовало, так как филистер ведь значит филистимлянин. А может ли быть что-либо более оскорбительнее для великого ученого, как быть принятым за лицо из народа, который за много тысяч лет тому назад был истреблен ослиной челюстью? Я собрал все свое природное достоинство и громко сказал этому странному народу, что я надеюсь, что нахожусь в цивилизованном государстве и могу обратиться к суду и полиции, чтобы отплатить за нанесенную мне обиду. Тут все зажужжали, те, которые до тех пор этого не делали, вынули из карманов свои машины и начали пускать мне в лицо густые клубы дыма, который, как я только теперь заметил, невыносимо вонял и отуманивал мой рассудок. Тогда они произнесли нечто вроде заклинания, слов которого, по причине их страшного смысла, я не могу тебе повторить, любезный Руфин. Я сам о них думаю с глубочайшим ужасом. Наконец, они оставили меня с громким насмешливым хохотом, и мне показалось, что слово «арапник» пронеслось в воздухе! Мой извозчик, который все это видел и слышал, всплеснул руками и сказал:
– Ах, милый барин, уж что случилось, того не воротишь, только, ради Бога, не ходите вы в этот город! Ни одна собака, как говорится, не взяла бы от них ни куска хлеба, и разве что они грозят вас приб…
Я не дал договорить этому честному малому, но так быстро, как только мог, направил стопы свои в ближайшую деревню. Я сижу в уединенной комнатке единственной харчевни этой деревни и пишу тебе все это, милый Руфин. Насколько возможно, я соберу сведения о том неизвестном варварском народе, который живет в этом городе. Мне уже рассказали много в высшей степени интересного об их нравах, обычаях, языке и пр., все это я в точности сообщу тебе…»
Ты видишь, любезный читатель, что можно быть великим ученым и не знать о самых обыкновенных явлениях жизни и чувствовать себя, как в странном сне, при самых простых событиях. Птоломей Филадельф обучался наукам, но не был знаком со студентами и даже вовсе не знал, что он сидит в деревне Гох-Якобсгейм, которая находится, как известно, поблизости от знаменитого университета Кэрепеса, когда писал своему другу о происшествии, которое сложилось в его голове в форме странного приключения. Почтенный Птоломей испугался, встретив студентов, которые весело и без дурного умысла гуляли ради своего удовольствия. Какой страх напал бы на него, если бы он попал в Кэрепес час тому назад, и случай привел бы его к дому профессора естественных наук Моша Тарпина! Его окружила бы сотня студентов, вырвавшихся из дому с шумными спорами и пр., и еще более странные сны сложились бы в его голове по поводу всего этого шума и суматохи. Коллегия Моша Тарпина была наиболее посещаема в Кэрепесе. Он был, как мы уже говорили, профессор естественных наук и объяснял, как идет дождь, почему бывает гром и молния, отчего солнце показывается днем, а луна ночью, как и почему растет трава, и т. д., так что всякий ребенок мог бы это понять. Он заключил всю природу в маленький сокращенный учебник, так что все, что нужно, было у него под рукой, и он мог доставать оттуда ответы на все вопросы, как из какой-нибудь шкатулки. Он получил известность оттого, что после многих физических опытов счастливо доказал, что темнота происходит, главным образом, от недостатка света. Этому, а также и тому, что он умел очень ловко и с разными фокусами показывать физические опыты, он обязан был своей необычайной славе.
Так как мы, благосклонный читатель, знаем студентов гораздо лучше знаменитого ученого Птоломея Филадельфуса, и вовсе незнакомы с его мечтательной боязливостью, то позволь мне свести тебя в Кэрепес к дому профессора Моша Тэрпина в то время, когда он кончил свои лекции. Один из выбежавших оттуда студентов сейчас же обратит на себя твое внимание. Ты заметишь хорошо сложенного юношу двадцати трех или четырех лет, из темных сверкающих глаз которого так и говорит с тобой деятельный прекрасный дух. Его взгляд можно было бы назвать смелым, если бы жгучие лучи его не смягчались, как дымкой, мечтательной грустью, разлитой по всему его бледному лицу. Его кафтан из тонкого черного сукна, подбитый атласом, скроен по старонемецкой моде, и к нему очень идет изящный белоснежный кружевной воротник и бархатный берет, надетый на темно-каштановые кудри. Все это на нем очень красиво, так как всем своим существом, походкой, позой и полным значенья лицом он как будто действительно принадлежит к прекрасной благочестивой стране. И поэтому, глядя на него, нельзя и думать о том жеманстве, которое часто встречается при мелочном обезьянстве с дурно понятых образцов и столь же плохо понятых отношениях современной жизни. Этот молодой человек, который с первого взгляда так понравился тебе, любезный читатель, никто иной, как студент Бальтазар, сын достаточных родителей, благочестивый, умный и прилежный, о котором я, о, читатель, собираюсь многое рассказать тебе в этой достопримечательной истории.
Как всегда серьезный и погруженный в свои мысли, шел Бальтазар из коллегии профессора Моша Тэрпина к городским воротам, чтобы вместо фехтовального зала отправиться в красивый лесок, который был не далее, как в двухстах шагах от Кэрепеса. Его друг Фабиан, красивый бурш веселого вида и такого же характера, бежал за ним и нагнал его у самых ворот.

– Бальтазар, – громко позвал Фабиан, – ты опять собираешься в лес и будешь одиноко бродить там, как меланхолический филистер, в то время как истые бурши упражняются в благородном фехтовальном искусстве! Прошу тебя, Бальтазар, брось ты, наконец, свое дурацкое неприятное поведение и будь веселым и бодрым, как был ты прежде. Пойдем, сделаем два-три выпада, и если ты захочешь потом уйти, и я с тобой побегу.
– Ты хорошо придумал, Фабиан, – сказал Бальтазар, – и потому я на тебя не буду сердиться за то, что ты часто бежишь за мной, как одержимый, и лишаешь меня многих удовольствий, о которых ты не имеешь понятия. Ты принадлежишь к тем странным людям, которые всякого, кого они видят бродящим в одиночестве, считают меланхолическим дураком и желают обработать и излечить его на свой лад, как тот придворный прихлебатель, которого достойный принц Гамлет хорошо проучил, когда он сказал, что не умеет играть на флейте. Поэтому я предупреждаю тебя и даже сердечно прошу, мой милый Фабиан, чтобы ты искал себе другого товарища для твоего благородного фехтованья на рапирах и шпагах, а меня оставил в покое.
– Нет, нет, – смеясь, воскликнул Фабиан, – ты так легко от меня не отделаешься, любезный мой друг! Если ты не хочешь идти в фехтовальный зал, я пойду с тобой в лес. Долг верного друга развеселять тебя в твоей печали. Пойдем-ка, пойдем, мой милый, если ты не хочешь поступить иначе.
Тут он схватил друга под руку и быстро зашагал рядом с ним. Бальтазар стиснул зубы в немой досаде и замкнулся в мрачном молчании в то время, как Фабиан одним духом насказал ему множество веселых вещей. В числе их было много глупостей, как бывает обыкновенно в веселых необдуманных рассказах.
Когда они вошли, наконец, под прохладную сень душистого леса, и кусты зашептали, как бы тоскливо вздыхая, когда зазвучали вокруг дивные мелодии шумящих ручьев и песни птиц, а с гор доносилось ответное эхо, Бальтазар внезапно остановился и воскликнул, широко раскрывши руки, как бы желая с любовью обнять кусты и деревья:
– О, теперь мне опять хорошо! Я несказанно счастлив!
Фабиан смотрел на друга немного смущенный, как бывает в тех случаях, когда не понимают речи другого и не знают, чтобы такое сделать. Тогда Бальтазар схватил его руку и воскликнул, полный восторга:
– Не правда ли, брат мой, твое сердце тоже растет, и ты понимаешь блаженную тайну лесного уединения?!
– Я не совсем понимаю тебя, милый брат мой, – ответил Фабиан, – но если ты находишь, что приятно гулять в этом лесу, я с тобой вполне согласен. Разве не охотно я гуляю в приятном обществе, в котором можно вести разумный и поучительный разговор? Не истинное ли, например, наслажденье гулять за городом с нашим профессором Мошем Тэрпином? Он назовет всякое растение, всякую травку и знает ее имя и к какому классу она принадлежат, а также понимает все относящееся к ветрам и к погоде…
– Остановись, – воскликнул Бальтазар, – прошу тебя, остановись! Ты коснулся того, что могло бы свести меня с ума, если бы не было у меня утешений. Способ профессора говорить о природе раздирает мне сердце или, вернее, наводит на меня какой-то ужас, точно будто я смотрю на безумца, который в нелепом дурачестве считает себя королем и властелином и ласкает самим им сделанную соломенную куклу, думая, что он обнимает королевскую невесту! Его так называемые опыты кажутся мне отвратительной насмешкой над божественным созданием, дыхание которого веет в природе и возбуждает в глубине наших душ самые глубокие святые предчувствия. Часто хочется мне разбить его стаканы, бутылки и весь его хлам, но я думаю при этом, что обезьяна перестает играть с огнем только тогда, когда она обожжет себе лапы. Знаешь ли ты, Фабиан, что эти чувства меня пугают и гнетут мое сердце во время лекций Моша Тэрпина, и неудивительно, если я кажусь вам тогда нелюдимым и углубленным в себя. Мне кажется тогда, что дома обрушатся над моей головой, и неизъяснимый страх гонит меня прочь, вон из города. Но здесь мои чувства испытывают сладостный отдых. Лежа на цветистом ковре, я смотрю на далекую синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом плывут золотые облака, как дивные грезы из далекого мира блаженных радостей! О, Фабиан, тогда в груди моей просыпается дивный дух, и я слышу, как он таинственными словами говорит с кустами, деревьями и волнами лесного ручья, и я не сумею изобразить то блаженство, которое проникает тогда все мое существо какой-то сладкой и грустной робостью!
– Да, да, – воскликнул Фабиан, – опять все та же вечная старая песня о блаженстве и грусти, говорящих ручьях и деревьях! Все твои стихи повествуют об этих милых вещах, которые очень сносно звучат и могут быть с пользою применимы, если за ними ничего не искать. Но скажи-ка мне, милейший мой меланхолик, отчего же это, если тебя так ужасно оскорбляют и сердят лекции профессора Моша Тэрпина, ты являешься на все его лекции? Ради чего ты не пропускаешь ни одной из них и сидишь затем, в самом деле, безмолвный и неподвижный с закрытыми глазами, как спящий?
– Не спрашивай меня об этом, милый друг, – сказал Бальтазар, опуская глаза. – Неведомая сила влечет меня каждое утро в дом Моша Тэрпина, я ощущаю муки и не могу противостоять этой силе, меня влечет какой-то таинственный рок!
– Ха, ха, ха, – рассмеялся Фабиан, – как тонко, поэтично и мистично! Неведомая сила, которая влечет тебя в дом Моша Тэрпина, заключается в темно-синих глазах прекрасной Кандиды. Мы все давно знаем, что ты по уши влюблен в хорошенькую профессорскую дочку, и поэтому спускаем тебе твои фантазии и твое дурацкое поведение. С влюбленными иначе нельзя. Ты находишься в первой стадии развития любовной болезни и в позднейшие годы юности должен привыкнуть ко всем тем странным шуткам, которые мы и многие другие проделывали, благодаря Богу, в школе без большого собрания публики. Но поверь мне, мой нежный друг…
Тут Фабиан снова схватил под руку своего друга Бальтазара и быстро пошел с ним дальше. Только теперь вышли они из чащи на широкую дорогу, проложенную через лес. Тут Фабиан заметил, что вдали скакала лошадь без всадника, окруженная облаком пыли.
– Эге! – воскликнул он, обрывая свою речь. – Какая-то проклятая кляча убежала и сбросила всадника; нужно ее поймать, а затем поискать в лесу всадника.
С этими словами он встал посреди дороги. Но по мере приближения лошади стало видно, точно будто по обеим сторонам ее болтается в воздухе по верховому сапогу, а на седле двигается и возится что-то черное. Прямо перед Фабианом раздалось громкое и резкое «тпру», в голову его полетела пара верховых сапог, и какой-то маленький странный черный предмет скатился ему в ноги. Большая лошадь остановилась, как вкопанная, обнюхивая своего маленького визжащего господина, который корчился в песке и, наконец, с трудом поднялся на ноги. Голова этого человечка была глубоко посажена между высокими плечами. Вся его фигура, все его короткое тело с высокими паучьими ногами напоминало яблоко, насаженное на вилку, на котором вырезали какую-то образину. Когда Фабиан увидел перед собой это странное маленькое чудище, он разразился громким смехом. Но карлик решительно надвинул себе на глаза берет, который он поднял с земли, и сказал грубым и хриплым голосом:
– Эта дорога ведет в Кэрепес?
– Да, – серьезно и мягко ответил Бальтазар и подал карлику сапоги, которые тот искал.
Все старания малютки надеть сапоги были тщетны. Он приподнимался на ноги и со стоном вертелся по песку. Бальтазар поставил сапоги рядом, осторожно приподнял карлика и, держа его таким образом, вложил его ножки в эти слишком тяжелые и широкие футляры. Тогда малютка крикнул ему с гордым видом, подбоченясь одной рукой и приложив другую к берету: «Благодарю вас!» и зашагал к лошади, взяв ее за узду.
Все его старания достать до стремян или вскарабкаться на высокую лошадь остались тщетны. Бальтазар все с той же серьезной мягкостью подошел к нему и приподнял карлика до стремян, но тот, вероятно, сделал слишком сильное движение, так как в ту минуту, как он сел на лошадь, он опять свалился в другую сторону.

– Поменьше жару, милейший мосье! – воскликнул Фабиан, снова разражаясь громким хохотом.
– Черт вас возьми, милейший мосье! – крикнул карлик, совершенно озлившись и стряхивая песок со своей одежды. – Я студент, и если вы тоже студент, то ваша манера хохотать мне в лицо, как болван, есть повод для дуэли, и завтра вы должны со мной драться в Кэрепесе!
– Черт возьми! – воскликнул Фабиан, продолжая смеяться, – да это настоящий бурш и сущий молодец по смелости и чувству собственного достоинства!
Тут он поднял карлика вверх, несмотря на все его упорство и брыкание, и посадил его на лошадь, которая сейчас же весело побежала вперед, неся своего маленького господина.
Фабиан держался за бока и, кажется, готов был лопнуть со смеха.
– Это жестоко, – сказал Бальтазар, – смеяться над человеком, которого природа так страшно исковеркала, как этого маленького всадника. Если он действительно студент, то ты должен с ним драться и даже па пистолетах, хоть это против академических правил, потому что он, конечно, не может владеть ни рапирой, ни шпагой.
– Как серьезно и трагично ты все это принимаешь, милый друг Бальтазар, – сказал Фабиан. – Я никогда не смеюсь над уродством. Но скажи мне, должен ли такой крошечный карапуз садиться на лошадь, из-за шеи которой его не видно? Должен ли он совать свои ноги в такие страшно широкие сапоги? Должен ли он носить такую плотно обхватывающую куртку с тысячью шнурков, галунов и кистей и такой удивительный бархатный берет? Может ли он иметь такой дерзкий надменный вид? Может ли он издавать такие резкие и варварские звуки? Может ли он позволять себе все это, говорю я, и не быть за это осмеянным, как настоящий болван?.. Но я пойду отсюда, мне хочется видеть ту возню, которая поднимется в городе, когда этот воинственный студент въедет на своем гордом коне! С тобой сегодня нечего делать! Счастливо оставаться!
И Фабиан стрелой помчался к городу через лес.
Бальтазар сошел с дороги и углубился в чащу; там он упал на зеленый мох, сраженный и побежденный самыми горькими чувствами. Очень могло быть, что он действительно любил прелестную Кандиду, но эту любовь он замкнул в глубине души, как глубокую, нежную тайну, от всех людей и даже от себя самого. И теперь, когда Фабиан так безжалостно и легкомысленно заговорил об этом, он чувствовал себя так, как будто грубые руки в дерзком насилии сдернули покрывало с того священного образа, до которого он не смел дотронуться, и как будто эта святая будет вечно сердиться за это на него самого. Слова Фабиана показались ему отвратительной насмешкой над всем его существом, над самыми сладкими его грезами.
– Это значит, – воскликнул он в избытке досады, – что ты считаешь меня, Фабиан, за влюбленного дурака, за болвана, который бегает на лекции Моша Тэрпина, чтобы пробыть хоть час под одной кровлей с прекрасной Кандидой?! Который одиноко бродит по лесу, чтобы сочинять прекрасные стихи к возлюбленной и еще более жалким образом ее описывать? Который портит деревья, вырезая на их гладкой коре глупейшие вензеля, а в присутствии милой девушки не способен сказать ни одного разумного слова; только вздыхает, охает и корчит плаксивые рожи, точно будто с ним сделались корчи? Который носит на груди увядшие цветы, которые она носила, или перчатку, которую она потеряла?.. Словом, проделывает тысячу ребяческих глупостей. И из-за этого Фабиан надо мной насмехается, и надо мной смеются все бурши… А прелестная, милая, чудная Кандида…
Как только он произнес это имя, оно пронизало его сердце, как огненный меч. Увы, какой-то внутренний голос очень ясно шепнул ему в эту минуту, что он только ради Кандиды ходит в дом Моша Тэрпина, что стихи его обращены к ней, что ее имя вырезает он на древесной коре, что в ее присутствии он молчит, вздыхает и охает, что он носить на груди увядшие цветы, которые она потеряла, что он действительно способен на все те глупости, в которых может упрекнуть его Фабиан. Только теперь почувствовал он, как несказанно любит прекрасную Кандиду, но в то же время он подумал о том, как странно, что чистейшая и глубочайшая любовь так смешно проявляется во внешней жизни, полагая, что это следует приписать той глубокой иронии, которую вложила природа во все человеческие деяния. Быть может, он был прав, но неправ он был в том, что так на это сердился. Грезы, окружавшие его прежде, исчезли, голоса леса звучали ему иронией и насмешкой; он вскочил и бросился бежать в Кэрепес.
– Господин Бальтазар, mon cher Бальтазар! – услышал он вдруг.
Он поднял глаза и остановился, как очарованный, так как навстречу ему шел профессор Мош Тэрпин, ведя под руку дочь свою Кандиду. Кандида поклонилась окаменевшему Бальтазару со свойственной ей веселой и дружеской непринужденностью.
– Бальтазар, mon cher Бальтазар, – воскликнул профессор, – вы положительно самый прилежный и любимейший из моих слушателей! Я замечаю, мой милый, что вы любите природу со всеми ее чудесами так же, как я, который слыву за это настоящим дураком! Вы наверно опять ботанизировали в нашем лесу? Что же, нашли что-нибудь полезное? Нам нужно поближе познакомиться! Заходите ко мне, всегда будете желанным гостем. Мы можем вместе производить эксперименты. Вы уже видели мой воздушный насос? Так-то, mon cher, завтра вечером в моем доме соберется дружеский кружок, который будет поглощать чай с бутербродами и забавляться приятными разговорами; увеличьте его вашей достойной особой. Вы познакомитесь у меня с одним очень привлекательным молодым человеком, которого мне особенно рекомендовали. Bon jour, mon cher, добрый вечер, дражайший! И до свидания! Ведь вы придете завтра на лекцию? Adieu, mon cher!
И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош Тэрппн отправился дальше вместе с дочерью.
В своем смущении Бальтазар не посмел поднять глаз, но взоры Кандиды прожгли его душу, он чувствовал веяние ее дыхания и сладостный страх проникал в его существо.
Все его неудовольствие прошло, полный восторга, смотрел он па милую Кандиду до тех пор, пока она не исчезла под сводом деревьев. Тогда он медленно вернулся в лес, чтобы отдаться еще более дивным мечтам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?