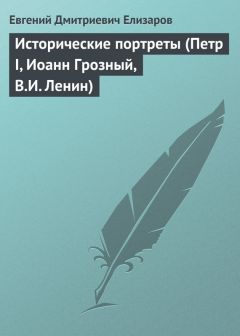
Автор книги: Евгений Елизаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Одних линейных кораблей, содержание которых могла себе позволить только крупная военно-морская держава, за время царствования Петра было создано 146 единиц. Одновременно напомним, что к началу девяностых годов семнадцатого века (т е. к началу петровского царствования) английский флот насчитывал в своем составе 163 военных корабля основных классов, из них 95 линейных, французский соответственно 179 и 95, голландский – 102 и 69. Через сто лет в составе английского флота было 555 кораблей, из них 118 линейных всех рангов и 132 фрегата. Французский насчитывал соответственно 319, 96 и 103. Голландский флот к тому времени как серьезная военно-морская сила уже сошел на нет.
Такое количество линейных кораблей всех рангов, построенных за время царствования Петра (повторимся: нормальный срок службы военного корабля превышал срок его царствования) вполне могли бы вывести Россию в число первых военно-морских держав. На деле же мощь России и к концу его правления ненамного превосходила полученное самим Петром наследство, т е. была практически нулевой. Правда, после него оставались еще 36 линкоров и 9 фрегатов, но мореходные (а значит, в конечном счете, и боевые) их качества были весьма сомнительны, если не сказать ничтожны. Впрочем, и они в очень скором времени благополучно сгнили…
К сожалению, инерция, приданная Петром, еще долгое время будет сохраняться в российском военном судостроении. Еще долгое время и после него корабли будут строить из сырого леса. Еще и через столетие средний срок службы российских кораблей будет составлять всего девять лет. Поэтому и через сто лет после смерти Петра при штатном составе Балтийского флота в 27 линейных кораблей пригодных и готовых к дальнему плаванию будет всего 5. Это объясняется тем, что при таком сроке службы необходимо было ежегодно строить три новых линкора. Однако и состояние российской казны (в те поры не самое, кстати, бедственное), и климатические особенности региона не позволяли строить более полутора-двух; обходились тем, что кое-как ремонтировали старые и зачисляли в состав действующих. Нужно ли говорить, что если одолевшей Наполеона и ставшей во главе Священного союза России, будет не по карману и в мирное-то время содержать такой флот, то петровские утехи и вовсе были гибельны для врученной ему державы, напрягавшей все силы для одоления заносчивого шведского супостата.
Личность Петра неожиданно обнаруживает весьма большое сходство с Дон Кихотом. Казалось бы, это совершенно невозможно, и все же… Обоих роднит не только то обстоятельство, что оба они – персонажи чисто литературного вымысла (реальный Петр столь же далек от героя историографических легенд, сколь «рыцарь печального образа» от своего прототипа), но и то, что жили они в каком-то искусственном, созданном их собственным воображением мире, и этот воображенный ими мир в сущности полностью заслонил собой реальную действительность. Один начитался рыцарских романов и вообразил себя героем, достойным легенд, что окружали, ну, скажем, рыцарей круглого стола, другой – таких книг, как, к примеру, «Записки о галльской войне»… Но этот другой был далеко не простым дворянином из какого-то захудалого рода, поэтому и фантазии, и (что намного страшней) претензии его простирались намного дальше.
Вглядимся. Еще не было флота, способного противостоять армадам крупных европейских держав: ведь даже через полтора столетия одно только введение английского флота в Черное море заставит потопить русские корабли перед входом в Севастопольскую бухту. Больше того: еще не было флота, вообще способного сносно держаться на плаву. Но вот Адмиралы уже были. Был даже Генерал-адмирал (высшее звание в воинской морской иерархии, каким удостаивались далеко не все флотоводцы и с громкими именами). Между тем, звание «адмирал» этимологически восходит к арабскому «амир аль (бахр)», что означает, "владыка на море». Владыкой же на морях – при трезвом, естественно, рассмотрении – Петр не мог себя чувствовать и в конце своего царствования, ибо господство в глухом тупике Финского залива в сущности не многим отличалось от господства на Плещеевом озере.
Еще не было победоносной армии, но уже был Генералиссимус. Звезда России на военном небосклоне Европы только-только начинала восходить, а Россия к концу петровского царствования уже прочно удерживала первенство по числу Генералиссимусов (напомним, что тотчас же после смерти Петра это звание смог вытребовать себе еще и Меншиков).
Русская традиция называла высший совещательный орган при царе Думой. Петр назвал его Сенатом.
О том, почему именно Сенатом, мы как-то не задумываемся, а между тем само это название весьма симптоматично, ведь во многом именно оно позволяет заглянуть в тот внутренний мир, который создала неуправляемая петровская фантазия. Уставшие от кухонной обыденности слабые женщины утешают себя прелестной сказкой о Золушке. Но, как видно, и рожденный властвовать мужчина оказывается совсем не чужд мечтательности. Словом уже сам этот «Сенат» – есть прямое указание на то, что волшебные грезы свойственны не одним только домохозяйкам.
Россия одержала трудную победу в Северной войне. Но ведь если честно, то эта победа еще не возводила ее в достоинство первоклассных европейских держав. Звездный час России, ставшей во главе Священного союза, был еще впереди, целое столетие отделяло его от капитуляции, принятой Меншиковым под Переволочной. И тем не менее именно Петру было присвоено звание Императора. Нужно ли говорить, что этим актом Сената было просто удовлетворено тайное желание царя. Кстати, одновременно ему было присвоено еще и звание «Отца народа» (к слову сказать, восходившее все к тому же Риму). Так, удовлетворяя тайным желаниям другого властителя, до самой старости продолжавшего играть в такого же великого вождя, через два с половиной столетия снова будут вручать боевые отличия и Золотое оружие, присваивать не менее фантастические титулы, вроде «Маршала мира»…
После почти двухсот лет существования Империи мы уже как то не задумываемся над этим, а ведь весьма симптоматичен и титул Императора. Ведь Европа того времени знала только две империи: Империю Рима и Священную Римскую Империю. При этом вторая идеологически закреплялась как простая наследница первой, да и провозглашенная цель ее состояла в возрождении того единства народов, которое когда-то было скреплено легионами Рима. Необычность ситуации, создаваемой этим актом Российского Сената, состояла в том, что им нарушалась сложившаяся «иерархия» европейских монархов: ведь Петр сразу же становился как бы над всеми ими, ибо все они были только королями. К тому же и несоблюдение должных юридических процедур не могло добавить легитимности новому титулу…
«Небываемое бывает». Ни больше, ни меньше – небываемое! И все это – о боевом столкновении, в котором со шведской стороны приняло участие 77 человек. Правда, еще только через столетие, лишь на закате наполеоновской эры Европа под Лейпцигом увидит бойню, чинимую армиями, совокупная численность которых перевалит через пол-миллиона, но и в петровское время это столкновение было, скорее, стычкой, нежели сражением. Так что фермопильская надпись («Против трехсот мириад здесь некогда бились пелопоннесских мужей сорок лишь сотен всего»), пожалуй, много скромнее, хотя подвиг Леонида и по сию пору заслоняет собой едва ли не все известное военной истории.
Но ведь еще Рим стал владыкой на море благодаря обыкновенной пехоте, штурмовавшей корабли противника. Ворон – вот изобретение Рима, давшее ему власть над Средиземным морем. Так что еще задолго до Петра пехота решала исход морского боя. Долгое время и после него пехотные контингенты в обязательном порядке включались в состав экипажей боевых кораблей всех европейских морских держав.
Правда, можно и оспорить: ведь здесь мы имеем дело со специально обученной, морской, пехотой (впрочем, на деле, не такой уж и обученной и не такой уж морской – чаще с обыкновенными пехотинцами, обретавшими необходимый опыт в деле). Но оставим ее и обратимся к другим примерам, скажем, к береговому пиратству, тактика которого мало чем отличалась от тактики, использованной майской ночью 1703 года. А ведь береговое пиратство оставило неизгладимый след и в истории нашего отечества: напомним, под ударами именно таких пиратов погибла на днепровских порогах дружина Святослава.
Если уж и в самом деле говорить о чем-то неслыханном в истории боевых столкновений, то следовало бы вспомнить совсем другое. Через девяносто лет после майского подвига на Неве в Северной Европе выдалась очень холодная зима. В эту зиму военного противостояния революционной Франции обычно незамерзающие голландские каналы, которые нередко служили и обороне страны, покрылись толстым льдом и стали доступными не только для пехоты, но даже и для кавалерии. И вот в январе 1795 года уже познавшие вкус победы французы узнали, что часть голландского флота замерзла во льду близ Текселя, и выслали против нее сильный отряд конницы. Пройдя форсированными маршами северную Голландию, отряд перешел замерзшее Зюдер-Зее и, окружив недвижный флот, потребовал его сдачи. Никак не ожидавшие подобной атаки (вот уж действительно – вода и камень, стихи и проза, лед и пламень…) растерявшиеся командиры судов вынуждены были спустить флаги. Понятно, что не знающая точной наводки, корабельная артиллерия совершенно бессильна в такой ситуации, моряки же – не пираты, а в рукопашном бою против прорвавшейся кавалерии и вышколенной пехоте устоять трудно. Все же подвиги абордажных боев, повторим уже сказанное, свершались вовсе не ими, но специально включаемыми в экипажи пехотными контингентами. Поэтому ни превозносить до небес храбрость одних, ни – тем более – порицать малодушие других здесь неуместно. Но как бы то ни было французские гусары вполне заслуженно снискали громкую славу, ибо военная история, как кажется, вообще не знала другого случая захвата боевых кораблей конницей.
Так что на Неве случилось отнюдь не небываемое – небываемое существовало только в вечно воспаленном воображении Петра.
Все эти громкие титулы и звания, все эти преувеличенно пышные определения в общем-то мало приметного выдают вечную его тайну, выдают то обстоятельство, что он в сущности всю свою жизнь продолжал играть в какую-то рожденную еще детским воображением игру. В том, иллюзорном, мире, где навсегда замкнутым оказалось сознание Петра, все было великим. Не случайно за один из таких «великих» подвигов (кстати, тот самый – «небываемый») Военный совет присвоил сразу два отличия недавно учрежденного высшего российского ордена Андрея Первозванного. Все здесь было именно таким, каким и полагалось ему быть в мире, созданном гением титана, прямого преемника громкой славы первых цезарей первого Рима.
Правда, всю эту имперскую мишуру можно было бы объяснить и чисто идеологическими мотивами, объективными потребностями пропаганды государства, добивающегося для себя достойного места в ряду европейских держав. Но ведь и в пропаганде нужно знать меру: кто в Европе того времени мог всерьез принимать всех этих петровских Генералиссимусов и Генерал-адмиралов вместе с самим Императором? Задумаемся над одним фактом. Если в военное межсезонье переход под знамена даже недавнего противника считался нормой того времени, то измена в бою во все времена была делом, способным уничтожить репутацию любого офицера. Кочующие же по армиям Европы кондотьеры, может быть, как никто другой нуждались в непорочности своего послужного списка. Меж тем под Нарвой практически все иноземцы перешли на сторону Карла (к слову, весьма щепетильного в вопросах воинской чести) задолго до того, как обозначился исход сражения. Измена? Разумеется. Но кто из них был заклеймен как предатель? Стыдно признаться самим себе, но это так: весьма чувствительные в вопросах чести, нанятые Петром профессионалы сочли нравственным уроном для себя принять бой против своих же товарищей на его стороне. Без потери лица они могли воевать за Петра лишь против лопарей, скифов, монголов, ирокезов, готтентотов, словом, против любых, столь же экзотических племен, как и дикари самой Московии. Представления о России как о варварской стране еще и не начинали изменяться. Когда же варвар надевает на себя императорскую корону, тем самым возвышая себя над всеми монархами цивилизованного мира, на него смотрят со снисходительной усмешкой. Такая пропаганда могла лишь навредить, ибо во многом благодаря именно ей на Россию еще долгое время продолжали смотреть как на дикую страну.
Но даже откровенно перебирая пропагандистскую меру необходимо сохранять трезвость, чтобы и самому не уверовать во всю эту трескотню. В противном случае теряется всякая способность управлять реальной действительностью. Необходимо сохранять известную вольность по отношению к создаваемым самим же собой условностям. Петр же относился к ним совершенно серьезно.
Петр, – говорят мемуаристы, – был очень прост в обращении, с ним запросто могли пить водку и простые шкипера. Но легко нарушая ритуальные условности, принятые при европейских дворах, он, как кажется, никогда не отступал от тех формальных правил, которые диктовались логикой им же вымышленной действительности. Впрочем, не только не отступал сам, но и бдительно следил за тщательным выполнением другими всех телодвижений никем не виденных ранее ритуалов. Во время торжественного прохождения войск, спасших Россию в судьбоносном дня нее Полтавском сражении, он в ярости мог рубить клинком солдата, не известно в чем оступившегося при исполнении мудреного для вчерашнего крестьянского парня викториального церемониала.
Лишенное даже тени иронии, абсолютно серьезное отношение к форме, ритуалу никогда не бывает наигранным. Наигранным может быть лишь то натянуто щегольское пренебрежение ими, которое опытному взгляду сразу же выдает новичка, старающегося походить на ветерана.
Разумеется, Петр не был тем полковым командиром, личность которого легко угадывается из содержания ставших бессмертными примечаний на полях столь же нетленных военных записок Фаддея Козьмича. Нет, дело совсем не в умственной ограниченности. Абсолютная серьезность, с которой Петр относился ко всем вводимым им условностям, свидетельствует о том, что в них он видел отнюдь не условность, не форму, но подлинное существо явлений. Солипсизм – вот имя тому состоянию, к котором замкнулось сознание Петра. Химеры той виртуальной реальности, которая была вымышлена им, были для него вовсе не фикцией, но самой действительностью. Над вымыслом слезою обольюсь, – сказал поэт. Но тщательность соблюдения всеми поданными всех тех ритуальных требований, которые диктовались духом Петровских фантазий, обнаруживает себя формой подчинения реальной действительности этому вымыслу, острым желанием того, чтобы тою же слезой над этим вымыслом обливались и все остальные.
В его виртуальном мире сражались победоносные армии и непобедимые армады, в его иллюзорной действительности потрясались пределы вселенной… поэтому-то она и наполнялась Генералиссимусами и Императорами. Неудержная фантазия честолюбивого соискателя пьедестала, когда-то в детстве начавшаяся игра теперь уже задавала тон объективной реальности. Реальность должна была подчиниться фикции, чтобы придать ей статус действительного бытия.
Итак, мы видим, что Петр рисовался самому себе героем, достойным легенд. Властелин огромного государства, пропагандистского воспреемника оставшейся в веках славы Рима и Константинополя – в мысленно представляемом ряду европейских монархов, он, казалось бы, должен был занимать одно из ведущих мест. К тому же и слава победителя турок – еще не умершей угрозы для всего христианского мира – должна была способствовать утверждению этих притязаний как чего-то вполне обоснованного.
Казалось, вся Европа должна была замереть в немом восхищении от появления этого юного героя. Слишком опереточно его «инкогнито», слишком театральна его роль простого корабельного плотника – а значит, как и все театральное, все это прямо рассчитано на благодарные аплодисменты. И каково же должно было быть разочарование, когда никто – никто! – не стал рукоплескать при его появлении. Триумфа не получилось, и лишь гордыня (или то, что называется хорошая мина при незадавшейся игре) требовала до конца доиграть мелодраматическую его роль на корабельных верфях Европы.
Вдумаемся, как должен был вести себя потерпевший такое поражение в общем-то совсем не глупый и к тому же привыкший быть на виду человек, и мы обнаружим, что поведение Петра было если и не до конца, то достаточно последовательным. Ведь ему только и оставалось, что делать вид, будто ничего другого у него и в мыслях не было, будто целью его маскарада было отнюдь не торжественное разоблачение с последующим апофеозом, а инкогнито как таковое, действительное нежелание быть узнанным. Делать вид, будто он и в самом деле покинул Россию только затем, чтобы скромно учиться у Европы…
Годы военных унижений, конечно, не пройдут бесследно и для Петра, и он еще будет учиться великому мужеству терпения копить мелкие позиционные преимущества (и, нужно отдать ему должное, многому научится). Но все это будет потом, сейчас же с бешеной жаждой какого-то немедленного триумфа долго в подобной роли ему не продержаться, и любое мало-мальски серьезное изменение обстановки там, дома, было просто необходимо, ибо только оно могло спасти от пыточной дыбы затянувшегося позора.
Восстание стрельцов, по-видимому, и стало таким избавлением от пережитого унижения: Петр был достаточно прозорлив, чтобы увидеть то, что не хотят видеть многие историки – надменная Европа обнаружила в нем простого варвара. Если кто-то в европейских дворах и был поражен, то это имело род поражения при виде украшенного перьями дикаря в полной боевой раскраске. «Третий Рим» (не тот, духовный, о котором говорил Филофей, но светский воспреемник несмертной славы первого) оказался существующим только в его собственном воображении, и он, повелитель этого мнимого империя, сам оказался мнимой величиной. Не этим ли унижением объясняется та, едва ли не звериная, жестокость, с какой он расправился с восставшими стрельцами?
Еще можно было бы смириться с тем, что в нем так никто и не захотел увидеть того героя, каким он рисовался самому себе. Хуже, намного хуже было другое: впервые Петр воочию увидел подлинный блеск европейских дворов, ощутил ту огромную дистанцию, которая отделила его «потешную» империю от действительно цивилизованного мира – подлинного преемника славы и культуры античной вселенной.
Да, хуже! Хуже потому, что преодоление этой дистанции отныне становится основной, если не сказать единственной, целью всей его жизни. Создание вокруг себя точно такой же пышности и блеска, которыми окружено бытие его высокомерных «родственников» – вот смысл его царствования, но в чем был действительный блеск европейской цивилизации – вопрос, по-видимому, так и оставшийся нерешенным Петром.
Да, Петр и в самом деле был достаточно умен. Более того, для своего времени он еще был и совсем неплохо образован: прикладная математика, астрономия, военная история, фортификация, кораблестроение – вот далеко не полный перечень дисциплин, в которых легко и свободно ориентировался будущий император. Добавим сюда и практическое знание иностранных языков… Но отметим и другое. Все его образование сводилось к чисто прикладным наукам, т е. к тому, специализироваться в чем в те поры и простому-то дворянину зачастую было зазорно. Между тем, даже самые начала гуманитарии и обязательных – покровительствуемых всеми дворами Европы – искусств были совершенно чужды ему. Пользуясь сегодняшним жаргоном, Петра можно было бы назвать типичным «технарем», причем не в самом лучшем понимании этого слова (заметим, что в лексиконе гуманитария это определение звучит почти как ругательство). Иначе говоря, человеком, если и не бесконечно, то во всяком случае неопределенно далеким от подлинной культуры. Прекрасно ориентирующийся в мире материальном, в сфере вполне осязаемых вещей, он на поверку временем оказался совершенно беспомощным там, где властвуют тонкие метафизические материи, где требуется не столько обладание конкретными знаниями, сколько владение культурой.
Естественное наверное для любого воспитанного на чисто прикладных знаниях человека вечное стремление сводить все непонятное и расплывчатое к четко классифицируемым простым и однозначным, обладающим едва ли не осязательной силой, представлениям так и осталось для Петра единственно возможным способом мышления. Заметим и еще одно: чем более образован такой «технарь» или чем более высокое положение в социальной иерархии он занимает, тем с большей непримиримостью относится он ко всему трансцендентному. Лишь то, что может быть легко переведено на язык конкретных представлений, получает для таких людей статус непререкаемой истины, неуловимость же метафизических сущностей нередко диагностируется ими как простое отсутствие подлинных знаний, едва ли не как невежество!
Именно на стадии такого – «ручного мышления» навсегда остановилось духовное развитие Петра. Именно это «ручное мышление», по-видимому, и лежало в основе того, что явственно различимая внешняя форма, осязаемая поверхность явлений способна была полностью заслонить от него подлинную их сущность.
Не этим ли объясняются такие, до дикости нелепые, вещи, как насильственное внедрение «немецкого» платья, святотатственное для русского человека посягательство на образ Божий обрезанием бород и абсолютное подчинение церемониалу далеких от европейских балов первых петровских ассамблей, где и полы-то нередко застилались соломой для того, чтобы не испортить их пьяными испражнениями гостей…
Увиденное в Европе наглядно показало Петру каким должно быть окружение настоящего героя, какой вид должна иметь подвластная ему вселенная. Блеск заграницы ослепил Петра, до той поры вероятно и не подозревавшего, что Европа может настолько превосходить ту среду, в которой вырос он сам. Отголоски претензий этой среды на духовное наследство двух первых Римов легко могли породить в Петре иллюзию причастности доставшейся ему России к кругу избранных Богом держав; органическая же неспособность к восприятию сокрытого препятствовала осознанию условности подобных притязаний. Вот и там, в манящей загранице, отсутствие культуры не позволило разглядеть за блестящей формой дворцовых церемониалов, этой изящной и полированной поверхностью, подлинной пропасти, все еще разделявшей все еще варварское государство и действительно цивилизованный мир. Только глубокое и непроходимое невежество могло лежать в основе убеждения в том, что стоит только обрить русских дворян, научить их курить табак, танцевать чужие танцы – и дистанция отделившая Европу от России, будет едва ли не тотчас же преодолена. А ведь именно этим путем шел Петр…
Впрочем, что-то подсказывало и ему: немедленное преображение всей окружающей его среды невозможно, нужно что-то гораздо более серьезное и глубокое. Видно поэтому он и гнал молодых людей за границу, учиться у Европы уму-разуму. Но чему должны были учиться, если и обойденные просвещением, то отнюдь не обделенные сословным чванством русские дворяне? Ведь еще и сегодня, несмотря на десятилетиями внушавшуюся нам мысль о том, что любой труд почетен, далеко не любая деятельность вызывает у нас уважение. Для дворянина же начала восемнадцатого века учиться ремеслу садовника и повара было унизительно. Но приходилось учиться и этому – с царем не поспоришь (ну, а с Петром и тем более).
Что это – преодоление сословных предрассудков?
Едва ли, ведь такое преодоление само по себе требует большой культуры. Скорее и здесь сказалось отсутствие таковой, сказалось простое невежество самодержного русского царя. Необходимость учиться у заграницы стала очевидной и для Петра, но, обладавший способностью лишь к конкретно-прикладному мышлению, он мог осознать ее только как потребность в чисто прикладном, немедленно реализующемся в чем-то осязаемом, знании – единственной духовной реальности, которая только и была доступна самому Петру, которая только и существовала для него.
Петр сумел разглядеть лишь видимость подлинной европейской цивилизации и, поставив перед собой целью сравняться с Европой, он по сути дела создавал вокруг себя точно такую же видимость – по образу и подобию, когда-то представшему перед ним. Проникнуть же в существо отличий, разъединивших просвещенную заграницу и все еще спящую Россию, ни там, в европах, ни здесь, дома, он так и не сумел.
Развитое честолюбие, возведенное в математическую степень его невежества, толкнули его в пожизненное состязание, подобное тому, в котором исходили силы людоедки-Эллочки. Никогда не дремавший в нем демон величия нашептывал, что и он достоин точно такого же блеска, который исходит от европейских монархов, и не подражание им составляло содержание той титанической борьбы, которую вел Петр на протяжении всего своего царствования, – в его собственных глазах это была борьба на равных. Но, подобно упомянутому персонажу, он всегда был предрасположен видеть шанхайского барса в крашенном зеленой акварелью мексиканском тушкане.
Отсутствие ли потребности, простое ли нежелание отличать реальную действительность от вымысла, а может, и просто подавленная воспаленным воображением способность трезво оценивать тот мир, в котором он жил, были причиной того, что он так и не научился не только управлять им, но и вообще правильно в нем ориентироваться. Бешеная энергия неуемного императора была в сущности ненаправленной. Рождаемые ею указы, сегодня предписывавшие одно, завтра – другое, послезавтра отвергавшие и первое и второе, но так и не восходившие не только к подлинному постижению объективных потребностей общественного развития, но зачастую и просто к здравому смыслу, сплошным потоком лиха, как из пресловутого ящика Пандоры, изливались из его канцелярии, но больше лихорадили дело, нежели направляли его. Стихийный полет «государственной» мысли вечно игравшего во что-то «великое» вечного соискателя пьедестала был исполнен каким-то глубоким смыслом только в его собственном воображении. Для подданных же этот смысл чаще всего был сокрыт. И во многом именно благодаря этому обстоятельству замыслы Петра представали в глазах его окружения, воспитанного на столетиями становившейся идее монархизма, как нечто, едва ли не равновеликое Провидению.
На Руси издавна почитали юродивых, в их безумии искали сокровенное, причастное к божественным тайнам. Почитание недоступных смертным петровских начинаний носило род именно такого поклонения…
Но если бы все сводилось только к безобидной игре пылкого воображения задержавшегося в своем развитии соискателя императорской короны. Настоящая трагедия заключалась в том, что на воплощение химер, порождаемых петровской фантазией, направлялись все ресурсы государства, только только начинавшего выходить из состояния варварства. Но страшней всего было то, что Петр так никогда и не задумался о подлинной цене, которую пришлось заплатить России за все его «виктории». Как ребенок, готовый отдать за понравившуюся ему безделушку все, что угодно, так и не узнавший подлинной стоимости вещей, Петр видел перед собой только свое.
Вдумаемся. Длившаяся долее двух десятилетий война завершилась, наконец, победой. Но сказать, что эта победа была пирровой, значит, не сказать еще ничего. Ценой этой победы едва не оказалось полное уничтожение не только русской государственности, но и самой русской нации. Россия знала лихолетье татарского нашествия, испытала трагедию опричнины, холокост большевизма… – петровская реформация стоит в этом же кровавом ряду.
Война во все времена была страшна, и нарядный ордер баталии способен обмануть лишь мальчишек. Кутузов, выдавливая Наполеона из российских пределов, практически уничтожил свою армию, даже не вводя ее в бой. Но в этом нет решительно ничего, пятнающего его память: собственно боевые потери войск вообще никогда не превышали считанных процентов – армии выкашивали лишения походного быта и скученность людей. Между тем Кутузов не искал языческих земных триумфов; уже помышлявший о том, каким он предстанет перед Богом, выдвинутый самой нацией полководец умел считать людей. Но если и он не смог предотвратить ни практическую гибель вверенных ему войск, ни опустошение края, то что говорить о ни к кому не знавшем пощады Петре.
В сущности единственным спасением России было то обстоятельство, что ей противостояла держава, ресурсы которой истощились прежде российских. Но как бы то ни было, еще несколько лет такого противостояния и становой хребет государства был бы окончательно переломлен.
Страшным было и то, что увлекаемый полетом собственных фантазий Петр был способен «единым манием руки» уничтожить все плоды с таким трудом и болью достававшихся побед.
Действительно. Мы как-то привыкли обвинять в авантюризме всех тех, кто пытался с мечом идти на нас. Авантюристом был Карл, авантюристом был Наполеон, авантюристом был Гитлер… (Непонятно, правда, в чем именно заключался этот их авантюризм, если в его обоснование до сих пор не кладется практически ничего теоретически более весомого, нежели априорное постулирование принципиальной невозможности военной победы над Россией. А что под этим постулатом? Скифские просторы и скифское же вероломство? Но тогда все разговоры об авантюризме унижают, скорее нас самих. Какая-то богоизбранность русской нации? Но и это объяснение не возвышается над уровнем умственного развития того французского вояки, имя которого дало название самой крайней форме национализма.) а кем был сам Петр? Ведь его неспособность критически посмотреть на самого себя не раз ставили Россию на грань катастрофы.
Вспомним.
Победа под Азовом. Строго говоря, ею венчались многолетние труды и русской дипломатии, и русского оружия. Без усилий его предшественников эта – первая петровская виктория была бы попросту невозможна. Но, как бы то ни было, досталась она Петру. И вот, опьяненный ею, он уже готов штурмовать небо. Однако вызов, неосмотрительно брошенный Швеции, обернулся немедленным разгромом. Как это ни обидно для нашего национального самосознания, но нужно признать: во многом только глубина позора, понесенного русским оружием, спасла Петра от быстрой капитуляции. Первая Нарва сразу же показала его сопернику, что на русскую армию не стоит тратить больших усилий…
Карл надолго увяз в Польше – и снова можно бросать вызов хоть самому небу. Но если строго, то чем еще (только теоретически более состоятельным, нежели полное отсутствие стратегического мышления у блистательного тактика Карла) были обеспечены петровские победы в Прибалтике? Да, ряд побед над малочисленными гарнизонами изолированных крепостей отдал в руки Петру целый край. Но едва не случившаяся катастрофа под Гродно наглядно показала, что и здесь все еще висит на волоске.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































