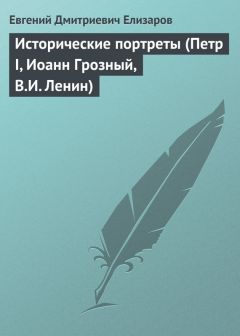
Автор книги: Евгений Елизаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Победа при Лесной, звездный час Полтавы, окончательная точка, поставленная Меншиковым на переправе у Переволочной, – и вновь катастрофа: Прут!
Прутское пленение (кстати, много ли примеров знает история, когда в плен попадает целая армия во главе с самим монархом?) уничтожило результаты вековых усилий России, пробивавшейся к южному морю. И где гарантия в том, что жажда еще одного несмертного подвига не уничтожила бы (вот так же, мимоходом) и плоды полтавской победы?…
3
Нет, не гений, не легендарный герой творил историю достойной лучшего страны. Величие Петра было величиной мнимой: заурядный обыватель, вдруг возомнивший себя античным героем, – вот кем он был в действительности.
И вместе с тем в истории России произошел-таки один из крупнейших переворотов, когда-либо пережитых ею. Нет ли здесь противоречия? Нет, нисколько. Правда, объяснение может показаться довольно схоластичным, а следовательно, далеким от жизненной реальности, и все же философские истины – неоспоримы.
Известно, что не только новое содержание предполагает наличие какой-то новой формы, но и новая форма с необходимостью влечет за собой изменение старого содержания. Может быть, это и парадоксально, но это действительно так: стоит обрядить русского мужика в короткое «немецкое» платье и поставить его в строй, душой которого является отнюдь не славянская размягченность и самосозерцательность, но неумолимый ранжир и жесткая дисциплина, и он перестает быть тем, кем он был.
Но есть и другое, куда более фундаментальное, объяснение свершившихся перемен.
Мудрец сказал: если факт противоречит теории, то тем хуже для факта, и был во многом, очень многом прав. Но в этой его правоте одновременно и величайшее уважение теории, и глубокое почитание факта. Не знавший этой истины Петр (здесь мы абстрагируемся от смещений хронологического ряда) руководствовался тем не менее именно ее до предела вульгаризированной ипостасью: если реальность не соответствует вымыслу, то тем хуже для самой реальности. Глубочайшее презрение к ней, стремление немедленно подчинить ее химерам собственной фантазии обернулись для России одним из величайших в ее истории несчастий. Страну к переменам, быть может, надлежит вести как невесту – Петр погнал ее пинками кованного ботфорта. Разрушительный смерч петровских начинаний, бушевавший над страной три десятилетия, вызвал настоятельную необходимость приспосабливаться к нему как к какой-то грозной климатической аномалии, внезапно поставившей на грань катастрофы существование всего живого. В результате резкого изменения всего общественно-исторического «климата» обреченным на неизбежное вымирание оказалось все, что не сумело перестроиться. Причем под угрозой оказались не только социальные институты, веками существовавшие в России: по свидетельству историков жертвы, понесенные страной в ходе петровской реформации, вполне сопоставимы по своим масштабам с жертвами, понесенными в ходе гражданской войны и сталинского террора.
Господь сказал, что за Иордан перейдут только те, кому чужда ностальгия по Египту. Но Он был милостив к своему народу даже тогда, когда тот впадал в грех неверия. Между тем, Петр не знал жалости, и смерч петровских реформ попросту истребил тех, кому в Синайской пустыне было отпущено умереть своей смертью, не торопимою никем. Оставшееся же в живых попросту не могло не эволюционировать. Впрочем, много правильней здесь было бы сказать «революционировать», ибо, дарованного Израилю, времени, необходимого для безболезненного перехода в новое общественно-историческое состояние, России не было отпущено: нетерпение задержавшегося в своем нравственном развитии самодержца стремилось опередить самое время.
Но мы сказали «эволюционировать» – и, по-видимому, в этой оговорке тоже есть своей смысл (хотя это и большой теоретический грех использовать для объяснения исторических процессов термины и понятия естественного отбора). Но если и пользоваться терминологией эволюционистской теории, то много правильней было бы обратиться к идеям Ламарка, нежели к основоположениям дарвинизма. Ведь (вспомним основные постулаты дарвиновской теории) эволюционный процесс – начало, в принципе ненаправленное. А разве не оскорбительно для целой нации осознавать себя влекомой Бог весть куда какой-то ненаправленной стихией. Разве не оскорбительно для целой нации сознавать, что гекатомбы и гекатомбы были принесены в жертву неизвестно какому божеству.
Может быть и поэтому людская молва – и историческая традиция – наделяла Петра нечеловеческими свойствами: Антихрист – это ведь тоже про него, про него сказано. Человек имеет право знать, во имя чего жертвуют им. А если уж и этого права его лишают, то хотя бы тешить себя иллюзией того, что принесенные им жертвы были не напрасны, были нужны, имели хоть какой-то смысл, пусть даже и сокрытый от большинства, но доступный гению.
На протяжении всего петровского царствования русский человек был начисто лишен этого права знать. В самом деле, химеры миропомазанного вымысла могли существовать как реальность только для самого Петра. И может быть это род своеобразной психологической защиты подданного – наделять венценосного узурпатора какими-то сверхчеловеческими качествами. Если уж и не дано знать достоверно, то хотя бы утешить себя сознанием того, что смысл этот все-таки был! – просто он был слишком высок, чтобы его смог постичь конечный разум простого смертного.
Отсюда и пресловутое величие Петра, каким бы этическим знаком оно ни наделялось: знаком ли гения всех времен и народов, знаком ли Антихриста…
Именно здесь скрывается тайна (отнюдь не только!) петровского феномена. И понять ее можно лишь постигнув одну не простую истину: действительная история России первой четверти восемнадцатого века – это не процесс последовательного воздвижения того величественного пьедестала, на который всю свою жизнь карабкался мечтающий о лаврах императора Петр, но история скрытого от взгляда исследователя приспособления миллионов и миллионов подданных к стихии царского честолюбия, история простого их выживания в условиях обрушившейся на Россию чумы петровских начинаний. Важно понять: рождение той новой России, которая вдруг явилась миру, властно заявив о своих правах на равное участие в европейских делах уже на полях Семилетней войны, – это не результат какой-то направленной инициативы проникшего в тайны исторических судеб титана, но простая стихийно складывающаяся результирующая слепого приспособительного процесса.
Да, действительно, первая четверть восемнадцатого – это время стремительного становления каких-то новых социальных институтов, если угодно, даже новых социальных инстинктов. Но становление это происходит стихийно, само по себе, в сущности совершенно безотносительно ко всем петровским начинаниям, а в чем-то, может быть, и вопреки им. Впрочем, это и неудивительно: выжить в условиях столь мощного давления такого «мутагенного фактора», как петровское честолюбие, можно было только создав эти новые социальные органы, только сформировав новые исторические инстинкты. Нет, не петровская мысль воплотилась в них, – они конституировались сами. Действительная цель всех петровских нововведений и подлинная история России – две вещи «несовместные» друг с другом. Это полностью трансцендентные по отношению друг к другу начала.
Но вернемся к тому, с чего мы начинали. Да, самоотчуждение человека, о котором мы говорили выше, может быть и вполне благодетельным. Та нравственная бездна, на краю которой помутился разум Ивана Карамазова, способна поглотить многих, как она поглотила даже Павла Смердякова. Но все же спасения в нем нет. Да и не может быть, ибо иным полюсом отчуждения как раз и предстает прямое порождение всех этих Иоаннов Грозных и Петров Великих, всех этих Сталиных и Пол Потов. Рано или поздно такое отчуждение выливается в прямое порождение человеком своих собственных палачей.
Парадоксально, но факт: не только холуйствующая мысль дипломированных и недипломированных лакеев, но и людская молва наделяли всех этих соискателей пьедестала каким-то демоническим, едва ли не надмировым величием. Но были ли они на самом деле великими? Не воля ли миллионов и миллионов, привычно отчуждаемая в пользу одной (зачастую преступной) воли – подлинное имя этому величию?
Человеку свойственно творить богов по образу и подобию своему. Еще к античности восходит мысль о том, что боги – суть прямое порождение человека, и выкристаллизовавшееся в прошлом столетии заключение о том, что Бог – это концентрат отчужденных от человека и доведенных до степени абсолюта человеческих свойств сформулировало то, что носилось «в воздухе» долее двух тысячелетий.
И здесь, в рассматриваемом нами предмете, проявляется точно такое же отчуждение: доведенная до степени Абсолюта воля простых смертных, которые в сущности и являются подлинными субъектами Большой Истории, самоотчуждаясь от них, возрождается в ими же создаваемом кумире. Ничто не обращается в ничто, равно как и ничто из ничего не возникает – гласит старая философская истина. Так и здесь: отнюдь не из ничего возникает потрясающее разум обывателя величие несмертного героя, отнюдь не в ничто обращается отчуждаемый миллионами суверенитет их собственного «Я»…
Итак, есть два предела: за одним – вселенская тяжесть абсолютной ответственности не только за себя – за Род Человеческий. За другим – абсолютное бесправие перед в сущности фальшивыми идолами. Но вовсе не между ними пролегает магистральная линия восхождения человеческого духа. Действительная цель человеческого бытия (если она вообще есть эта конечная цель) лежит отнюдь не в этом створе, который образуют очерченные здесь пределы. В чем конкретно состоит подлинное назначение человека, известно, пожалуй, только Богу, но уже сегодня a posteriori шеститысячелетнего существования человеческой цивилизации – можно категорически утверждать, что единственным ориентиром на пути достижения этой, неведомой нам, цели является преодоление той нравственной бездны, бегство от которой рано или поздно рождает палачей, принятие на себя всей тяжести неделимой абсолютной ответственности.
В сущности это и есть единственный путь к полной свободе, ибо именно свобода – настоящее имя этому состоянию: «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; Для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобресть чуждых закона; Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.»
Часть II
ИОАНН ГРОЗНЫЙ
1. Воцарение
В 1668 году молодой Людовик XIV явился в Парижский парламент и собственноручно вырвал из книги протоколов все листы, относившиеся ко времени Фронды. Того страшного для него времени, когда во Франции шаталась королевская власть, когда он сам был вынужден бежать из ставшего ненавистным ему «гнезда мятежей» Парижа. Времени, навсегда оставившего в его памяти не только хорошо знакомое и всем претендентам на королевский престол, и многим обладателям короны чувство страха, но и неслыханное для венценосцев чувство голода.
Напомним. Ему еще не исполнилось и пяти лет, когда скончался его отец Людовик XIII. Королева-мать – та самая Анна Австрийская, бриллиантовые подвески которой через два столетия составят сердцевину самой блистательной интриги, может быть, самого знаменитого европейского авантюрного романа, – вручила государственную власть кардиналу Мазарини, великому преемнику великого Ришелье. Долгое время Францией будет править первый министр, его энергия, его авторитет совершенно заслонят собой и личность короля, и саму корону. Но в 1661 году, когда Людовику исполнится 22 года, Мазарини отойдет в иной мир, и молодой король заявит, что отныне он «сам станет своим первым министром».
С этого времени он, прямая противоположность своего отца, Людовика XIII, уже никогда не выпустит власть из своих рук. Отныне именно он выходит на первый план и продолжает оставаться на авансцене французской истории более полувека до самой своей смерти, последовавшей в 1715 году. Для многих историков сама его личность до некоторой степени заслонит собой историю Франции тех лет, и еще долго то время, на которое пришлось его царствование, будет называться «веком Людовика».
Шаг за шагом на протяжении шестидесятых годов семнадцатого столетия он будет последовательно укреплять и свою личную, и королевскую власть вообще, и, наконец, в 1668 году в парижском парламенте, согласно историческому преданию, на весь мир прозвучат адресованные парламентским чиновникам знаменитые, ставшие исповеданием европейского монархизма, слова: «Вы думали, господа, что государство – это вы? Государство – это я».
Говоря современным языком, это был государственный переворот. Ведь этим вошедшим в историю актом закреплялся переход к принципиально новому для Франции образу правления. Долгое время до того королевская власть была вынуждена оглядываться и на могущественных феодалов, не желавших мириться с их подвассальным отношением к короне, и на социальные институты, представлявшие интересы слоев, которые впоследствии составят собой так называемую буржуазию. Но все когда-то дерзавшие бросать вызов королю бароны уже были приведены к покорности, а вот теперь и возможность парламентов ограничивать его права сокращается до абсолютного по меркам Европы минимума.
Правда, это еще вопрос, звучали ли подобные слова на самом деле. Ведь вовсе не секрет, что многие остающиеся в памяти поколений афоризмы и лозунги в действительности рождаются вовсе не теми, кому они приписываются, а людской молвой. Способные творить историю фигуры далеко не всегда отличаются красноречием, да и обстоятельства, обрамляющие собой поворотные для мировой истории события, очень редко способствуют рождению «величием равного Богу» глагола, способного «жечь сердца людей». (Говорят, что даже не убоявшийся взойти на Аркольский мост Наполеон был близок к обмороку на второй день переворота, 19 брюмера 1799 года, когда незадавшаяся речь в Совете пятисот чуть не привела к объявлению его вне закона.) Впрочем, ничего плохого в таком приукрашении когда-то произошедших событий нет. И в самом деле все значимые для поколений факты воспитывают честолюбивое юношество куда как лучше, если они маркируются не какими-то косноязычными речениями, но возвышающимся до символа словом. «Гвардия умирает, но не сдается!», «Мертвые сраму не имут!», «Велика Россия, а отступать некуда!» – что бы мы помнили о свершенных когда-то подвигах, когда б не эти слова?
В общем, не так уж и важно, кто в действительности произнес то, что приписывается Людовику XIV. Важно другое – то, что и вправду прозвучало в тот день в стенах парламента, было своеобразной декларацией, которая обозначила собой весьма существенные перемены, произошедшие во французском обществе.
Но повторим, все это произойдет только в 1668 году.
А между тем еще за целое столетие до этого события, 16 января 1547 года, в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство великого князя Иоанна IV. Согласно обряду в тот день на него были возложены знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапка Мономаха.
После приобщения Святых Тайн и обряда миропомазания новый государь принял новый для того времени титул царя – и это тоже не осталось не услышанным историей.
Дипломатический церемониал и протокол – «дело тонкое», и никакое изменение в принятом титуловании высших государственных лиц никогда не происходит без достаточных на то оснований. Ведь пышность титула прямо пропорциональна величию той материальной силы, которая в решающий момент спора может быть приведена в действие его носителем, и никому не позволено посягать на эту незыблемую пропорцию. Впрочем, это соотношение справедливо не только в политике, – в той или иной форме существующая здесь зависимость проявляется в любой сфере человеческого бытия. «Табель о рангах» не позволено нарушать никому; лейтенант не вправе именоваться полковником, простой ассистент – профессором, а мелкий жулик – вором в законе. Поэтому когда князь – пусть даже и великий – вдруг начинает именоваться царем, то чуткое ко всем геральдическим новациям ухо явственно различает обнаруживающееся здесь изменение геополитического статуса подвластной ему державы. А это обстоятельство уже не может быть игнорировано профессионалом. Словом, свершившаяся перемена могла означать собой только одно – далеко идущие претензии все еще таинственной для многих Московии, а значит, должна была повлечь за собой весьма серьезные дипломатические последствия.
Новозаявленная претензия на царское достоинство давала возможность русскому государю занять существенно иную позицию в дипломатических сношениях со всеми государствами Западной Европы. Ведь великокняжеский титул до того переводили там как «принц» или даже «великий герцог». А значит, его носитель не мог восприниматься иерархически равным другим монархам, он стоял на более низшей, нежели королевская, ступени. По воззрениям тех лет, только римско-германские императоры могли даровать кому бы то ни было королевское достоинство. Впрочем, это право присвоили себе также и папы: известно, что папа прислал королевский венец Даниилу Романовичу Галицкому. По существовавшей тогда классификации короли считались ниже императора, но выше великих герцогов, герцогов и уж тем более князей (имеются в виду «просто» князья, а не «великие», подобно русским), графов, баронов. Символически все они были подвластны более высокому звену этой единой иерархии. Средневековый мир – это строго систематизированное и упорядоченное образование, нечто вроде пирамиды, каждая ступень которой обязана была подчиняться вышестоящей. Из далекой же Московии одновременно с новым титулом в дипломатический оборот входило и новое слово «самодержец», которое категорически исключало любую форму и степень вассалитета.
Сопряженный с абсолютным отрицанием даже символической зависимости от кого бы то ни было, новый титул устоявшегося лексического аналога в других языках не имел. Поэтому первое время его или совсем не переводили, или – неслыханная вещь – переводили как… «император». А вот это уже не могло не сказаться и на статусе мало кому в Европе того времени известной державы: дисциплина слова со времен Рима была одним из определяющих качеств западного менталитета.
Не составляло большого секрета, что впервые вводимое в оборот поименование шло от Византии. «Царь» – это ведь просто усеченная словоформа Цезаря.
Правда, Н.М.Карамзин оспаривает это: «Сие имя не есть сокращение латинского Caesar, как многие неосновательно думали, но древнее восточное, которое сделалось у нас известно по славянскому переводу Библии и давалось императорам византийским, а в новейшие времена ханам монгольским, имея на языке персидском смысл трона или верховной власти; оно заметно также в окончании собственных имен монархов ассирийских и вавилонских: Фаллассар, Набонассар и проч.» Но, думается, пришедшее к нам из империи, наследие которой ассимилировало в себе культуру не одного только Востока, но и дух Запада, это слово, в смысловой своей ауре, как в капле воды, отразило в себе память не об одних только ассиро-вавилонских владыках, но и о римских императорах. Больше того, для основной массы, то есть для тех, кто, в отличие от Карамзина, не обладал глубокими филологическими познаниями, оно – в первую и, пожалуй, единственную очередь – вызывало в сознании ассоциации именно с римским наследием. Поэтому в умах наверное подавляющего большинства это понятие восходит к имени римского консула.
После кончины Цезаря цезарями стали именоваться все властители Рима, это великое имя стало общепризнанной формой утверждения преемственности его громкой славы, составной частью их державного титула. Но принявшая крещение Европа отказывалась не только от языческих богов, но и от языческих же кумиров. Поэтому и в титулование венценосных особ со временем входит имя уже совсем иного – прославившегося на стезе христианизации Европы – героя. Имя Карла, основателя Священной Римской империи заменяет собой громкое имя Цезаря, и однопорядковое с титулом царя вошедшее в наш лексический обиход слово «король» несет в себе отзвук именно его имени. Византия же, даже приняв христианство, не порвала со своим прошлым и бережно хранила все, оставшееся в нем (может быть, именно это обстоятельство впоследствии, когда угроза турецкого завоевания вызвала исход греческой интеллигенции, и сделало возможным Ренессанс, возрождение погребенных под наслоениями средневековья пластов великой культуры), поэтому имя Цезаря продолжало жить.
Между тем Византия всегда была империей, причем когда-то даже такой, что и мировое господство не могло быть ей в тягость. Но сложилось так, что исторические судьбы Восточной и Западной Европы давно уже разошлись.
Византия – это восточная часть Римской империи, которая в начале Средних веков пережила и падение самого Рима, и утрату западных провинций. Она просуществовала вплоть до завоевания Константинополя (ее столицы) турками в 1453 году. Был период, когда она простиралась от Испании до Персии, но основу ее всегда составляли Греция и другие балканские земли, а также Малая Азия. Вплоть до середины XI века она была самой могущественной державой всего христианского мира, а Константинополь – крупнейшим городом всей Европы. Византийцы называли свою страну «Империей ромеев» (греческое слово «ромей» означает римлянин), однако она чрезвычайно сильно отличалась от Римской империи времен Августа. Она сохранила римскую систему управления и римские законы, но по языку и культуре была, скорее, греческим государством, имела монархию восточного типа, а самое главное – ревностно хранила христианскую веру. Веками Византийская империя выступала как хранительница греческой культуры. Кстати, благодаря именно ей к цивилизации приобщились и славянские народы.
Непреодолимые отличия сохранились и после того, как Запад принял христианство. Делались, правда, попытки достигнуть компромисса между Римской и Восточной церквами. Одно время даже казалось, что раскол преодолен, но все же Рим и Константинополь продолжали отдаляться друг от друга в вероучении, богослужении и церковной организации. Прежде всего, Константинополь возражал против притязаний папы на главенство над всей христианской церковью. Периодически возникали раздоры, приведшие в 1054 к окончательному расколу (схизме) христианской церкви на Римско-католическую и Восточную Православную.
Различия культур (а любая идеология – это неотъемлемая часть национальной культуры) способны порождать самые глубокие разногласия, больше того – вражду. Поэтому нет ничего удивительного в том, что долгое время, несмотря на прямое родство, они воспринимали друг друга с большой неприязнью. В 1204 году крестоносцы уже не испытывали, наверное, никаких угрызений совести, когда штурмовали Константинополь, и с чистым сердцем грабили его, как какую-нибудь вражескую твердыню, которую жестокий военный обычай тех лет на время отдавал в полную власть победителя. Кончилось же тем, что Запад вообще отказал Византии в помощи, когда той угрожал общий и для него самого враг. Известно, что инерция турецкой экспансии будет продолжаться еще долгое время, ее остановят только под стенами Вены. Но тогда, в середине XV столетия, восторжествование этого врага на Западе воспринималось куда меньшим злом, чем существование угасающей державы. Впрочем, и в самой Византии многие, включая даже высших военачальников, предпочитали видеть на Босфоре турецкую чалму, нежели папскую тиару.
Все это способствовало тому, что единая сложившаяся к середине XVI века, то есть ко времени воцарения Иоанна, иерархия западных держав как бы исключала из себя это, казалось бы, братское, но все же столь чужое по духу государственное образование. Так и сегодня самосознание европейца все еще исключает из Европы большую часть того, что на самом деле обнимается единым раскинувшимся от Атлантики до Урала континентом. Поэтому всегда считавшийся только с самим собой западный мир и в те поры знал лишь одну – основанную Карлом Великим Священную Римскую империю. К тому же Византийская империя еще задолго до падения Константинополя утратила былое величие, а с его захватом и вообще исчезла с политической карты.
Строгая иерархия всех структурных образований, формировавших пеструю политическую карту Европы того времени, – это вовсе не дань бездушной бюрократии. В ее основе всегда лежало общее инстинктивное стремление народов к порядку, к обеспечению своей собственной безопасности. В образующейся же благодаря этому охранительному инстинкту пирамиде государственных формирований империя занимала вершинное место, которое возвышало ее над всеми княжествами, герцогствами и королевствами. Известно, что даже символы государственной власти были разными, и корона герцога обязана была отличаться от короны короля, корона же последнего – от императорской. Своя иерархия геральдических признаков соблюдалась и здесь. Кстати, пришедшая на смену шапке Мономаха корона российских монархов содержала в себе все то, что должно было возвышать ее над всеми королевскими венцами.
Таким образом, для дипломатического протокола того времени новый титул московского государя означал собой отнюдь не пустое сотрясение воздуха. Принявший его русский самодержец тем самым как бы заявлял о своем равенстве уже даже не с королями, но с самим императором Священной Римской империи.
Правда, тогда, в 1547 году едва ли кто на Руси мог всерьез замахнуться на политическое лидерство среди европейских держав. В лучшем случае в те поры речь могла идти лишь об идеологическом верховенстве. И к этому времени уже получала широкое распространение концепция «третьего Рима». Москва и в самом деле всерьез претендовала на переятие от Константинополя духовной власти над всем православным миром. Представление о том, что центр истинной веры из Константинополя (второго Рима) перешел в Москву, впервые было высказано в посланиях старца псковского монастыря Филофея. Кстати, отчасти эти претензии какое-то время поддерживались и Западом. Дело в том, что римские папы были заинтересованы в том, чтобы привлечь московских государей к совместной с европейцами обороне от турок, и как бы в обоснование этого провозглашалась мысль о том, что русские цари – прямые наследники Византии.
Словом, на деле перемена титулования означала собой всего лишь констатацию наконец обретенной независимости русского государства от любой внешней силы – и не более того, лишь окончательную ликвидацию всех следов былой его слабости. Введенное в дипломатический оборот одновременно с новым титулом русское слово «самодержец» и прозвучало тогда именно как декларация полного суверенитета русского государя. Но все же услышалось в новых словах и нечто такое, о чем в Европе осмысленно заговорят еще не скоро. Абсолютизм – вот имя той материи, в правовое существо которой государственно-политической мысли еще только предстояло проникнуть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































