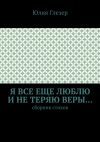Текст книги "Со мною вот что происходит…"
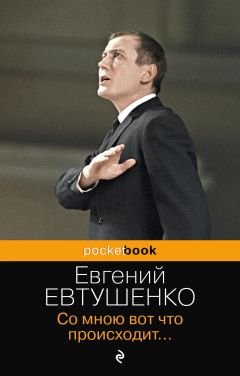
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
смотрели в окна:
«Вскоре будет море!»
Одни,
схватив товарищей за плечи,
свои припоминали
с морем встречи.
А для меня
в музеях и квартирах
оно висело в рамках под стеклом.
Его я видел только на картинах
и только лишь по книгам знал о нем.
И вновь соседей трогал я рукою,
и был в своих вопросах
я упрям:
«Скажите, – скоро?..
А оно – какое?»
«Да погоди,
сейчас увидишь сам…»
И вот – рывок,
и поезд – на просторе,
и сразу в мире нету ничего:
исчезло все вокруг —
и только море,
затихло все,
и только шум его…
Вдруг вспомнил я:
со мною так же было.
Да, это же вот чувство,
но сильней,
когда любовь уже звала,
знобила,
а я по книгам только знал о ней.
Любовь за невниманье упрекая,
я приставал с расспросами к друзьям:
«Скажите, – скоро?..
А она – какая?»
«Да погоди,
еще узнаешь сам…» И так же,
как сейчас,
в минуты эти,
когда от моря стало так сине,
исчезло все —
и лишь она на свете,
затихло все —
и лишь слова ее…
1952 г.
* * *
Я что-то часто замечаю,
к чьему-то, видно, торжеству,
что я рассыпанно мечтаю,
что я растрепанно живу.
Среди совсем нестрашных с виду
полужеланий,
получувств
щемит:
неужто я не выйду,
неужто я не получусь?
Меня тревожит встреч напрасность,
что и ни сердцу, ни уму,
и та не праздничность,
а праздность,
в моем гостящая дому,
и недоверье к многим книжкам,
и в настроеньях разнобой,
и подозрительное слишком
неупоение собой…
Со всем, чем раньше жил, порву я,
забуду разную беду,
на землю, теплую,
парную,
раскинув руки,
упаду.
О мой ровесник,
друг мой верный!
Моя судьба —
в твоей судьбе.
Давай же будем откровенны
и скажем правду о себе.
Тревоги наши вместе сложим,
себе расскажем и другим,
какими быть уже не можем,
какими быть уже хотим.
Жалеть не будем об утрате,
самодовольство разлюбя.
Завязывается
характер
с тревоги первой за себя.
1967
Уходят матери
Уходят наши матери от нас,
уходят потихонечку,
на цыпочках,
а мы спокойно спим,
едой насытившись,
не замечая этот страшный час.
Уходят матери от нас не сразу,
нет —
нам это только кажется, что сразу.
Они уходят медленно и странно
шагами маленькими по ступеням лет.
Вдруг спохватившись нервно в кой-то год,
им отмечаем шумно дни рожденья,
но это запоздалое раденье
ни их,
ни наши души не спасет.
Все удаляются они,
все удаляются.
К ним тянемся,
очнувшись ото сна,
но руки вдруг о воздух ударяются —
в нем выросла стеклянная стена!
Мы опоздали.
Пробил страшный час.
Глядим мы со слезами потаенными,
как тихими суровыми колоннами
уходят наши матери от нас…
1960
Возрастная болезнь
Я заболел болезнью возрастной.
Не знаю, как такое получилось,
но все, что ни случается со мной,
мне кажется – давно уже случилось.
Приелись и объятья, и грызня.
Надеюсь, это временно. Надеюсь,
что я внезапно вылуплю глаза
на нечто, как на небоскреб индеец.
Я в опыте как будто как в броне,
и пуля, корча из себя пилюлю,
наткнется, как на медальон, на пулю,
давно уже сидящую во мне.
И радость, залетев на огонек,
в отчаянье сбивая с крыльев блестки,
о душу, как о лампу мотылек,
броней прозрачной замкнутую, бьется.
Попробуй сам себя восстанови!
Переболела плоть, перелюбила,
и жуть берет от холода в крови,
от ощущенья – это было, было.
Вот я иду сквозь тот же самый век,
ступая по тому же силуэту,
и снег летит, шипя, на сигарету,
на ту же сигарету тот же снег.
Повторы – за познание расплата.
И женщины как будто города,
в которых я уже бывал когда-то,
хотя не помню в точности, когда.
Я еще жив, я чувствовать хочу
все, как впервые, – в счастье и на казни,
но повторяюсь, если ввысь лечу,
и повторяюсь – мордой – в кровь —
о камни.
Неужто же единственный ответ,
что в жизни, где лишь видимость
просторов,
граница есть, когда познанья нет,
а только вариации повторов?
Неужто не взорвусь, как аммонал,
а восприму, неслышно растворяясь,
что я уже однажды умирал
и умираю – то есть повторяюсь?
1968
Нежность
Разве же можно,
чтоб все это длилось?
Это какая-то несправедливость…
Где и когда это сделалось модным:
«Живым – равнодушье,
внимание – мертвым?»
Люди сутулятся,
выпивают.
Люди один за другим
выбывают,
и произносятся
для истории
нежные речи о них —
в крематории…
Что Маяковского жизни лишило?
Что револьвер ему в руки вложило?
Ему бы —
при всем его голосе,
внешности —
дать бы при жизни
хоть чуточку нежности.
Люди живые —
они утруждают.
Нежностью
только за смерть награждают.
1955 г.
Две любви
То ли все поцелуи проснулись,
горя на губах,
то ли машут дворы
рукавами плакучих рубах,
упреждая меня
белой ночью, дразняще нагой,
от любви дорогой
не ходить за любовью другой.
То ли слишком темно на душе,
а на улице слишком светло,
то ли белая ночь,
то ли ангельское крыло.
Страшно жить без любви,
но страшнее, когда две любви
вдруг столкнутся, как будто в тумане
ночном корабли.
Две любви —
то ли это в подарок с опасным
избытком дано,
то ли это беда
прыгнет молнией ночью в окно,
рассекая кровать
раскаленным клинком пополам,
драгоценные некогда письма
сжигая, как хлам. Две любви —
то ли это любовь, то ли это война.
Две любви невозможны.
Убийцею станет одна.
Две любви, как два камня,
скорее утянут на дно.
Я боюсь полюбить,
потому что люблю, и давно.
1994
Нью-Йоркская элегия
С. Митман
В центральном парке города Нью-Йорка
среди ночей, продрогнувший, ничей,
я говорил с Америкой негромко —
мы оба с ней устали от речей.
Я говорил с Америкой шагами.
Усталые шаги земле не врут,
и отвечала мне она кругами
от мертвых листьев, падающих в пруд.
Шел снег… Себя он чувствовал неловко
вдоль баров, продолжающих гульбу,
садясь на жилы вспухшие неона
у города бессонного на лбу,
на бодрую улыбку кандидата,
пытавшегося влезть не без труда,
куда не помню – помню, что куда-то, —
но снегу было все равно куда.
А в парке здесь он падал бестревожно,
и как на разноцветные плоты,
снежинки опускались осторожно
на тонущие медленно листы,
на шар воздушный, розовый и зыбкий,
о звезды сонно трущийся щекой,
прилепленный жевательной резинкой
к стволу сосны ребяческой рукой,
на чью-то позабытую перчатку,
на зоосад, спровадивший гостей,
и на скамейку с надписью печальной:
«Здесь место для потерянных детей».
Собаки снег потерянно лизали.
Мерцали белки у чугунных ваз
среди дерев, потерянных лесами,
потерянными бусинками глаз.
Храня в себе угрюмо и сокрыто
безмолвно вопрошающий укор,
лежали глыбы грузные гранита —
потерянные дети бывших гор.
Жевали зебры за решеткой сено,
потерянно уставясь в темноту.
Моржи, вздымая морды из бассейна,
ловили снег усами на лету.
Моржи смотрели горько и туманно,
по-своему жалея, как могли,
потерянные дети океана,
людей – детей потерянных земли.
Я брел один, и лишь вдали за чащей,
как будто ночи пристальный зрачок,
перед лицом невидимо парящий
плыл сигареты красный светлячок.
И чудилось – искала виновато,
не зная, что об этом я молю,
потерянность неведомая чья-то
потерянность похожую мою.
И под бесшумным белым снегопадом,
объединявшим тайною своей,
Америка со мной садилась рядом
на место для потерянных детей.
1967
Дай Бог!
Дай Бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.
Дай Бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым – но не красть,
конечно, если так возможно.
Дай Бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай Бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Дай Бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Дай Бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.
Дай Бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.
Не крест – бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай Бог ну хоть немного Бога!
Дай Бог всего, всего, всего
и сразу всем – чтоб не обидно…
Дай Бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.
1989
* * *
Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.
Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.
Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.
Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.
Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.
Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.
А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!
И вот оно – возмездье – настает.
«Предатель!» – дождь тебя наотмашь бьет.
«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» – эхо слышится в лесу.
Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,
и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя…
1961
* * *
Пришли иные времена.
Взошли иные имена.
Они толкаются, бегут.
Они врагов себе пекут,
приносят неудобства
и вызывают злобства.
Ну, а зато они – «вожди»,
и их девчонки ждут в дожди
и, вглядываясь в сумрак,
украдкой брови слюнят.
А где же, где твои враги?
Хоть их опять искать беги.
Да вот они – радушно
кивают равнодушно.
А где твои девчонки, где?
Для их здоровья на дожде
опасно, не иначе —
им надо внуков нянчить.
Украли всех твоих врагов.
Украли легкий стук шагов.
Украли чей-то шепот.
Остался только опыт.
Но что же ты загоревал?
Скажи – ты сам не воровал,
не заводя учета,
все это у кого-то?
Любая юность – воровство.
И в этом – жизни волшебство:
ничто в ней не уходит,
а просто переходит.
Ты не завидуй. Будь мудрей.
Воров счастливых пожалей.
Ведь как ни озоруют,
их тоже обворуют.
Придут иные времена.
Взойдут иные имена.
1963
* * *
Не понимать друг друга страшно —
не понимать и обнимать,
и все же, как это ни странно,
но так же страшно, так же страшно
во всем друг друга понимать.
Тем и другим себя мы раним.
И, наделен познаньем ранним,
я душу нежную твою
не оскорблю непониманьем
и пониманьем не убью.
1956
* * *
С. Преображенскому
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.
У каждого – свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
1961
* * *
Лифтерше Маше под сорок.
Грызет она грустно подсолнух,
и столько в ней детской забитости
и женской кричащей забытости!
Она подружилась с Тонечкой,
белесой девочкой тощенькой,
отцом-забулдыгой замученной,
до бледности в школе заученной.
Заметил я —
робко, по-детски
поют они вместе в подъезде.
Вот слышу —
запела Тонечка.
Поет она тоненько-тоненько.
Протяжно и чисто выводит…
Ах, как у ней это выходит!
И ей подпевает Маша,
обняв ее,
будто бы мама.
Страдая поют и блаженствуя,
две грусти —
ребячья и женская.
Ах, пойте же,
пойте подольше,
еще погрустнее,
потоньше.
Пойте,
пока не устанете…
Вы никогда не узнаете,
что я,
благодарный случаю,
пение ваше слушаю,
рукою щеку подпираю
и молча вам подпеваю.
1955
* * *
Между Лубянкой и Политехническим
стоял мой дом родной —
«Советский спорт».
Мой первый стих был горько
поучительным,
а все же мой —
ни у кого не сперт!
Я в том стихе разоблачал Америку,
в которой не бывал я и во сне,
и гонорар я получал по метрикам,
и женщин всех тогда хотелось мне!
И бабушка встопорщилась на внука вся,
поняв, что навсегда потерян внук,
и в краску типографскую я внюхивался,
боясь газету выпустить из рук.
Я сладко повторял «Евг. Евтушенко»,
как будто жемчуг выловил в лапше,
хотя я был такой Несовершенко,
из школы Исключенко,
и вообще.
И внутренние штирлицы дубовые,
надеясь по старинке на «авось»,
меня
там, на Лубянке, привербовывали,
стращали,
подкупали…
Сорвалось.
Тянул другой магнит —
Политехнический,
неподкупаем и непокорим,
не в полицейский воздух —
в поэтический.
Мое дыханье тоже стало им.
Там отбивался Маяковский ранено
от мелкого богемного шпанья,
и королем поэтов Северянина
там выбрали…
Не дождались меня.
Здесь «Бабий Яр» услышала Россия,
и прямо у сексотов за спиной
случились в зале
схватки родовые
с Галиной Волчек,
и со всей страной.
И, словно воплощенная опасность,
чаруя этих и пугая тех,
Москву трясла, как погремушку,
гласность
в тебе, как в колыбели,
Политех!
Булат нам пел про Леньку-Короля.
Кавказской черной тучей шевелюра
мятежными кудрями шевелила,
над струнами опальными паря.
И среди тысяч свеч,
в страданьях сведущих,
в ожогах слез тяжелых, восковых,
стоял я со свечой за моих дедушек
у стен Лубянки,
где пытали их,
А если и не создан я для вечного,
есть счастье —
на российском сквозняке
быть временным,
как тоненькая свечечка,
но у самой истории в руке.
Между Лубянкой и Политехническим
теперь стоит валун из Соловков.
А кем он был открыт?
Полумифическим
подростком из «сов. спортовских»
портков.
Железный Феликс в пыль подвалов
тычется.
Я этому немножечко помог.
Между Лубянкой и Политехническим
вся жизнь моя…
Так положил мне Бог.
25 апреля 2000
Стихи по заказу
Я не могу – пускай уволят
меня от мелкой злобы дня,
но как, однако же, уводят,
меня уводят от меня.
Ни в воскресенье, ни в субботу
покою дать мне не хотят.
За собственную несвободу
моею несвободой мстят.
Звонят рассчитанно и нагло,
и закупают на корню,
и говорят, что это надо,
но если надо, то кому?..
Февраль 1957
* * *
Б. Ахмадулиной
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
И он
не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучимся мы с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той —
скажите, Бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько нервных
и недужных,
ненужных связей,
дружб ненужных!
Во мне уже осатаненность!
О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
близких душ!
1957
* * *
Б. Ахмадулиной
Обидели.
Беспомощно мне, стыдно.
Растерянность в душе моей,
не злость.
Обидели усмешливо и сыто.
Задели за живое.
Удалось.
Хочу на воздух!
Гардеробщик сонный
дает пальто,
собрания браня.
Ко мне подходит та,
с которой в ссоре.
Как много мы не виделись —
три дня!
Молчит.
Притих внимательно и нервно
в руках платочек белый кружевной.
В ее глазах заботливо и верно…
Мне хочется назвать ее женой.
Такси,
и снег в лицо,
и лепет милый;
«Люблю —
как благодарна я судьбе.
Смотри —
я туфли новые купила.
Ты не заметил?
Нравятся тебе?
Куда мы едем?»
«Мой товарищ болен…»
«Как скажешь, дорогой…
Ах, снег какой!
Не верю даже —
я опять с тобою.
Небритый ты —
щекочешься щекой…»
В пути мы покупаем апельсины,
шампанского.
По лестнице идем.
Друг открывает дверь,
больной и сильный:
«Ух, молодцы какие,
что вдвоем…
Шампанское?
А я уж лучше водки.
Оно полезней…»
Он на нас глядит,
глядит,
и знаю – думает о Волге,
которая зовет его,
гудит.
Мне говорит:
«Хандрить ты разучайся.
Жизнь трудная —
она еще не вся…»
И тихо-тихо:
«Вы не разлучайтесь.
Смотрите мне, ребята, —
вам нельзя».
Уходим вскоре.
Вот и покутили!
Февральских скверов белые кусты
тревожно смотрят.
Нет у нас квартиры.
Мы расстаемся.
Горько плачешь ты.
Не сплю.
Ко мне летят сквозь снег обильный
последние трамвайные звонки.
Вокруг садятся разные обиды,
как злые терпеливые зверьки.
Но чувствую дыхание участья.
Твое лицо плывет из темноты,
и дальний голос:
«Вы не разлучайтесь…»,
товарища черты,
и снова ты…
1955
* * *
Меняю славу на бесславье,
ну, а в президиуме стул
на место теплое в канаве,
где хорошенько бы заснул.
Уж я бы выложил всю душу,
всю мою смертную тоску
вам, лопухи, в седые уши,
пока бы ерзал на боку.
И я проснулся бы, небритый,
средь вас, букашки-мураши,
ах, до чего ж незнаменитый —
ну хоть «Цыганочку» пляши.
Вдали бы кто-то рвался к власти,
держался кто-нибудь за власть,
и мне-то что до той напасти, —
мне из канавы не упасть.
И там в обнимку с псом лишайным
в такой приятельской пыли
я все лежал бы и лежал бы
на высшем уровне – земли.
И рядом плыли бы негрешно
босые девичьи ступни,
возы роняли бы небрежно
травинки бледные свои.
…Швырнет курильщик со скамейки
в канаву смятый коробок,
и мне углами губ с наклейки
печально улыбнется Блок.
1966
* * *
Я груши грыз,
шатался,
вольничал,
купался в море поутру,
в рубашке пестрой,
в шляпе войлочной
пил на базаре хванчкару.
Я ездил с женщиною маленькой,
ей летний отдых разрушал,
под олеандрами и мальвами
ее собою раздражал.
Брели художники с палитрами,
орал мацонщик на заре,
и скрипки вечером пиликали
в том ресторане на горе.
Потом дорога билась,
прядала,
скрипела галькой невпопад,
взвивалась,
дыбилась
и падала
с гудящих гор,
как водопад.
И в тихом утреннем селении,
оставив сена вороха,
нам открывал старик серебряный
играющие ворота.
Потом нас за руки цепляли там,
и все ходило ходуном,
лоснясь хрустящими цыплятами,
мерцая сумрачным вином.
Я брал светящиеся персики
и рог пустой на стол бросал
и с непонятными мне песнями
по-русски плакал и плясал.
И, с чуть дрожащей ниткой жемчуга,
пугливо голову склоня,
смотрела маленькая женщина
на незнакомого меня.
Потом мы снова,
снова ехали
среди платанов и плюща,
треща зелеными орехами
и море взглядами ища.
Сжимал я губы побелевшие.
Щемило,
плакало в груди,
и наступало побережие,
и море было впереди.
1956
Злость
Добро должно быть с кулаками.
М. Светлов
(из разговора)
Мне говорят,
качая головой:
«Ты подобрел бы.
Ты какой-то злой».
Я добрый был.
Недолго это было.
Меня ломала жизнь
и в зубы била.
Я жил
подобно глупому щенку.
Ударят —
вновь я подставлял щеку.
Хвост благодушья,
чтобы злей я был,
одним ударом
кто-то отрубил!
И я вам расскажу сейчас
о злости,
о злости той,
с которой ходят в гости,
и разговоры чинные ведут,
и щипчиками
сахар в чай кладут.
Когда вы предлагаете
мне чаю,
я не скучаю —
я вас изучаю,
из блюдечка
я чай смиренно пью
и, когти пряча,
руку подаю.
И я вам расскажу еще
о злости…
Когда перед собраньем шепчут:
«Бросьте!..
Вы молодой,
и лучше вы пишите,
а в драку лезть
покамест не спешите», —
то я не уступаю
ни черта!
Быть злым к неправде —
это доброта.
Предупреждаю вас:
я не излился.
И знайте —
я надолго разозлился.
И нету во мне
робости былой.
И —
интересно жить,
когда ты злой!
25 марта 1957
Лишнее чудо
Все, ей-богу же, было бы проще
и, наверно, добрей и мудрей,
если б я не сорвался на просьбе —
необдуманной просьбе моей.
И во мгле, настороженной чутко,
из опавших одежд родилось
это белое лишнее чудо
в грешном облаке темных волос.
А когда я на улицу вышел,
то случилось, чего я не ждал,
только снег над собою услышал,
только снег под собой увидал.
Было в городе строго и лыжно.
Под сугробами спряталась грязь,
и летели сквозь снег неподвижно
опушенные краны, кренясь.
Ну зачем, почему и откуда,
от какой неразумной любви
это новое лишнее чудо
вдруг свалилось на плечи мои?
Лучше б, жизнь, ты меня ударяла —
из меня наломала бы дров,
чем бессмысленно так одаряла, —
тяжелее от этих даров.
Ты добра, и к тебе не придраться,
но в своей сердобольности зла.
Если б ты не была так прекрасна,
ты бы страшной такой не была.
И тот бог, что кричит из-под спуда
где-то там, у меня в глубине,
тоже, может быть, лишнее чудо?
Без него бы спокойнее мне?
Так по белым пустым тротуарам,
и казнясь и кого-то казня,
брел и брел я, раздавленный даром
красоты, подкосившей меня…
1965
Когда убили Лорку
Когда убили Лорку, —
а ведь его убили! —
жандарм дразнил молодку,
красуясь на кобыле.
Когда убили Лорку, —
а ведь его убили! —
сограждане ни ложку,
ни миску не забыли.
Поубиваясь малость,
Кармен в наряде модном
с живыми обнималась —
ведь спать не ляжешь с мертвым.
Знакомая гадалка
слонялась по халупам.
Ей Лорку было жалко,
но не гадают трупам.
Жизнь оставалась жизнью —
и запивохи рожа,
и свиньи в желтой жиже,
и за корсажем роза.
Остались юность, старость,
и нищие, и лорды.
На свете все осталось —
лишь не осталось Лорки.
И только в пыльной лавке
стояли, словно роты,
не веря смерти Лорки
игрушки-донкихоты.
Пускай царят невежды
и лживые гадалки,
а ты живи надеждой,
игрушечный гидальго!
Средь сувенирной швали
они, вздымая горько
смешные крошки-шпаги,
кричали: «Где ты, Лорка?
Тебя ни вяз, ни ива
не скинули со счетов.
Ведь ты бессмертен, – ибо
из нас, из донкихотов!»
И пели травы ломко,
и журавли трубили,
что не убили Лорку,
когда его убили.
1972
Монолог бывшего попа, ставшего боцманом на Лене
Я был наивный инок. Целью
мнил одноверность на Руси
и обличал пороки церкви,
но церковь – боже упаси!
От всех попов, что так убого
людей морочили простых,
старался выручить я бога,
но – богохульником прослыл.
«Не так ты веришь!» – загалдели,
мне отлучением грозя,
как будто тайною владели —
как можно верить, как нельзя.
Но я сквозь внешнюю железность
у них внутри узрел червей.
Всегда в чужую душу лезут
за неимением своей.
О, лишь от страха монолитны
они, прогнившие давно.
Меняются митрополиты,
но вечно среднее звено.
И выбивали изощренно
попы, попята день за днем
наивность веры, как из чрева
ребенка, грязным сапогом.
И я учуял запах скверны,
проникший в самый идеал.
Всегда в предписанности веры
безверье тех, кто предписал.
И понял я: ложь исходила
не от ошибок испокон,
а от хоругвей, из кадила,
из глубины самих икон.
Служите службою исправной,
а я не с вами – я убег.
Был раньше бог моею правдой,
но только правда – это бог!
Я ухожу в тебя, Россия,
жизнь за судьбу благодаря,
счастливый, вольный поп-расстрига
из лживого монастыря.
И я теперь на Лене боцман,
и хорошо мне здесь до слез,
и в отношенья мои с богом
здесь никакой не лезет пес.
Я верю в звезды, женщин, травы,
в штурвал и кореша плечо.
Я верю в Родину и правду…
На кой – во что-нибудь еще?!
Живые люди – мне иконы.
Я с работягами в ладу,
но я коленопреклоненно
им не молюсь. Я их люблю.
И с верой истинной, без выгод,
что есть, была и будет Русь,
когда никто меня не видит,
я потихонечку крещусь.
1967
Третья память
У всех такой бывает час:
тоска липучая пристанет,
и, догола разоблачась,
вся жизнь бессмысленной предстанет.
Подступит мертвый хлад к нутру.
И чтоб себя переупрямить,
как милосердную сестру,
зовем, почти бессильно, память.
Но в нас порой такая ночь,
такая в нас порой разруха,
когда не могут нам помочь
ни память сердца, ни рассудка.
Уходит блеск живой из глаз.
Движенья, речь – все помертвело.
Но третья память есть у нас,
и эта память – память тела.
Пусть ноги вспомнят наяву
и теплоту дорожной пыли,
и холодящую траву,
когда они босыми были.
Пусть вспомнит бережно щека,
как утешала после драки
доброшершавость языка
всепонимающей собаки.
Пусть виновато вспомнит лоб,
как на него, благословляя,
лег поцелуй, чуть слышно лег,
всю нежность матери являя.
Пусть вспомнят пальцы хвою, рожь,
и дождь, почти неощутимый,
и дрожь воробышка, и дрожь
по нервной холке лошадиной.
И жизни скажешь ты: «Прости!
Я обвинял тебя вслепую.
Как тяжкий грех, мне отпусти
мою озлобленность тупую.
И если надобно платить
за то, что этот мир прекрасен,
ценой жестокой – так и быть,
на эту плату я согласен.
Но и превратности в судьбе,
и наша каждая утрата,
жизнь, за прекрасное в тебе
такая ли большая плата?!»
1963
* * *
Нет, нет,
я не сюда попал.
Произошла нелепость.
Я ошибся.
Случаен и в руке моей бокал.
Случаен и хозяйки взгляд пушистый.
«Станцуем, а?
Ты бледен.
Плохо спал…»
И чувствую,
что никуда не денусь,
но говорю поспешно:
«Я оденусь.
Нет, нет,
я не сюда попал…»
А вслед:
«Вот до чего вино доводит…
Как не сюда —
да именно сюда.
Расстроил всех собою и доволен.
С тобою просто, Женечка, беда».
В карманы руки зябкие засовываю,
а улицы кругом снежным-снежны.
В такси ныряю.
Шеф, гони!
За Соколом
есть комнатка.
Там ждать меня должны.
Мне открывает дверь она,
но что такое с нею
и что за странный взгляд?
«Уж около пяти.
Не мог бы ты прийти еще позднее?
Ну что ж, входи…
Куда теперь идти».
Расхохочусь,
а может быть, расплачусь?
Стишки кропал,
а вышло, что пропал.
От глаз я прячусь,
зыбко-зыбко пячусь:
«Нет, нет,
я не сюда попал».
И снова ночь, и снова снег,
и чья-то песня наглая,
и чей-то чистый-чистый смех,
и закурить бы надо…
В пурге мелькают пушкинские бесы,
и страшен их насмешливый оскал.
Страшны ларьки,
аптеки и собесы…
Нет, нет,
я не сюда попал.
Нет, нет,
я не сюда попал.
Иду,
сутуля плечи,
как будто что-то проиграл
и расплатиться нечем.
1 декабря 1956
Патриаршие пруды
Туманны Патриаршие пруды.
Мир их теней загадочен и ломок,
и голубые отраженья лодок
видны на темной зелени воды.
Белеют лица в сквере по углам.
Сопя, ползет машина поливная,
смывая пыль с асфальта и давая
возможность отражения огням.
Скользит велосипед мой в полумгле.
Уж скоро два, а мне еще не спится,
и прилипают листья к мокрым спицам,
и холодеют руки на руле.
Вот этот дом, который так знаком!
Мне смотрят в душу пристально и долго
на белом полукружье номер дома
и лампочка под синим козырьком.
Я спрыгиваю тихо у ворот.
Здесь женщина живет —
теперь уж с мужем и дочкою,
но что-то ее мучит
и что-то спать ей ночью не дает.
И видится ей то же, что и мне:
вечерний лес, больших теней смещенье,
и ландышей неверное свеченье,
взошедших из расщелины на пне,
и дальнее страдание гармошек,
и смех, и платье в беленький горошек,
вновь смех и все другое,
из чего у нас не получилось ничего…
Она ко мне приходит иногда:
«Я мимо шла. Я только на минуту», —
но мне в глаза не смотрит почему-то
от странного какого-то стыда.
И исчезают вновь ее следы…
Вот эта повесть, ясная не очень.
Она туманна, как осенней ночью
туманны Патриаршие пруды.
Февраль – 15 апреля 1957
* * *
Сквер величаво листья осыпал.
Светало. Было холодно и трезво.
У двери с черной вывескою треста,
нахохлившись, на стуле сторож спал.
Шла, распушивши белые усы,
пузатая машина поливная.
Я вышел, смутно мир воспринимая,
и, воротник устало поднимая,
рукою вспомнил, что забыл часы.
Я был расслаблен, зол и одинок.
Пришлось вернуться все-таки. Я помню,
как женщина в халатике японском
открыла дверь на первый мой звонок.
Чуть удивилась, но не растерялась:
«А, ты вернулся?» В ней во всей была
насмешливая умная усталость,
которая не грела и не жгла.
«Решил остаться? Измененье правил?
Начало новой светлой полосы?»
«Я на минуту. Я часы оставил».
«Ах да, часы, конечно же, часы…»
На стуле у тахты коробка грима,
тетрадка с новой ролью, томик Грина,
румяный целлулоидный голыш.
«Вот и часы. Дай я сама надену…»
И голосом, скрывающим надежду,
а вместе с тем и боль: «Ты позвонишь?»
…Я шел устало дремлющей Неглинной.
Все было сонно: дворников зевки,
арбузы в деревянной клетке длинной,
на шкафчиках чистильщиков – замки.
Все выглядело странно и туманно —
и сквер с оградой низкою, витой,
и тряпками обмотанные краны
тележек с газированной водой.
Свободные таксисты, зубоскаля,
кружком стояли. Кто-то, в доску пьян,
стучался в ресторан «Узбекистан»,
куда его, конечно, не пускали…
Бродили кошки чуткие у стен.
Я шел и шел… Вдруг чей-то резкий окрик:
«Нет закурить?» – и смутный бледный облик:
и странный, и знакомый вместе с тем.
Пошли мы рядом. Было по пути.
Курить – я видел – не умел он вовсе.
Лет двадцать пять, а может, двадцать восемь,
но все-таки не больше тридцати.
И понимал я с грустью нелюдимой,
которой был я с ним соединен,
что тоже он идет не от любимой
и этим тоже мучается он.
И тех же самых мыслей столкновенья,
и ту же боль, и трепет становленья,
как в собственном жестоком дневнике,
я видел в этом странном двойнике.
И у меня на лбу такие складки,
жестокие, за все со мной сочлись,
и у меня в душе в неравной схватке
немолодость и молодость сошлись.
Все резче эта схватка проступает.
За пядью отвоевывая пядь,
немолодость угрюмо наступает
и молодость не хочет отступать.
15 апреля 1957
* * *
Когда я думаю о Блоке,
когда тоскую по нему,
то вспоминаю я не строки,
а мост, пролетку и Неву.
И над ночными голосами
чеканный облик седока —
круги под страшными глазами
и черный очерк сюртука.
Летят навстречу светы, тени,
дробятся звезды в мостовых,
и что-то выше, чем смятенье,
в сплетенье пальцев восковых.
И, как в загадочном прологе,
чья суть смутна и глубока,
в тумане тают стук пролетки,
булыжник, Блок и облака…
1957
Все, как прежде
Все, как прежде,
все, как прежде, в этом городе:
магазины,
бани,
фабрики,
химчистки,
ожиревшие напыщенные голуби,
самокатами гремящие мальчишки,
и московское особенное аканье,
и разносчицы жировок по квартирам,
и гуденье реактивное,
и звяканье
проволочных ящиков с кефиром.
Все, как прежде,
все, как прежде, —
тем не менее
что-то новое —
и в тишине, и в говоре,
и какие-то большие изменения
происходят,
происходят в этом городе.
Рано утром,
в институт попасть рассчитывая,
я в трамвай влезаю с булкой
непрожеванной:
что-то новое я вижу
и решительное
у студента за очками напряженными.
В том, как смотрит на меня маляр
натруженный,
в том, как лбом к стеклу прижалась
ученица,
понимаю —
что-то, видимо, нарушено,
что-то начато
и вскоре учинится.
Все на месте —
и фасады,
и названия.
Ни событий чрезвычайных,
ни свержений.
Но во всем подозреваю
назревание
и возможность неожиданных
движений.
24 июля 1957
* * *
Я жаден до людей,
и жаден все лютей.
Я жаден до портных,
министров и уборщиц,
до слез и смеха их,
величий и убожеств.
Как молодой судья,
свой приговор тая,
подслушиваю я,
подсматриваю я.
И жаль, что, как на грех,
никак нельзя успеть
подслушать сразу всех,
всех сразу подсмотреть!
1 августа 1957
Зависть
Завидую я.
Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю, что живет мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?