Текст книги "Очерки и рассказы из старинного быта Польши"
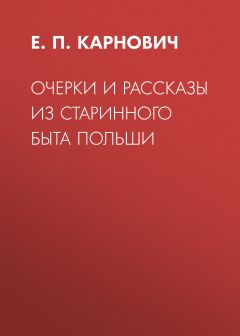
Автор книги: Евгений Карнович
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Свадьба Каси
В позднюю дождливую осень, в сумерки, когда на колокольне костёла в одном многолюдном местечке замолк уже протяжный и унылый звон, призывавший к вечерней молитве, тихо плёлся к этому местечку, под мелким, моросившим целый день дождём, отставной служивый капрал польских войск – Бурчимуха.
В местечке, к которому подходил старый служака, была в это время ярмарка; много набралось в местечко отовсюду разного народа. Здесь целый день, по грязным и тесным улицам, с самого раннего утра, медленно двигались фуры, колымаги, кочи и нетычанки, раздавалось хлопанье бичей, и слышались крики и перебранки. Целый день шныряли из одного конца местечка в другой факторы, приподнимая на бегу долгие полы своих чёрных, прадедовских халатов. Одни из факторов или доставали, или разменивали деньги; другие улаживали куплю или продажу; третьи бегали только к смазливеньким обитательницам местечка с разными поручениями от панов и паничей. Но теперь, когда подходил Бурчимуха поздним вечером к местечку, в нём не было никакого движения; на улицах не было видно ни души, так что можно было бы подумать, будто вымер весь город, если бы на огромных лужах, стоявших на улицах, не отражались огни, горевшие в окошках небольших домиков, да посреди общей тишины не доносились из ярко освещённой корчмы звуки скрипки и цимбалов, сопровождаемые то весёлым припевом, то громким топаньем каблуков в разгульной, нескончаемой мазурке.
Старого служаку, усталого от большего перехода, не слишком занимало веселье, разгоравшееся в корчме всё более и более с каждым часом. Ему хотелось только добраться поскорее до тёплого угла, хорошенько высушиться и расправить свою спину, на которой он тащил довольно увесистую котомку с разными пожитками.
Вошёл наконец Бурчимуха в первый дом, стоявший при входе в местечко, и осведомился, нельзя ли ему приютиться здесь на ночлег? Отвечали ему, что весь дом набит битком приезжими на ярмарку гостями и посоветовали ему, чтоб он шёл подальше. Дальше было тоже самое. Обошёл таким образом Бурчимуха домов десять: где он ни постучится, где ни попросится на ночлег, везде один и тот же ответ – нет места, да и только!
Посообразил, однако, служивый и то, что стоянки военного человека не очень любят ни по городам, ни по местечкам, ни по деревням, и что быть может нарочно отказывают ему в ночлеге, побаиваясь, что служивый, по своей привычке или побуянит, или, что ещё хуже, приволокнётся, пожалуй, за хозяйской женой или за хозяйской дочерью, если только они для этого покажутся пригодными.
"Нарочно спроваживают они меня, – думал Бурчимуха, – военного народа не любят!" Потому, обходя далее местечко, служивый заявлял всем, что он человек смирный и что с утренней же зарёй взвалит себе на плечи котомку и пойдёт дальше во имя Божие своим путём-дорогой, не обидев ни старого ни малого, ни молодицы ни старухи.
Ничто однако не помогало; во всём местечке не нашёл себе капрал уголка для ночлега.
– Не отыщешь нигде здесь для себя места, – сказал наконец Бурчимухе в одном доме хозяин, вышедши на крыльцо, – давным-давно здесь всё занято; придётся отправляться тебе за местечко; там есть на большой дороге хата; видишь, где светится огонёк (и при этом хозяин указал рукою на мерцавший вдалеке слабый свет). Да впрочем, – добавил в раздумье хозяин, – туда идти тебе нестать…
– А что? – спросил торопливо служивый.
– Да струсишь, пожалуй, потому что в той хате водится теперь нечистая сила, никому она не даёт покоя.
– Так только-то, – улыбнувшись перебил служивый, – ну, приятель, это нам ни по чем!
Поблагодарив за совет хозяина, Бурчимуха поплёлся на огонёк. Далеко показалось служивому колесить в обход по дороге; известное дело, по прямому пути дойдёшь поскорее, и вот Бурчимуха живо, по военному, разобрал высокий плетень и пошёл вперёд на приветный огонёк, не сворачивая ни шагу в сторону.
Было уже совсем темно в это время; не без труда перелезал служивый то через гряды, то через рытвины, то через ямы, решительно добираясь до ночлега прямо без малейшего обхода. Вот наконец очутился он перед хатой, постучался в двери и после опроса тоненьким женским голосом: "кто там?" двери отворились.
Бурчимуха вошёл в чистенькую комнатку и увидел перед собой прехорошенькую девушку. Девушка, впустив служивого, опрометью выбежала сама из каморки и позвала отца и мать.
– Гость в дом – Бог в дом, – сказал отец девушки служивому, повторяя, вместо приветствия, старопольскую пословицу. – Рад я, приятель, твоему приходу, да уложить тебя на беду негде; там спим мы сами в большой тесноте, а здесь тебе оставаться не приходится, – добавил хозяин, боязливо озираясь.
– Отчего ж? – спросил твёрдым голосом служивый.
– Ходит здесь нечистая сила, – робко сказал хозяин, и при этих словах муж и жена проговорили набожно: "Езус-Мария!"
– Трусы вы, трусы! – сказал презрительно капрал, покачивая головою и посматривая пристально на хозяйскую дочь.
Посмотреть на неё стоило. Кася (уменьшительное имя от Катерины) была девушка лет восемнадцати; прямоте и стройности её стана могли позавидовать любые красавицы Варшавы и Кракова; густая, крепко заплетённая коса высоким бугорком поднималась над тёмными волосами; на смуглом лице Каси пробивался яркий румянец, на щеках её были ямочки, а глазки блестели, как блестят два огонька в бессарабской степи, когда их разведут там в тёмную осеннюю ночь кочевые цыгане около своего табора.
"Славная девушка, – думал про себя служивый, – а кому-то она достанется? стар я для неё, да и грудь-то у меня навылет прострелена пулей".
Покуда так думал служивый, хозяин, хозяйка и их дочь суетились, готовя для прохожего горелку, тютюн и варёную печёнку. Разговаривая с добрыми хозяевами о местном ксёндзе, о ярмарке, о костёле, о том и другом, капрал попивал горелку, покуривал трубку и закусывал печёнкой.
Но вот пора и спать; уже долетел до хаты глухой бой одиннадцати часов на костёльной колокольне. Сжалось сердце добрых хозяев, когда они, пожелав Бурчимухе приятного сна, пошли спать, оставив завернувшего к ним прохожего в добычу нечистой силе. Одна только Кася улыбнулась лукаво, проговорив скороговоркой капралу: "Покойная ночь!"
– Вздор, – сказал Бурчимуха, оставшись один в страшной комнате, – вздор! скорей я поймаю чёрта за чупрун, нежели он схватит меня за ус, – и при этом старый служивый, с горделивой осанкой, покрутил свой седой ус, доходивший до самого плеча.
Затем он налил себе порядочный шкалик горелки; выпил один, выпил другой, выпил и третий, закурил трубку и, положив подле себя толстую дорожную палку, стал поджидать нечистой силы.
Вот опять послышался бой костёльных часов. Они ударили полночь. За каждым медленным их ударом, капрал спешил выпивать по шкалику горелки. При последнем ударе часов, Бурчимухе показалось, что вместо одного шкалика – стоят на столе два, вместо одной свечки – горят две, и наконец вместо одной трубки – у него изо рту торчат две.
– Так вот где она, эта дьявольская сила! – крикнул громко служивый, швырнув с размаха о пол опорожнённую им стеклянную фляжку. Звонко задребезжали на полу разбитые куски стекла; но ещё не кончилось их дребезжание, как вдруг за дверями послышался явственный звон цепей. Двери распахнулись, и в комнату вошло какое-то чёрное страшилище с оковами на руках.
Капрал не струсил, он даже не выпустил трубки изо рту и со всего разбега подскочил к привидению, схватил его за чуб и принялся колотить его палкой изо всей мочи. Видно было, что нечистая сила не приучила себя в такому обращению. Нечистый упал перед капралом на колени и стал просить о помиловании, ударяя себя в грудь так сильно, как никогда не бьёт себя перед исповедью самый тяжкий грешник.
– Кто ты такой, приятель? – грозно спросил капрал, держа нечистого за чуб и замахиваясь на него палкой.
– Я… я… работник в здешнем доме, – отвечало привидение, дрожа всем телом, – имя мне Блажек; я крепко люблю Касю, и она не смотрит на меня искоса, да вся беда наша в том, что отец и мать не хотят её за меня выдать…
– Ну, так что ж? – перебил Бурчимуха.
– Так вот я, – продолжал оправляясь Блажек, – и шляюсь так, как ты меня теперь видишь, каждую ночь, и кричу что есть силы: "не дам вам ни покоя, ни отдыха, пока не выдадите вы Касю за Блажека!"
Служивый выпустил из своей руки чуб Блажека.
– Эту чёрную накидку с серебряным крестом на спине, – продолжал чистосердечно Блажек, – дал мне костёльный сторож; ей накрывают в костёле покойников, а цепи я отбил от плуга. Вот всё что могу сказать вам, вельможный пан, – добавил Блажек, – только не выдавайте меня хозяину, а лучше всего устройте дело так, чтоб Кася была моей женой.
Служивый стал ходить по комнате мерными шагами, потирая себе лоб.
– Если вельможный пан сделает мне это, – заговорил снова Блажек, – то он может приходить ко мне и к Касе во всякое время и пить у нас горелку, сколько его душе будет угодно.
– Славно! – крикнул Бурчимуха, – иди теперь с Богом, а завтра увидимся.
Блажек чуть не повалился капралу в ноги перед своим уходом, а Бурчимуха разлёгся на скамейке и захрапел, подумав однако наперёд о том, как он лихо будет пить на даровщину.
Только что забрезжилось утро, как хозяйка и хозяин заговорили между собой о капрале.
– Нужно будет, – сказала печально хозяйка, – послать заказать гроб, да попросить отца плебана со святой водой: верно нашего гостя уж задушила нечистая сила.
– Вечный покой его душе, – отвечал заунывным голосом хозяин, – охота же ему была самому искать смерти! На то впрочем и родятся военные люди, – добавил он, махнув рукой.
Медленным шагом и с сильным замиранием сердца поплелись хозяева к той комнате, где они оставили ночевать капрала.
– Всякое дыхание да хвалит Господа!.. – крикнули в один голос испуганный муж и жена, увидев шедшего к ним навстречу Бурчимуху, и уж хотели бежать от него в запуски, как колени у них подкосились от страху, и они остановились на одном месте, будто вкопанные.
– Да, да, хозяева, плохо у вас в хате, – заговорил зловещим голосом капрал, – помучился я было в нынешнюю ночь; хорошо ещё, что я наткнулся на такого же служивого, какой я сам.
С ужасом начали хозяева расспрашивать Бурчимуху о том, что с ним было в продолжение ночи.
Прежде всего он потребовал себе горелки, а потом рассказал, что в хате хозяев поселился покойный прадед хозяина, который согрешил перед прадедом Блажека, и который теперь за это не может иметь покоя на том свете, до тех пор, пока правнучка его не выйдет замуж за Блажека.
– Плохо вам будет от него! – добавил Бурчимуха. – Порассказал мне покойник, что он был также капралом и в том самом регименте, в котором служил я; а известно, что наши полковые не дают никому спуску.
Простаки поверили старому капралу, порешили выдать Касю за Блажека, и весело отпраздновали их свадьбу. Хитрый сват пил в этот день за четверых; на другой день молодые повели его, на свой счёт, в соседнюю корчму, на третий день в другую, а потом стали угощать его горелкой каждый день на дому.
Скучно было капралу только то, что ему приходилось пить одному. И вот он начал приискивать для себя товарищей в местечке. На что на другое не скоро подыщешь годного человека, а для выпивки найдёшь людей целыми десятками; и действительно, сегодня капрал угощал на счёт Блажека трёх, а завтра угощал на его счёт пятерых, а там стал уже созывать пьяниц десятками. До последнего гроша издержался Блажек: пришлось ему забирать горелку в долг.
– Господин капрал, – сказал наконец Блажек своему свату, – пейте сами, по нашему уговору, сколько вашей чести будет угодно, – хоть купайтесь сами каждый день в горелке, пусть всё это будет вам на здоровье, но только оставьте ваших приятелей. Я-то с моей Касей пробьюсь как-нибудь всю жизнь, но у нас будут и детки, – ведь мы не для шутки обвенчались; а им придётся, по милости вашей, идти по миру…
Вспыхнул от гнева капрал при таком замечании.
– Так вот ты, приятель, каков! – крикнул он на Блажека, и не говоря более ни слова побежал к его тестю, которому и рассказал начисто все проделки его зятя.
Обомлел с первого раза пан Ваврек, когда узнал, что его Кася досталась Блажеку не совсем чисто, по-христиански, а при помощи каких-то дьявольских затей; он опрометью кинулся к войту, к главному блюстителю порядка и тишины во всём местечке. Войт. созвал тотчас же старост и понятых, и начался у них суд над Блажеком.
Все заседания этого суда сопровождались непомерным истреблением горелки, которою почивал судей отец Каси, стараясь этим способом возбудить в них беспощадную строгость к обманщику. В этом суде, не подводя никаких статутов, а только под влиянием горелки, постановили: "посадить Блажека в одну клетку, а Касю в другую, и обо всём что случилось рассказать отцу плебану". Последнее исполнили тотчас, но первое решение было трудно выполнить на деле, потому что подсудимые не ждали своего приговора и давным-давно улепетнули из местечка…
Между тем осеннее ненастье прошло; ветер разогнал густые тучи на юг и на север, и в то время, как судьи произносили над Касей и над Блажеком свой окончательный приговор, на голубом вечернем небе проглянул серебряный ноготок молодого месяца.
Само собою разумеется, что упоминать в нашем рассказе о молодом месяце было бы вовсе не кстати, если бы у всех рядивших и судивших дело Каси и Блажека, а в особенности у первого его зачинщика, у Бурчимухи, не болела от горелки голова, начиная с первого появления молодого месяца и до конца полнолуния…
Албанская банда
Часов около двенадцати ночи всё смолкло в Новогрудском монастыре, где остановился князь Кароль или Карл Радзивилл, воевода Новогрудский, приехавший в город на шляхетский сеймик. На обширном монастырском дворе, между множеством нагромождённых в беспорядке фур, нетычанок, повозок и телег, кое-где догорали ещё костры, разложенные с вечера. Сентябрьская ночь была свежа, а полный месяц высоко стоял на тёмно-голубом небе, обливая серебристым светом старинные монастырские здания. В длинном монастырском коридоре, с низкими сводами, который вёл в настоятельской келье, вспыхнул в последний раз догоревший ночник и погас, а яркий луч лунного света, ударив в узкое окно коридора, лёг длинной полосой на кирпичном его полу. Затих в коридоре и шум шагов, отдававшийся под сводами непрерывно в течение целого дня, потому что комнаты настоятельские были отданы под помещение князя-воеводы, а к нему и от него весь день, с утра до вечера, валила шляхта и бегала многочисленная прислуга.
Князь в комнате настоятеля лежал на постели, накрыв одеялом и голову; в ногах его, под постелью, улеглась любимица князя большая собака Непта, неразлучный ночной сторож князя; а на другой постели, в той же комнате, улёгся отец Идзий, духовник князя, пользовавшийся особенным его расположением.
Казалось, все успокоились: и князь, и Идзий, и Непта; но вдруг собака заворчала, как бы почуя в комнате незримого гостя, потому что свет месяца, как день, озарял её, в ней не было видно никого из посторонних, а между тем Непта продолжала ворчать оскаливая зубы.
– Да будет похвален Иисус Христос! – сказал громко Радзивилл, высунув боязливо голову из-под одеяла.
– И во веки веков! – добавил ксёндз.
– А ты не спишь ещё, отец Идзий? – спросил князь.
– Стал было засыпать, и мне начало сниться…
– А слышал ли, как ворчит Непта? верно ко мне пришёл Володкович.
– Да будет похвален Иисус Христос, – сказал ксёндз, перекрестившись; князь сделал тоже. Между тем Непта, устремив глаза на светлую полосу, которую на полу образовал свет месяца, всё ещё сердито ворчала.
– А что, – спросил Радзивилл, – правда ли, отец Идзий, что души умерших приходят на этот свет из чистилища для того, чтобы просить родных и друзей молиться за них?
– Так так, ясный князь, – отвечал отец Идзий, – приходят, конечно, приходят.
– Так видно и ко мне пришёл теперь Володкович, – сказал Радзивилл, – он всё стоит у меня перед глазами. Ты лучше всех должен знать, отец Идзий, как я любил его, и чего я только не делал для успокоения души его. В Пизе, во время страшной чумы я собственными руками хоронил умерших от этой болезни, давши обет исполнять это за упокой души Володковича; пощусь, как тебе, отец Идзий известно – и как ещё пощусь: каждую годовщину смерти Володковича ничего не ем; какие богатые вклады давал я монастырям, сколько отслужил обедней и поминовений, но видно душа его всё ещё не успокоилась.
– Да, ясный князь, воля Божия для нас тайна непроницаемая.
При этом и князь, и ксёндз набожно перекрестились.
Помолчав немного, князь сказал:
– А что, отец Идзий, ты не спишь ещё?
– Стал было засыпать; а что угодно вашей княжеской милости?
– Сотвори прежде молитву за упокой души Володковича, а потом я скажу новость.
Ксёндз исполнил желание князя.
– Я хотел сказать тебе, что отец Матий получит завтра 50 дисциплин за упокой души Володковича; ведь он проиграл заклад, венгерское было не сорока, а только тридцатипятилетнее.
– Ничего, – отвечал позёвывая ксёндз, – он человек здоровый, – и повернувшись на другой бок громко захрапел.
Для объяснения новости, сообщённой Радзивиллом своему духовнику, нужно заметить следующее: в католических монастырях есть род покаяния, или, вернее сказать, вообще богоугодного дела, состоящий в том, что смиренный раб Божий стегает себя сам, или, по его просьбе, его стегают другие ремённой плёткой, называемой дисциплиной. Радзивилл, который, как мы видели, всего более заботился об упокоении души своего прежнего друга и сподвижника пана Володковича, придумал с этою целью особое средство. Он держал с ксёндзами, а особенно с бернардинами, о чём-нибудь заклад с тем условием, что если проиграет он, то он платит, смотря по уговору, десять, тридцать, пятьдесят и более дукатов; а если проиграет противник, то он должен получить, тоже смотря по уговору, известное число дисциплин за упокой души Володковича. Много таким образом было выдано дукатов, но зато и много спин было исхлёстано порядком. В тот день, к которому относится наш рассказ, князю посчастливилось выиграть заклад, и потому он, чрезмерно боявшийся и чертей, и домовых, а в особенности Володковича, был несколько покойнее обыкновенного, зная, что завтра утром жирная спина бернардина будет искупать земные грехи Володковича. Под влиянием этой успокоительной мысли, князь поцеловал висевший у него на груди образ Богоматери, наследственно дошедший к нему чрез длинный ряд радзивилловских поколений, перекрестился, вздохнул и, по примеру отца Идзия, перевернувшись на другой бок лицом к стене, скоро захрапел.
Непта тоже успокоилась и только изредка ворчала сквозь сон.
Но кто же был Володкович, так пугавший Радзивилла своим приходом с того света? Об нем мы расскажем, так как он был одним из характеристических представителей своего буйного времени, но прежде нужно рассказать об албанской банде, к которой принадлежал Володкович, будучи одним из самых деятельных и смелых её членов.
Князь Кароль Радзивилл основал албанскую банду, или союз албанчиков, из людей ему преданных, в имении своём близ Несвижа, называемом Алба, в то время когда он ещё был мечником литовским. Чтоб попасть в это общество нужно было быть порядочным, оседлым шляхтичем, удалым рубакой, лихим наездником на самой бешеной лошади, хорошим охотником и вообще бодрым и отважным; нужно было, как говорят поляки, уметь держать чёрта за рога. Князь не мог дать никому патента на звание албанца без согласия, по крайней мере, двух третей всего общества. Обязанность членов была: на всякий призыв князя являться к нему на коне в полном вооружении и, несмотря на опасность, подставлять лоб за честь князя-воеводы, за свою собственную и каждого из членов. В уставе банды между прочим было сказано, что два албанчика, поссорившись между собой, не должны были тягаться судебным порядком, но должны были обратиться к посредничеству одного из своих товарищей, который, смотря по существу дела и по сопровождавшим его обстоятельствам, мог назначить соперникам поединок на саблях, или кончить между ними дело миролюбивым соглашением. Вельможи вменяли себе за честь быть членами албанской банды. Патенты на звание членов подписывались князем, канцлером банды был упоминаемый нами пан Володкович, а устав этого полурыцарского и полуразгульного общества написал пан Пищалло, бывший наставник князя и, как увидят читатели, один из замечательнейших педагогов и древних, и средних, и новейших времён.
Как-то однажды, после жаркого июльского дня, пан Пищалло, чиншовый шляхтич, вышел на крыльцо своего небольшого домика; солнце уходило на ночной отдых и яркими багровыми лучами обливало верхушки литовских сосен. Перед домиком пана Пищалло вилась изгибами и терялась в опушке леса просёлочная дорога, ведшая на Несвиж; часто с томительным ожиданием посматривал на эту дорогу бедный шляхтич, ожидая то княжеского гонца, то своего фактора из Несвижа. Но в настоящее время пан Пищалло смотрел на дорогу как-то бессознательно, любуясь только тою картиною, которую так привлекательно рисовала для него сама природа.
Вдруг на конце дороги показался нёсшийся во весь опор всадник; зоркий глаз Пищалло тотчас увидал, что это не был один из тех наездников, которыми в то время славилась Польша, и которые были настоящими центаврами, т. е. людьми, приросшими к лошадям. Напротив, всадник, который явился пред паном Пищалло, казалось, каждую минуту готов был свалиться с лошади; он не только подпрыгивал на ней, но длинные ноги, перетягиваемые тяжестью туловища, теряли равновесие и поднимались по временам до самых ушей лошади. В этом наезднике пан Пищалло узнал несвижского фактора Ицку. Отломив огромный сук, сын Израиля нещадно колотил по бокам тощее животное, на хребте которого он сидел без седла и без стремян; разные понукания скакавшему коню он перемешивал с восклицаниями: ню, ню, ай, ай, их вел дир гебен, т. е. я тебе дам, и без милосердия валял хворостиной своего буцефала.
Ицко подъехав, против обыкновения, почти к самому крыльцу панского дома, соскочил с коня, который, пользуясь освобождением от ноши, стал тяжело вздыхать; а Ицко, приподнимая свою широкополую шляпу, подогнув колени, съёжась и кланяясь на каждом шагу, подошёл к пану Пищалло.
На вопросы Пищалло Ицко прежде всего отвечал обыкновенными возгласами евреев: уй! ой!, причмокивал языком, что служит у них выражением сильных ощущений, потом обнаруживал удивление, каким образом пан Пищалло не знает ещё о чем толкуют не только "жиди", но и все большие паны в Несвиже, Слуцке, Минске, Варшаве и Кракове, и наконец заговорился до того, что начал уверять пана Пищалло, будто сам великий князь литовский, наияснейший пан круль [король], егомосць [Его Величество], только о том и толкует целый день с бискупами, сенаторами воеводами, гетманами.
Выведенный из терпения болтовнёй Ицки, пан Пищалло решительно потребовал, чтобы он объяснил в чём дело, и тогда Ицко, сложив на правой руке большой палец с указательным в виде кружка, стал мерно помахивать ими и сказал торжественно-таинственным голосом, что княгиня Радзивилл хочет непременно научить своего сына князя Кароля читать и писать, и в заключение вскрикнул: "ой! аклоцен, кто бендзе у него рабитом? ой!" т. е. кто же будет у него учителем.
Конечно, приискание учителя не могло быть, особенно в то время, важным событием в Литве; но в настоящем случае важно было следующее обстоятельство: княгиня Радзивилл объявила, что она подарит два самых лучших из всех своих фольварков тому, кто научит сына её Кароля читать и писать без принуждения, по собственной его охоте. Таким образом к педагогическому ремеслу примешалось феодальное право, и, конечно, получить два радзивилловских фольварка было дело нешуточное. Только что об этом проведали жиды в Несвиже, как каждый из них поскакал к своему пану с объявлением об этом. Что нужды, если сам пан едва умеет читать и писать, рассуждали они; на то он и пан, чтобы выдумать, как поступать в трудном деле. С этою вестью поспешил и Ицко к пану Пищалло, который сам был вовсе не грамотей, но готов был взяться за что угодно; учить ли в Сморгонях медведя ходить на задних лапах, или просвещать князя Радзивилла.
Получив такую весть от Ицки и давши ему за труды злотый, пан Пищалло на другой день, под предлогом, что хотел засвидетельствовать своё почтение княгине, отправился в Несвиж, желая на самом деле узнать исподтишка те условия, которые княгиня предлагает воспитателю своего сына. Там он узнал, что уже маленького князя пытались учить ксёндзы, но дело кончилась тем, что они, выведенные из терпения его неохотою учиться, принимались хлестать его огурками, т. е. деревянными головками кисточек, которые находятся на концах толстых шнуров, служащих вместо поясов для католических монахов некоторых орденов. Пан Пищалло узнал также, что один запальчивый ксёндз отхлестал бедного Кароля чуть не до полусмерти; что вследствие этого княгиня, действительно, ищет наставника, который бы научил её сына читать и писать, без помощи розг, дисциплины и огурков.
Пан Пищалло думал не долго и решился предложить себя в наставники молодому князю. Дело было слажено. Едва ли все методы преподавания представят что-нибудь похожее на ту, которой придержался шляхтич, неожиданно попавший в педагоги, из желания владеть двумя фольварками.
В день, назначенный для первого урока, пан Пищалло не взял ни букваря, ни понудительных инструментов, бывших в то время в большом ходу, а велел притащить в сад, где хотел давать уроки, большую белую деревянную доску и кусок угля, а сам между тем зарядил шесть пистолетов.
– Ну, князь, – сказал Пищалло Радзивиллу, – примемся с помощью Божию за учение, – и отмерив сорок шагов от скамейки, на которую он положил пистолеты, поставил в этом расстоянии доску и потом на ней написал углём букву A.
– То A! – громко крикнул Пищалло, указывая князю своею саблею, заменившею указку. – Помни же, что это A; па́ль-го, т. е. стреляй в него, – вдруг вскрикнул Пищалло, показав Радзивиллу глазами на лежавшие перед ним пистолеты. Князь схватил один из них, быстро откинул назад рукава своего кунтуша, раздался выстрел. и A было подстрелено в самую перекладину.
Таким образом почтенный педагог перешёл в букве B, там в C, потом к D и так далее. После этого он стал учить князя складывать по следующему способу: написав целый алфавит, он приказывал своему ученику стрелять в одну букву, потом в другую, и таким образом выходили склады, а потом и слова.
Маленький Радзивилл сделал непомерные успехи, а Пищалло получил обещанное вознаграждение, и кроме того в Литве заговорили, что многие государи убедительно просят пана Пищалло в наставники к своим детям. Как бы то ни было, но пан Пищалло имел в глазах князя Кароля значение человека необыкновенно учёного, и потому, учреждая албанскую банду, он поручил Пищалло написать её устав.
Число албанчиков было огромное: они составляли главную опору могущества князя Радзивилла. В Слонимском уезде число албанчиков доходило до того, что если, как говорили современники, замахнёшься палкою на собаку, то непременно ударишь албанчика. Хотя главным образом большинство албанчиков состояло из убогой шляхты, было привязано к Радзивиллу за его щедрость, потому что они ели его хлеб, и хлеб вкусный, а он, как сильный магнат, помогал членам основанного им общества всем – и деньгами, и силою, однако к чести албанчиков надобно сказать, что они не изменили своему покровителю и в то время, когда его постигло несчастье, когда он, по приговору короля и сейма, был наказан банницией, то есть изгнанием из пределов отечества, и когда несметные его богатства были конфискованы. Конфискованное имение следовало по закону отдавать в аренду, и албанчики условились между собою взять на себя все конфискованные имения князя Кароля. Только что проведала об этом шляхта, как никто не решился брать в аренду имения изгнанника, боясь мщения его приверженцев – албанчиков, поэтому они сами и разобрали радзивилловские волости за самую ничтожную плату в пользу казны и постановили между собою посылать к князю за границу половину всех доходов; таким образом миллионы переходили ежегодно чрез варшавских банкиров в Рим, Венецию, Стамбул, всюду, куда ни являлся изгнанник, по-видимому лишённый насущного хлеба, а между тем живший с такою роскошью, которая, как чудо, поражала современников, и которая потом уже казалась баснословною. Это обстоятельство породило, между прочим, выдумку о каком-то неразменном радзивилловском дукате, величиною с жерновой камень.
Каждый член албанской банды подписывался "радзивилловский приятель" и назывался другом дома, "домовником". В разговоре с албанчиком князь называл его "пане-коханку", т. е, почти то же, что: мой любезный, а так как он постоянно говорил с албанчиками, то он до того привык к этим словам, что они сделались его постоянною поговоркою, и он кстати и не кстати повторял их в разговоре с кем бы то ни было, даже с самим королём, и это было причиною, что он во всей Польше был известен под именем: "пане-коханку"! Хотя между албанчиками с их главою ясно проглядывали отношения покровительствуемых в своему покровителю, тем не менее однако князь Радзивилл переносил их дерзости не с запальчивостью магната, но с снисходительностью доброго человека. Так однажды он крепко поссорился с одним из албанчиков, паном Игнатием Боровским; долго продолжалась эта ссора, наконец приятели уговорили Боровского отправиться в Радзивиллу на мировую. Богато-разодетый Боровский явился в князю в день его ангела, когда князь был окружён огромною толпою гостей.
– Ну что слышно нового? – спросил Радзивилл Боровского, стараясь заговорить с ним.
– Что слышно нового? – повторил Боровский. – Слышно, что в Литве явилось два дурака.
– Кто ж они? – спросил Радзивилл.
– Кто они? – повторил опять Боровский, – один – князь Радзивилл, а другой – шляхтич Боровский.
– Отчего ж это?
– Оттого, что оба поссорились друг с другом, сами не зная за что.
Радзивилл, вместо того, чтобы рассердиться, дружески поцеловал шляхтича, сказав ему от сердца:
– Ну пане-коханку, перестанем же быть дураками, помиримся.
И приязнь между магнатом и шляхтичем скрепилась ещё более.
Для членов банды был особый мундир, он состоял в следующем, весьма красивом одеянии: при жёлтых сафьянных сапогах были надеваемы красные шаровары, крепко стянутые пониже талии, на желудке, шёлковым шнурком с кисточками, жупан или нижнее платье из голубого атласа, застёгнутый на шее и на груди четырьмя шёлковыми пуговками того же цвета, а среди их запонки из голубой эмали с брильянтовыми буквами X. K. R. как начальными литерами титула, имени и фамилии Радзивилла; на шее, из-за жупана выпускался пальца на два белый воротник рубашки. Сверх жупана надевался кунтуш соломенного цвета из плотной шерстяной материи, вроде сукна, называемой сайета, с синим воротником, подбитый шёлковою материею такого же цвета, как был цвет жупана. Литой серебряный пояс перехватывал кунтуш; на этом поясе были рассеяны незабудки и астры; пояса эти выделывались в Слуцке для одних албанчиков; с боку привешивалась большая кривая сабля; на рукоятку её, украшенную иногда дорогими камнями, клали голубую бархатную шапку с околышем из крымской мерлушки. Рукава кунтуша забрасывали назад и зашпиливали на крючок.









































