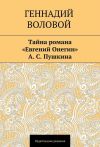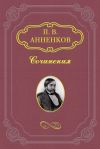Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Это была русская художественная философия самого сложного состава, с которой можно было без ложной скромности выступать перед целым миром; и уж, конечно, ни о какой «ночтожности» русской литературы, о которой рассуждал совсем недавно сам Пушкин, и говорить нечего: поэт раз и навсегда «закрывает» этот вопрос. Созданные им в «болдинскую осень» тексты превышают уровень мировой литературы того времени.
5 ноября 1830 г. П. А. Осиповой. Из Болдино в Опочку. Перевод с франц.
Сказанное вами о симпатии совершенно справедливо и очень тонко. Мы сочувствуем несчастным из своеобразного эгоизма: мы видим, что, в сущности, не мы одни несчастны. Сочувствовать счастью может только весьма благородная и бескорыстная душа. Но счастье… это великое «быть может», как говорил Рабле о рае или о вечности. В вопросах счастья я атеист; я не верю в него и лишь в обществе старых друзей я начинаю немного сомневаться.
Последние числа ноября 1830 г. М. П. Погодину. Из Болдино в Москву.
«Марфа» (речь идет о романе М. Погодина «Марфа-посадница» – Е. К.) имеет европейское, высокое достоинство. Я разберу ее как можно пространнее. Это будет для меня изучение и наслаждение. Одна беда: слог и язык. Вы неправильны до бесконечности. И с языком поступаете, как Иоанн с Новым городом (Новгородом; Пушкин вспоминает о разгроме Иваном Грозным Новгородской республики – Е. К.). Ошибок грамматических, противных духу его усечений, сокращений – тьма. Но знаете ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более (разумеется, сообразно с духом его). И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность.
9 декабря 1830 г. П. А. Плетневу. Из Москвы в Петербург.
Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», и «Дон-Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Anonyme. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин за ругает.
Пушкин – редкое для него состояние – хвалится, торжествует, сам не веря тому, что и как он написал. Даже в своей реакции на «Бориса Годунова» (ай-да Пушкин, ай-да сукин сын»!) было больше иронии и «нисходящей» интонации, а здесь перед нами отчетливое понимание т о г о, что он сделал.
Счастливое соединение любимого времени года, подъем творческого гения, ощущение нового шага в своей жизни – женитьбы на одной из главных красавиц России, дало Пушкина понимание и пути, который он впоследствии жаждет повторить в ситуациях запутанных отношений со двором, цензурой, в ситуации с Геккереном и Дантесом, – вернуться в «обитель светлую труда…». Он потом не раз и не два будет и в стихах и в письмах говорить, мечтать, помышлять об этой возможности творить вдалеке от суеты надоевшего ему, постылого света и придворной жизни с их мелкими и унижающими его, великого русского поэта, обязанностями.
Думается, именно после Болдино Пушкин окончательно осознал свое место в русской литературе, понял свой гений, отсутствие у него каких-либо видимых творческих границ. Он мог творить ВСЕ. Духовные силы его были практически безграничны.
9 декабря 1830 г. Е. М. Хитрово.
Из Москвы в Петербург. Перевод с франц.
Возвратившись в Москву, сударыня, я нашел у кн. Долгорукой пакет от вас, – французские газеты и трагедию Дюма, – все это было новостью для меня, несчастного зачумленного нижегородца. Какой год! Какие события! Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не останется, так как ничто не основано на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т. д… Известны ли вам бичующие слова фельдмаршала, вашего батюшки? При его вступлении в Вильну поляки бросились к его ногам: (встаньте), сказал он им, (помните, что вы русские). Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет войной до истребления – или по крайней мере должна быть таковой. Любовь к отечеству в душе поляка всегда было чувством безнадежно-мрачным… Вспомните их поэта Мицкевича. – Все это очень печалит меня. Россия нуждается в покое.
Приведем слова П. А. Вяземского из его «Старой записной книжки», которые много объясняют в той коллизии, конфликте между разными слоями русского общества, которая возникла в русском обществе после восстания в Польше и его подавления, в связи с которым написал Пушкин стихи «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России»: «Что будет после? Верно, ничего хорошего, потому что ничему хорошему быть не может. Что было причиной всей передряги? Одна: что мы не умели заставить поляков полюбить нашу власть. Эти причина теперь еще сильнее, еще ядовитее, на время можно будет придавить ее; но разве правительства могут созидать на один день, говорить: век мой – день мой… При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты. Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступать, но по победе очень можно. Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде (министр иностранных дел России того времени – Е. К.), она в ней не уместится… Польское дело такая болезнь, что показала нам порок нашего сложения. Мало того излечить болезнь, должно искоренить порок. Какая выгода России быть внутреннюю стражею Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным врагом… Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо более предмет для поэзии, нежели во взятии Варшавы…»
Князь П. А. Вяземский не отослал своего критического письма Пушкину, но позиция его явно отличалась от позиции поэта. Он был либералом, одним из самых образованных и блистательных умов своего времени, но ему отчего-то при его близости и любви к Пушкину не была близка пушкинская нота государственности и величия России. При всей своей поэтической свободе и выборе самых разнообразных тем и сюжетов для своих стихотворений и поэм, Пушкин оставался человеком, который не просто интересовался историей и судьбой России, не только искренне и глубоко любил ее старину, восхищался Петром Великим, но и был ее настоящим, неподдельным патриотом. Не взирая на все горькие и беспощадные слова в адрес родины, им написанные и произнесенные, несмотря на признание многих ее недостатков и пороков, на осуждение отсталости и азиатской темноты существующих законов, при этом высказанные им резкие слова о России, с которыми мало кто из критиков империи, включая, кстати, и Вяземского, может сравниться, – чувство любви к отчизне никогда его не покидало.
И еще одно. За частным случаем (хотя, конечно, хорош случай, учитывая отношения Польши и России, включая Смуту XVII века и трехкратный раздел Речи Посполитой) польского восстания, Пушкин видел (и написал об этом в своих стихах) ту самую коллизию и принципиальное столкновение между Россией и Западом, о котором он постоянно размышлял и спорил с Петром Чаадаевым. Он прямо пишет о том, что Варшава всего лишь предлог для выражения ненависти Европы к его стране.
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
(«Бородинская годовщина»)
Нелишне будет заметить, что некоторые «политические» стихи Пушкина, связанные с «польским» вопросом, и сегодня читаются как актуальная хроника…
11 декабря 1830 г. Е. М. Хитрово.
Из Москвы в Петербург. Перевод с франц.
Более всего меня интересует сейчас то, что происходит в Европе. Вы говорите, что выборы во Франции идут в хорошем направлении, – что называете вы хорошим направлением? Я боюсь, как бы победители не увлеклись чрезмерно и как бы Луи-Филипп не оказался королем-чурбаном. Новый избирательный закон посадит на депутатские скамьи молодое, необузданное поколение, не устрашенное эксцессами республиканской революции, которую оно знает только по мемуарам и которую само не переживало.
О широте политических интересов поэта говорит это письмо. Пушкин всегда стремился разобраться в «подводных» ходах истории, в том, что предопределяет жизнь обыкновенных людей и целых народов на десятилетия после какого-либо одного события, исходных причин которого как бы и не было видно. Пушкин с его углубленным интересом к глобальным вопросам развития европейской цивилизации, особенностям «русского мира», и в стихах, и поэмах (чего стоят в этом отношении «Медный всадник» и «Полтава»!), и в прозе, и в исторических разысканиях пытался проникнуть в этот особый мир общечеловеческих законов мировой истории, стремился понять место человека во всех ее, истории, хитросплетениях.
1831
7 января 1831 г. П. А. Плетневу. Из Москвы в Петербург.
Пишут мне, что «Борис» мой имеет большой успех: странная вещь, непонятная вещь! По крайней мере я того не ожидал. Что тому причиною? Чтение Вальтер Скотта? Голос знатоков, коих избранных так мало? Крик друзей моих? Мнение двора? – Как бы то ни было, я успеха трагедии моей у вас не понимаю. В Москве то ли дело? Здесь жалеют о том, что я совсем упал; что моя трагедия подражание «Кромвелю» Виктора Гюго; что стихи без рифм не стихи; что Самозванец не должен был так неосторожно открыть тайну свою Марине, что это с его стороны очень ветрено и неблагоразумно – и тому подобные глубокие критические замечания. Жду переводов и суда немцев, а о французах не забочусь. Они будут искать в Борисе политических применений к Варшавскому бунту, и скажут мне, как наши: «Помилуйте-с!..»
За откровенной иронией скрывается пушкинская радость от успеха его трагедии, на который он и не рассчитывал, не очень высоко ставя способности русской публики и критики оценить т а к о е произведение. Это непонимание, которое Пушкин будет обнаруживать в том числе и у самых близких своих друзей, станет постоянно его сопровождать, независимо от наличия одобряющих или критических восклицаний среди читающей русской публики.
Нелишне заметить, что с легкой руки Булгарина у части русского общества именно с начала 30-х годов будет присутствовать препохабнейшее обвинение Пушкина в том, что он «весь в прошлых своих достижениях», «ничего давно не создает истинно прекрасного». Пушкин прекрасно понимал цену и булгаринским (с Гречем на пару) эскападам и мнению малоразумеющей публики, но это по-своему его и терзало. Свидетельством таких настроений выступают многократные замечания его в письмах и к Вяземскому, и к Плетневу, и к Жуковскому.
Как ни высок был гений Пушкина, ему досаждала эта неразвитость русского читателя, которую сам он стремился преодолеть и хоть как-то подтянуть его, читателя, к другим критериям оценки и суждения о его собственных произведениях и о литературе в целом. Можно сказать, что усилия его оправдались веком спустя, а тогда, в целом, читающая публика не понимала и не могла понять величие его гения. Конечно, это известная оппозиция – гений и его читатель. Мало кто из признанных впоследствии мировых гениев при жизни удостаивался награды в виде единодушного одобрения его творчества обществом и читателями. Исключения крайне редки, и носят в основном внелитературный характер. Или же жить такому творцу необходимо долго.
Все дело в том, что гений захватывает такие глубины смысла, покоряет такие вершины художественности, что усредненное эстетическое сознание общества не в состоянии угнаться за мыслью таланта, освоить содержание его идей и сложность его художественных открытий. От этого постоянно существующий конфликт онтологического непонимания гения в свою эпоху.
18 января 1831 г. А. Х. Бенкендорфу. Из Москвы в Петербург.
Милостивый государь Александр Христофорович,
С чувством глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзыв государя императора о моей исторической драме. Писанный в минувшее царствование, «Борис Годунов» обязан своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и сковать книгопечатание.
Время, о котором пишет Пушкин, это время одного из исторических затруднений, переживаемого российским государством в связи с поднятым восстанием в Польше за свободу и независимость от подчинения русской короне. Выше в комментариях к письму Пушкина от 9 декабря 1830 года к Е. М. Хитрово мы касались этого предмета; он крайне важен для понимания пушкинского мировоззрения, для объективной оценки его политических предпочтений, исторических взглядов, поэтому придется расширить его интерпретацию, исходя из содержания его переписки с другими адресатами, в данном случае с одним из самых влиятельных сановников России.
Этот конфликт (польское восстание) много значил в творческой судьбе Пушкина. Мало того, что он прямо выскажется о нем в своих стихах, мало того, что он станет поводом, рассорившим его с Адамом Мицкевичем, но важнее другое – Пушкин в его рамках, осмысляя польский бунт, постоянно оборачивается к состоянию русского государства, требующего от него как мыслителя исторической оценки и прошлого и настоящего положения России.
Ответы не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Навряд ли можно отнести позицию Пушкина по разряду заблуждений гения и совершения им неосознанных ошибок. Нам кажется, что дело обстоит несколько серьезнее. В принципе Пушкин никогда не уходил и не отказывался от прямой оценки и прямого суждения по поводу и прошлой истории России и тем более современного ее состояния. Два события сформировали исторический взгляд Пушкина на место и роль России в мировой истории. Это Отечественная война 1812 года, завершившаяся победой над Наполеоном и освобождением Европы, и восстание декабристов, после которого большая часть друзей, не в последнюю очередь подпитываемые его смелыми вольнолюбивыми стихами, стремилась к освобождению России от самодержавия, к установлению республиканского строя правления.
Пушкин, как хорошо известно, прямо заявил царю, что если бы он был в то время в Петербурге, то непременно очутился бы на Дворцовой площади, встал в ряды мятежников. Но одно дело верность дружбе и отчаянное безрассудство юности, влекущее ее на звон сабель, другое – попытки изменения жизни, которая кажется неверной и несправедливой, сковывающей личные свободы и не позволяющей жить по крайней мере так, как в Европе (что Пушкин видел язвы и западного типа цивилизации, это становится ясно при рассмотрении ряда его статей).
И вот «Борис Годунов», пушкинская версия недавней (относительно) русской истории. И вот загадка, отчего эта версия была так по сердцу Николаю, который прочел рукопись задолго до появления в печати? В чем оказались близки Пушкин и русский император в своем отношении к Борису Годунову? Ведь, поэт ничуть не приукрасил эту историю и не снял вины с царя Бориса за убийство царевича Димитрия. Что же прельстило Николая в пушкинском произведении, чем он восхитился, и дал зеленый свет ее публикации.
Если Карамзин, по словам Пушкина, открыл для русских русскую же историю, то поэт подтвердил ее правдивость и величественность художественным образом. Это с одной стороны, с другой – и это было решающим аргументом для Николая, Пушкин раздвинул границы видимого исторического пространства России, которое еще недавно мыслилось совсем по-другому, – что оно серьезно начинается от Петра I и далее через его (царя) бабку Екатерину Великую, а до этого – как бы почти тьма, почти ничего нет. И это, не взирая на фигуры Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича. Карамзин, конечно, восстановил эту историческую линию правителей России, но Пушкин придал ей ту шекспировскую убедительность, которая поднимала русскую династию Романовых до уровня Тюдоров в Англии и Бурбонов во Франции.
Исторический патриотизм Пушкина, который проявился не только в «Борисе», не только в его полемике с Чаадаевым, вовсе не затмевал для него других аспектов взаимоотношений человека и государства, маленького незначительного субъекта и громадной бездушной государственной машины, о чем, собственно, его «Медный всадник». А то, что Пушкин гораздо шире взирал на всемирную историю, свидетельствуют его «Маленькие трагедии», среди которых и «Моцарт и Сальери», и «Пир во время чумы», и «Дон-Жуан». История открывается и познается через человека; страсть к историческому действию и божественная сила творчества, которыми наделен человек, оказывают воздействие на более широкий круг явлений и людей, чем просто его семья, родственники и друзья, его повседневная реальность.
Пушкин любил свое отечество, одновременно видя в нем и произвол, и лакейство мысли, и цензуру, залезающую в переписку частного человека со своей женой и пр. и пр. Пушкин представляет собой в известной мере тот самый образец русского человека, который страстно ненавидит недостатки своей родины, не жалеет самых резких слов по ее адресу, требует изменений, вообще критически относится к ее, как правило, текущему состоянию, но все это преодолевается чувством любви, безотчетной и глубокой. Любви, в которой также много «преданий старины глубокой», восхищения ее победами на бранном поле, ее историческим норовом, любви к ее безмерным просторам, к географическому величию, любви, в которой есть удивление перед «даром богов» – русским языком и православной религией.
По этой же части и лермонтовское «Люблю Россию я, но странною любовью». Амбивалентность этого чувства также далека от имперского чванства бритов и от комплекса неполноценности какой-либо заштатной маленькой европейской страны. Это именно любовь, но тяжкая, «странная», с высказыванием претензий – и самых тяжких – в адрес родины, но и необъяснимое чувство привязанности и тяги к ней.
Русская эмиграция первой волны, сразу после революции 1917 года, лучшее этому подтверждение. Не в последнюю очередь ее сплочение и в итоге духовное сохранение тесно связаны с празднованием 100-летия со времени смерти Пушкина в 1937 году, на которое откликнулись эмигрантские общины по всему свету. Оказалось, что связь через Пушкина, через его слово – это самая лучшая связь, какая только может быть между русскими людьми.
21 января 1831 г. П. А. Плетневу. Из Москвы в Петербург.
Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратынский, вот и все.
21 января 1831 г. Е. М. Хитрово.
Из Москвы в Петербург. Перевод с франц.
Вопрос о Польше решается легко. Ее может спасти лишь чудо, а чудес не бывает… Только судорожный и всеобщий подъем мог бы дать полякам какую-либо надежду. Стало быть, молодежь права, но одержат верх умеренные, и мы получим Варшавскую губернию, что следовало осуществить уже 33 года тому назад. Из всех поляков меня интересует один Мицкевич. В начале восстания он был в Риме, боюсь не приехал ли он в Варшаву, чтобы присутствовать при последних судорогах своего отечества.
Я недоволен нашими официальными статьями. В них господствует иронический тон, не приличествующий могуществу. Все хорошее в них, то есть чистосердечие, исходит от государя; все плохое, то есть самохвальство и вызывающий тон, – от его секретаря. Совершенно излишне возбуждать русских против Польши. Наше мнение вполне определилось 18 лет тому назад.
Прежних рассуждений на этот счет достаточно, приведем лишь отрывок из пушкинского стихотворения «Клеветника России», который говорит сам за себя. Обратим внимание еще раз на обстоятельство, что Пушкин рассматривает польскую историю не просто, как подавление бунта или нечто подобное, – он вставляет ее, и совершенно справедливо, в более широкий европейский контекст, отчетливо понимая и близость России с Европой и какую-то непреодолимую пропасть между нами и ими.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Около (не позднее 9) февраля 1831 г. Е. М. Хитрово. Из Москвы в Петербург. Перевод с франц.
Вы говорите об успехе «Бориса Годунова»: право, я не могу этому поверить. Когда я писал его, я меньше всего думал об успехе. Это было в 1825 году – и потребовалась смерть Александра, неожиданная милость нынешнего императора, его великодушие, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы трагедия могла увидеть свет. Впрочем, все хорошее в ней до такой степени мало пригодно для того, чтобы поразить почтенную публику (то есть ту чернь, которая нас судит), и так легко осмысленно критиковать меня, что я думал доставить удовольствие лишь дуракам, которые могли бы поострить на мой счет. Но на этом свете все зависит от случая…
10 февраля 1831 г. Н. И. Кривцову. Москва.
А я женат. Женат – или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил, как обыкновенно живут. Счастья мне не было… Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью.
24 февраля 1831 г. П. А. Плетневу. Из Москвы в Петербург.
Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился.
Вторая половина (18–25) мая 1831 г. Е. М. Хитрово. В Петербурге. Перевод с франц.
Возвращаю вам, сударыня, Ваши книги, и покорнейше прошу прислать мне второй том «Красного и черного» (Стендаля – Е. К.). Я от него в восторге. Можно ли уже получить «Собор Богоматери»? («Собор Парижской Богоматери» В. Гюго – Е. К.)
1 июня 1831 г. П. А. Вяземскому. Из Царского Села в Москву.
Ты читал известие о последнем сражении 14 мая (в Польском восстании – Е. К.). Не знаю, почему не упомянуты в нем некоторые подробности, которые знаю из частных писем и, кажется, от верных людей: Крженецкий находился в этом сражении. Офицеры наши видели, как он прискакал на своей белой лошади, пересел на другую бурую и стал командовать – видели, как он, раненный в плечо, уронил палаш и сам свалился с лошади, как вся его свита кинулась к нему и посадила опять на лошадь. Тогда он запел «Еще Польска не сгинела», и свита его начала вторить, но в ту самую минуту другая пуля убила в толпе польского майора, и песни прервались. Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей… Но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов и для правительств… Того и гляди, навяжется на нас Европа.
Вот, кажется, письмо, которое совсем не понравится нашим либералам и западникам – «задушить» редкое слово в лексиконе поэта. Пушкин – реакционер, возможно ли это? Вовсе нет. Пушкин – человек, преданный российской империи и иного состояния для своей отчизны он не мыслит. И вовсе не потому только, что он не знает или не знаком с другими формами правления и общественного устройства. Его сознание определено великим для России 18 веком, через который Россия встала в ряд ведущих мировых держав. После же подчас и не знала, что ей делать дальше, куда еще расширяться. Эта историческая константа характерна не только для Пушкина, – во многом она близка всей глубинной линии русского славянофильства, в котором, конечно, не смазные сапоги и народные песни были в центре внимания.
9 июня 1831 г. Е. М. Хитрово. В Петербурге. Перевод с франц.
Легко понять ваше восхищение «Собором Богоматери». Во всем этом вымысле очень много изящества. Но. Но… я не смею высказать всего, что о ней думаю. Во всяком случае, падение священника со всех точек зрения великолепно, от него дух захватывает. «Красное и черное» хороший роман, несмотря на фальшивую риторику в некоторых местах и на несколько замечаний дурного вкуса.
Середина июня 1831 г. Е. М. Хитрово.
Из Царского Села в Петербург. Перевод с франц.
Пользуюсь случаем, сударыня, чтобы просить вас об одном одолжении; я предпринял исследование французской революции; покорнейше прошу вас, если возможно, прислать мне Тьера и Минье. Оба эти сочинения запрещены.
Текущая политическая ситуация более чем горячая – восстание в Польше, революция во Франции: Пушкин изучает доступные ему источники, чтобы понять закономерности подобных явлений, о чем мы писали несколько выше.
29 июня 1831 г. П. А. Осиповой.
Из Царского Села в Опочку. Перевод с франц.
К слову сказать, если бы я не боялся быть навязчивым, я попросил бы вас, как добрую соседку и дорогого друга, сообщить мне, не могу ли я приобрести Савкино, и на каких условиях. Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле старых добрых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря о моей хижине в Савкине? – меня этот проект приводит в восхищение, и я постоянно к нему возвращаюсь.
В письме Пушкин возвращается к своей любимой теме – найти уединенное место для трудов и спокойной жизни. Рядом с книгами, верными друзьями, в окружении знакомой и милой природы он хочет размышлять, обдумывать свои планы, ждать вдохновения и писать, писать, писать…
6 июля 1831 г. П. Я. Чаадаеву.
Из Царского Села в Москву. Перевод с франц.
Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в Царском Селе. И так часто с тех пор прерывавшиеся…
Ваша рукопись все еще у меня; вы хотите, чтобы я вам ее вернул? Но что будете вы с ней делать в Некрополе? (Чаадаев пометил место написания своих «Философических писем» как Некрополь, то есть «город мертвых» – Е. К.) Оставьте ее мне еще на некоторое время. Я только что перечел ее. Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен. Вследствие этого мало понятны первые страницы, и я думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их простым вступлением или же сделав из них извлечение. Я хотел было также обратить ваше внимание на отсутствие плана и системы во всем сочинении, однако рассудил, что это – письмо и что форма эта дает право на такую небрежность и непринужденность. Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного бога, о древнем искусстве, о протестантизме, изумительно по силе, истинности или красноречию. Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно.
Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: например, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если только они действительно принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии? Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой. Даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца.
Важнейшее письмо, в котором Пушкин начинает свой диалог с Чаадаевым, который продолжится позднее, уже после появления в печати первого «Философического письма». Пушкин знакомится с рукописью. Но уже и здесь проявляются определенные разночтения поэта с Чаадаевым. Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что освоение Пушкиным идей Чаадаева носит достаточно длительный характер. До развернутого концептуального ответа Пушкина автору «Философических писем» еще целых пять лет, на протяжении которых Пушкин так или иначе, но обращается к основным пунктам теории Чаадаева.
Во второй части книги есть отдельная большая глава, посвященная отношениям Пушкина и Чаадаева, взаимодействию их точек зрения и воззрений на историю России, на ее отношения с Европой в контексте русской культуры XIX века.
21 июля 1831 г. П. В. Нащокину. Из Царского Села в Москву.
Ты пишешь мне о каком-то критическом разговоре, которого я еще не читал. Если бы ты читал наши журналы, то увидел бы, что все, что называют у нас критикой, одинаково глупо и смешно. С моей стороны я отступился; возражать серьезно – невозможно; а паясить перед публикой не намерен. Да к тому же ни критики, ни публика не достойны дельных возражений. Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики…
22 июля 1831 г. П. А. Плетневу. Из Царского Села в Петербург.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!