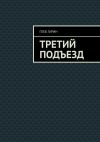Текст книги "Поворотные времена. Часть 2"

Автор книги: Евгений Мороз
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Словом, возможно ли понять философию, философа, не рискнув самому быть философом, не пустившись в философствование, т. е. не озадачившись до сердцевины собственного бытия тем самым вопросом, который мучил философов, приводил их в смятение, сводил в тайные споры и сталкивал в явных скандалах? Разве философская полемика может так далеко выйти за рамки ученых споров о теории познания или об онтологических категориях, если речь о них сама собой не заводит философов в те опасные области, где затрагивается сам нерв нашего существования? Схватить суть философского дела – значит быть захваченным им. Лишь так – изнутри – имеем мы возможность понять и иную философию: в сотрудничестве, софилософствовании, т. е. втягиваясь в общую тяжбу о… О чем?
Оговорюсь. Разумеется, философы и «полагают», и «считают», и «утверждают», и строят всеобъемлющие мировоззренческие системы, без внимательного штудирования которых просто не о чем говорить. Ho учения эти суть философские учения постольку, поскольку они учат тому, что составляет их собственное начало – не временное, а принципиальное, – а именно фундаментальному изумлению. В философской системе раскрывается, обретает логически отчетливую членораздельность, становится необходимым и всеобщим то изумление, которое изначально таится в существе человека как человека. Оно изначально таится в существе человека, но только ум, развернутый до предела, знает об этом пределе и умеет изумляться. Этим изумлением он и касается того, что не есть он. Здесь начало и корень разумения, где все отдельные силы – рассудок, чувство, воля – «сливаются в одно живое и цельное зрение ума»198198
Киреевский И. В. Указ. Соч. С. 249.
[Закрыть].
Я привел эти слова И. Киреевского из его замечательной статьи «О необходимости и возможности, новых начал для философии» 1856 г. не случайно. Мы касаемся здесь – как увидим в дальнейшем – средоточия нашей проблемы. Здесь проходит та граница, на которой русская «софия» столкнется с кенигсбергским «чертом». Сказать точнее, здесь она вызовет этого «черта» из «Критик».
Что же значит понять философа? Объективно воспроизвести его «доксу», откопать его интуитивную «догму», его скрытую веру или же дать сказаться ему в продолжающемся софилософствовании, вызывая, быть может, еще неслыханные его слова, пробуждая неожиданные духовные энергии и смыслы? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем вообще, что такое философия и что делает человек, занимаясь ею.
Иван Карамазов, как мы помним, – из тех людей, которым надобно мысль разрешить, а не миллион приобрести. Философия и растет отсюда, из этой онтологической муки, которой жив человек. В корне своем она – со всеми ее «космологиями», «логиками» и «гносеологиями» – есть это «разрешение мысли», решающей наше бытие. He решение представлено в философской системе, а решание. И если мы знаем – точно и объективно – миллион философских «доке», мы обладаем золотым капиталом образования, но ничего не знаем о философии. Лишь озадачившись впервые, точнее, впервые открыв свою изначальную и сокровенную озадаченность мыслью, которую надобно разрешить, мы разом открыли для себя вход – правда, только вход – во все философии. Ибо сколь бы стара, оригинальна, технически разработана и систематически развита ни была философская система, она представляет собой форму философствования, детальную форму и сложную технику решения изначальной мысли, развернутое стояние фундаментального вопроса… Или все же ответа?
Что такое философия? Если мышление это «разговор души с самой собой» (Платон), если наш разговор с собой не сразу оборвется, чтобы поскорее перейти к делу или к «жизни», если в размышлении о «деле жизни» как-никак мыслящего существа он зайдет далеко, так далеко, что коснется «первого и последнего», и мы увидим, что тут вопрос не только не разрешится, но впервые, собственно, открывается во всей своей вопросительности, – тогда мы на пороге философии. Тогда мы, быть может, сумеем увидеть в великих метафизических системах не нелепый плод самонадеянной и «отвлеченной» мысли, а следы крупного разговора, который ведут с самим собой и только потому с другими. Ho как же быть? He в мышлении же бытие! Разве философия не ведет свои разговоры, не продумывает жизнь, чтобы именно знать, как быть? Так что же все-таки философия: нескончаемые разговоры, озадачивающие сократические беседы, или – «Законы», умозрение «софийного устроения»?
Если верно второе, каждый философский мир представляет собой интеллектуальную монаду, раскрывающую некую фундаментальную «догму», интуицию или* мистический опыт, источник которых не может стать темой разговора внутри определяемой этими «началами» философии. Сокровенная предпосылка делает философскую систему непроницаемой для «иноверцев» и представляет ей иные философские системы принципиальными недоразумениями, а то и ересями. Ho если философская система есть реплика в неизбывном философском разговоре, если они рождаются в неслучайном, конститутивном для человеческого бытия как такового вопросе и возвращают нас к нему, – в этом вопрошании разные философии, эти самобытные умы сообщены друг другу, имеют место для взаимопонимания. В таком случае именно началом, принципом своим философии связаны, сообщены, а не разделены.
В этом экзистенциальном истоке философии, в радикальной озадаченности, в обращенности всем существом в существеннейший вопрос, разрешить который оказывается нужнее, чем даже жизнь сохранить, нетрудно распознать то самое изумление, которое, по согласному слову Платона и Аристотеля, в самом деле, образует начало философии, тот философский «патос», ту настроенность ума, вне которых все сказанное философом перестает быть философией. Если ум и сама плоть наша не изменились, охваченные этим «патосом», никакая филология, текстология, культурология и социология, никакое знание архивов и биографии философа не помогут. Все эти знания будут говорить нам о другом.
В философии как раскрытии радикальной озадаченности, образующей жизненное средоточие человеческого бытия, все философии, под какими бы масками они ни существовали (какими бы «измами» ни нарицались), сбрасывают их и открывают свои собственные философские лица. Это ситуация их личной встречи, собеседования, спора, тяжбы, когда открывается, что все они суть лишь персонажи в единой «трагедии ума, где героями выступают идеи, а сценою служит сознание»199199
Флоренский П. А. Космологические антиномии И. Канта (лекция, прочитанная 17. IX. 1908 г.) // Богословский вестник. 1908. С. 612 (Флоренский П. А. Соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 20). Разумеется скрытая ссылка на Достоевского. Я. Голосовкер в своей книге почти цитирует эти слова П. Флоренского. Наконец, такое понимание романов Достоевского развертывается в серьезную литературоведческую и философскую концепцию М. М. Бахтиным.
[Закрыть]. Перед лицом русской философии кантовская открывается своей равномощной экзистенциальностью, из нее вдруг выпрыгивает черт, в ней открываются метафизические бездны… А что происходит с русской «Софией»? Перед лицом этого «черта» не открываются ли в ней некие новые черты, сокровенные умыслы и пристрастия? Может быть, обличительный пафос идеологической борьбы как раз замазывает разумное лицо, загораживает его личиной, причем не только лицо «врага», но и свое собственное?
Нет философии без философствования. Ho нельзя философствовать, не со-философствуя, не держа в себе, по словам С. Н. Трубецкого, собор со всеми другими, кто философствовал, кто по-своему разрешал ту же мучительную мысль человеческого существования. К этому началу, к изначальному изумлению сходятся различнейшие пути философской мысли, и здесь надо искать вразумительных оснований ее расхождений. В этом же начале коренится расхождение софиифилософии и софии-метафизики или, попросту, философии и теософии200200
В смысле В. Соловьева. См.: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 194. (См. об этом определении ниже).
[Закрыть].
Мы подошли вплотную к сути занимающего нас спора. Мы отыскали его возможность в средоточии философской ситуации. Мы можем сделать еще один «априорный» шаг, позволяющий предугадать философскую природу кантовского черта.
Кто знает, чем в действительности занимались так называемые досократики? Ho всем известно, что именует философствованием Сократ: приставание к «мудрецам» с вопросами об их мудрости. С недоумением услышав от бога (через пифию), что он самый мудрый человек, Сократ вскоре понял: дело только в том, что общепризнанные «мудрецы» думают, будто что-то знают, и только он один умеет знать, что ничего не знает. Выяснив это, он, однако, не перестал вдумываться в суть поразившего его обстоятельства, более того, увлекал в размышление над ним других, в том числе и молодежь. Ответственные люди приметили, что высшие ценности, которыми держится их мудрое благополучие и само государственное общежитие, как бы подвешиваются в воздухе испытующей мысли Сократа, и натурально пришли к соответствующим оргвыводам, ибо высшие интересы Государства и т. д. … Тоже, видите ли, своего рода черт…
А разве Сократ не предводитель философского хора? Разве отсутствие сократического духа – ирония к самоуверенной мудрости, майевтический метод (он не выдумывает, не утверждает – дает мысли явиться самой), не знающее пределов вопрошание (единственный путь к глубокой философии), – разве отсутствие этого духа не верный признак ложной мудрости, заботящейся не об истинном, а о благополучном, хотя говорить она может об истине, о Боге и спасении?
Бог, говорит Сократ в своей защитительной речи, «послал меня в этот город, чтобы я, целый день, носясь повсюду, каждого из вас будил». И если вы, подобно людям, внезапно пробудившимся ото сна, прихлопнете теперь меня, как муху, «тогда вы всю остальную вашу жизнь проведете в спячке» (Платон. Апология Сократа. 31а. Пер. М.С. Соловьева). А что если и в самом деле так называемая мудрость – род духовного сна, а благополучный сон и есть сама мудрость? Поставил же, например, Ю. Лощиц кушетку с Обломовым в центр мироздания201201
Лощиц Ю. И. Гончаров. М., 1977. С. 194-195.
[Закрыть].
Вот почему самым неприятным и опасным считаются вовсе не догмы философов, пусть и самые рискованные, а сама философия – тревога и беспокойство, назойливое вопрошание, нарушающее спокойную ясность сознания, недоверие как раз к самому неприкосновенному (именно потому, что оно неприкосновенно), сомнение во всем на свете, скепсис, критицизм. «Идея об Истине живет во мне, как „огнь поядаяй”, – пишет всерьез испытавший (не без помощи кантовских антиномий) этот огнь П. Флоренский. – …Ведь именно это огненное упование на Истину, именно оно плавит своим черным пламенем гремучего газа всякую условную истину, всякое недостоверное положение»202202
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. С. 38.
[Закрыть]. И сколькие, ощущая опасность этого «пирронистического» пламени, в котором сгорают все опоры и лежанки человеческого духа, предпочитают какую-никакую, а твердую истину, не видя в ее твердости никакой опасности. Жажда «прямых ответов» на «проклятые вопросы», жажда «руководств к действию» приводят нас, русских, к тому, чтобы скорее уж с Бюхнером и Молешоттом верить в мысль, выделяемую печенью, чем мучиться над вопросом, а что, собственно, значит знать или как возможно бытие?203203
См.: Перцов П. П. Гносеологические недоразумения (По поводу классификации наук Генриха Риккерта) // Вопросы философии и психологии. Кн. 1/96. М., 1909. С. 27-28.
[Закрыть]
Скажем, сомнение. Кто у нас не клял гамлетизм, раздвоенность, рефлексию, которая непременно «заедает»? Кто не убежден, что это – мучительное и, вообще говоря, подозрительное состояние? Временно оно терпимо, но, затянувшись, свидетельствует о патологии воли. Ведь ищут для того, чтобы найти. Вот же Декарт, говорят нам, сомневался только для того, чтобы в конце концов найти нечто несомненное, абсолютно достоверное, ясное и отчетливое. Разве не так?
Что же, заглянем по случаю к Декарту. Описывая в конце первого «Метафизического размышления» замысел предельного сомнения, доходящего до того, что предполагается, будто не благой Бог, а какой-то злой обманщик нарочно водит меня за нос, Декарт говорит о сомнении: «Эта затея тяжелая и трудная, и какая-то леность вовлекает меня незаметно в ход моей привычной жизни, и подобно тому, как раб, наслаждающийся во сне воображаемой свободой, боится пробудиться, когда начинает подозревать, что его свобода – сон, и содействует этим приятным иллюзиям, чтобы быть подольше обольщенным, так точно и я незаметно для самого себя возвращаюсь к своим прежним мнениям и страшусь пробудиться от дремоты из боязни, что трудовое бдение, которое последует за этим покоем, вместо того, чтобы внести какой-нибудь свет в познание истины, не будет достаточно даже и для освещения всего мрака затруднений, о которых только что была речь»204204
Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 340.
[Закрыть]. Как видим, именно в сомнении, в предельном и радикальном сомнении Декарт видит не только собственную форму мышления, но и экзистенциальную задачу, едва ли не исполнение евангельского завета: «Бди и бодрствуй, ибо Бог придет, как тать в ночи».
Может быть, истина и существует только в этом пламени, только в глубинной экзистенциальной тревоге, в трудном бодрствовании изначального философского изумления, сомнения, вопрошания, – в том начале, в котором не только впервые начинается философия, но которым она постоянно держится и возрождается? Может быть, это методическое, абсолютное сомнение и есть единственно необходимое условие возможной метафизики, т. е. условие возможного присутствия самого ее «предмета»: абсолютного! He в преодолении сомнения, а в предельном напряжении бодрствующего сомнения касаемся мы того, что метафизично (мета психично, мета логично)? Более того, может быть, только в таком бодрствовании и ожидании неожиданного мы можем встретиться с тем, от чего мы плотно загорожены идолами, возводимыми нашей жаждой гарантированного благополучия?
Легко догадаться, что в этот дух философии, в ее экзистенциальное начало я включаю – наряду с сократовской иронией и картезианским сомнением – кантовский критицизм, тот вопрос, под который он поставил догматическую метафизику. He метафизику стремится устранить Кант, а метафизический идол разума. Устраняя идол (иллюзию) разума, он открывает собственное пространство «мета».
Дьявольская диалектика состоит вовсе не в антиномиях и апориях разума, а в том, что дорога в ад мостится благими намерениями, спасительными идеями, абсолютными истинами, богоподобными идолами. Идол возникает там, где метафизический горизонт закрывается, где абсолютное дается – неважно, натурально или мистически, – где оно так или иначе прямо встраивается в мир.
Кант видел задачу «Критики» не в упразднении метафизики на манер, скажем, позитивистов, а как раз наоборот – в ее обосновании. И это – типично философская задача: обосновать каким-то образом то, что является основанием всего обоснованного вообще205205
Когда, например, С. Булгаков в своем варианте теодицеи («Свет невечерний») задается исходным вопросом: «Как возможна религия?», он занимает критическую позицию, парадоксальную позицию философа, желающего обосновать абсолютное обоснование. Пространство подобного априорного обоснования располагается как бы «за» обосновываемым, которое оказывается здесь лишь возможным. Между тем С. Булгаков стремится ввести читателя в религию, имеющую до крайности мало общего с «религией в пределах только разума». Нет ничего удивительного в том, что он отвечает на свой вопрос и строит последующее изложение в феноменологическом ключе, раскусывая содержание религиозного опыта, абсолютно предпосланного дальнейшему анализу.
[Закрыть]. «Критика» возвращает метафизику, ставшую просто мета-физикой, теорией мета-объектов, сверхчувственных вещей, в философское состояние, обращает ее в философию206206
См. подробнее обсуждение этой основной проблемы метафизики М. Хайдеггером в лекциях «Основные понятия метафизики» (Heidegger М. Die Grun, dbegriffe der Metaphysik. Gesamtausgabe. Abt. 11. Bd 29-30. Frankfurt ам Маin, 1983. См. русский перевод первых глав: Вопросы философии. 1989. № 9).
[Закрыть]. Метафизические «предметы» некоторым образом действительно нельзя знать, но уяснение разумом природы этого «нельзя» многое позволяет понять в природе метафизических «предметов».
Так намечается один из важных поворотов в споре наших ведущих персонажей. Мы видим, что речь идет о разном отношении – теософском и философском – к их общему «предмету» – «софии». С одной стороны, перед нами органическая система высшего знания, систематическое тайноведение, с другой – знание о незнании Сократа, ученое незнание Н. Кузанского, бодрствование Р. Декарта в радикальном сомнении, критический суд разума с самим собой И. Канта. Теософия – это метафизика, поскольку она традиционно метафизична, развертывается как монументальная и монистическая разумная система, как теория-умозрение самой реальности, имеющая в виду соответствующий «праксис»: софийную жизнь (культ П. Флоренского, миф А. Лосева). Метафизика же, поскольку она обращается философией, как раз наоборот – ставит человека в напряженное отношение отстраненности и стремления к тому, что становится воплощенной софией. «Филия» философии стремится не обладать – рационально или тайно – некой сущей Софией, а оставить место возможному, это благорасположение, благоприятствие явлению мудрости как неведомому, бесконечная открытость. Метафизика хочет надежно знать, как раз и навсегда встроиться в бытие само по себе и уже не думать, а только быть – определенно и несомненно. Так, к примеру, по Флоренскому, в формах абсолютного культа человек движется с той же онтологической естественностью, с какой дерево растет в природе. Разумеется, установка Канта противна этой онтологии207207
«Совершенно просто отмечаю, что кантова философия обязана своим существованием протестантскому культо-борству, что у нее нет никакого собственного содержания и что с падением культо-центризма, т. е. религии, кантианство как таковое, в своих устремлениях, разлетается без остатка … » (Флоренский П. Философия культа. С. 105 – 106).
[Закрыть], но поэтому, же и жизненно необходима, если только мы не хотим, чтобы последнее дыхание философии – и не только философии – исчезло в этом монументальном онтологизме. Правда, для этого саму философию Канта надо понять как форму онтологии.
Нетрудно заметить, что я пока выступаю в роли advocatus diaboli. Я пытаюсь разглядеть в страшной физиономии, намалеванной нашими художниками и философами, черты разумного лица. Если не открещиваться от Канта, не загонять его в «субъективизм», «иллюзионизм», «агностицизм» – может быть, и русская метафизика лучше поймет бытийный смысл философии. А стало быть, и саму жизнь.
III
В истории русской религиозной философии есть небольшое сочинение, само как бы начинающее ее и на редкость ясно и емко формулирующее ее внутреннее начало. Я имею в виду уже упоминавшуюся статью Ивана Киреевского «О новых началах философии».
Для Киреевского западная философия, за редким исключением, представляет собой историю мышления, которое он, а вслед за ним и вся русская философия этой традиции называет отвлеченным. Появление этой философии отвлеченного мышления он объясняет последовательным отвлечением, во-первых, латинской церкви от православия, во-вторых, отвлечением реформации от церковного предания и, наконец, отвлечением разума от веры в Новое время. Предельное развитие отвлеченный разум получил в системе Гегеля, вместе с которой он осознал свою внутреннюю несамодостаточность. Стремясь быть самим собой – царством логичной, повсюду связной, проницаемой и ясной для себя мысли, способной отвечать собственным бытием за все свои «следовательно», «необходимо», «очевидно», разум должен «снять» все посторонние, внешние, навязываемые или напрашивающиеся предпосылки и сделать их своими, им самим порожденными и положенными. Отсюда и «отвлечение». Последней предпосылкой остается, однако, исходное предположение, а именно предположение самого бытия мысли, и внутренняя логика, собственная природа мысли требует снятия также и этой предпосылки. Мышление должно рискнуть отрицать себя, потерять себя в бытии, которое непосредственно не является бытием мысли. Мышление должно задаться предельным вопросом: как оно возможно, как возможно само бытие мысли? Как в мире, в бытии возможно некое существо, которое способно мыслить, т. е. не знать, как быть (да и вообще: быть или не быть). Только поставив вопрос так, мысль может надеяться обрести свое предельное обоснование и онтологическое начало.
Форму «отвлеченного», вращающегося в себе разума Шеллинг назвал отрицательной философией и, выдвинув идею философии положительной, поставил вопрос об утверждении новых начал философии. На первых порах Шеллинг (как и Гегель) строил онтологическое обоснование мышления в форме натурфилософии. Породить «дух» из натурфилософской «природы» ничего не стоило, поскольку она сама конструировалась по образцу «духа». Мысль, коренящаяся, начинающаяся в бытии, несущая в себе это неустранимое начало, равно как и бытие, чреватое мыслью, но не исчезающее в ней, требует изменения понятия и самого феноменологического базиса мышления. Новую феноменологию онтологической мысли Шеллинг искал сначала в искусстве. Ho на последнем этапе философствования он поставил в центр понятия мифа и откровения, издавна определявшие его интуицию. Предпосылки новой формы философии Шеллинг нашел в мифе как общечеловеческом предании первобытного божественного откровения. Чистая же, интеллектуально просвещенная форма откровения бытия явлена христианством, которое поэтому и должно быть предположено философской мыслью в качестве своего истинного сверхмыслительного начала. «Поэтому я думаю, – заключал И. Киреевский, – что философия Немецкая в совокупности с тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древне-Русской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума»208208
Киреевский И. В. Указ. Соч. С. 264.
[Закрыть].
Эти новые начала открыты теперь и осмыслены предельно образованным и философски рафинированным разумом, а потому оказываются подлинно философскими началами. Вместе с тем по своему сокровенному смыслу начала эти остаются доступными всякому верующему сердцу, ибо они соответствуют его глубочайшему «сокровищу». Верующему разуму оказываются доступны и зримы недра вещей, ибо само умное зрение в этом случае, как писал П. А. Флоренский, «определяется живым и творческим актом веры, который в свою очередь зависит от целостной системы нашей мысли, или, точнее и глубже, – от строения нашего духа, – определяемого в последней глубине абсолютною реальностью, на которой ориентируется наше сердце»209209
Флоренский П. А. Из богословского наследия. С. 226 ( Флоренский П. А. Философия культа. С. 268).
[Закрыть].
Таким образом, разум своим собственным ходом вовлекается в нечто глубоко жизненное, «практическое». В своем естественном философском усилии собрать себя воедино и обосновать собственные основания разум столь же естественно находит в качестве такого обосновывающего основания нечто вне– или сверхразумное, бытийное, что дается ему как внешний регулятив и пронизывает его сокровенным смыслом. Разум не просто удостоверяет веру, как бы отсылая к ней как началу начал, он целиком, во всем своем составе внутренне преобразуется, становится верующим разумом, обретает ту «внутреннюю силу ума, которая в предметах живого знания, превосходящего формальность логического сцепления, совершает движение мышления, постоянно сопровождает его, носится, так сказать, над выражением мысли и сообщает ей смысл, не вместимый внешним определением, и результаты, не зависимые от наружной формы»210210
Киреевский И. В. Указ. Соч. С. 263.
[Закрыть].
Разум находит в средоточии собственной истины ее трансцендентный корень и укореняется в самой Истине, которая в нем уже не обосновывается, а раскрывается. Разум становится самим собой, обретает сущностную целостность, возвращает свое целомудрие, сосредоточиваясь во всеобъемлющем созерцании веры, а отсюда, стоя на этом основании и проникаясь самой откровенной Истиной, объемлет весь состав личности, образования, умений. Так вера вразумляет сам разум, а верующий разум осмысляет, делает разумной и цельной всю жизнь человека. Подобное понимание разумной личности и верующего мышления И. Киреевский нашел в православии и конкретнее – в христианском святоотеческом учении211211
Там же. С. 239.
[Закрыть].
Нетрудно отсюда заключить, что в основе всякого умонастроения и всякой философии – будь она мистическая, рациональная, материалистическая или даже атеистическая – лежит особый, религиозный по природе опыт, ибо «философия… рождается из того особенного настроения разума, которое сообщено ему особенным характером веры»212212
Там же. С. 246.
[Закрыть].
Итак, мы можем выделить три основные грани верующего мышления, три его внутренне связанных определения. Во-первых, это мышление не отвлеченное, не самостийное, а как бы встроенное в жизнь веры, внутренний опыт которой им раскрывается. Во-вторых, это живое знание, экзистенциально осмысленное, не функция обособленного познания, а умное раскрытие целостной личности. В-третьих, это цельное знание, пронизывающее и собирающее воедино все способности человека – познавательные, эстетические, волевые – и все его занятия. Философия оказывается посредником между центральным средоточием сверхразумной веры и многообразием в неразумной жизни.
He будет большой смелостью утверждать, что, следуя И. Киреевскому, мы подошли к уяснению самого начала русской религиозной философии как философии. Первым развитием идей И. Киреевского представляются нам философские разработки В. Соловьева в 70-е годы («Критика отвлеченных начал», «Кризис западной философии», «Философские начала цельного знания»). Высшее единство в сфере знания, определяемое теологическим или мистическим началом, В. Соловьев называет, в частности, свободной теософией. «Свободная теософия или цельное знание, – пишет он в «Философских началах», – не есть одно из направлений или типов философии, а должна представлять высшее состояние всей философии как во внутреннем синтезе трех ее главных направлений – мистицизма, рационализма и эмпиризма, так равно и в более общей и широкой связи с теологией и положительной наукой»213213
Соловьев В. С. Соч. Т. 2. С. 194.
[Закрыть]. Три составные части свободной теософии составляют традиционно логика, метафизика и этика, только определенные как органические, что значит опять-таки – охваченные высшим теологическим единством.
He составит особого труда отыскать соответствующий ход рассуждений, обнаруживающий религиозный корень любой серьезной философии и выводящий именно христианскую философию в качестве высшей формы жизненного разумения у других русских мыслителей этой традиции. Разумеется, здесь кроется множество разных оборотов мысли и новых фундаментальных понятий. Всеединство – коренное понятие позднейшей метафизики, соловьевская историософия, софиология С. Булгакова, символизм и философия культа П. Флоренского, апофатический панентеизм С. Франка – все это должно было быть открыто и развито, но открыто в том, же начале, выращено из этого же корня: как разносторонние и разнонаправленные раскрытия опыта православной веры, изнутри вразумляющей философский разум. И добавим, превращающей его в нечто другое, чем философия214214
«Проблематичность – такова природа всякого объекта философии: любовь выражается здесь в философском сомнении и рефлексии, в вопросительном знаке, поставленном над данным понятием и превращающем его в проблему… В этом своем проблематизме философия по существу своему есть неутолимая и всегда распаляемая „любовь к Софии“: найдя удовлетворение, она замерла бы и прекратила бы свое существование» (Булгаков С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. Сергиев Посад, 1917. С. 76).
[Закрыть]: в теософию, историософию, софиологию, символологию, мифологию…
Остановлюсь здесь только еще на одной, на мой взгляд, весьма существенной работе, имеющей, как увидим, прямое отношение к нашему спору. В 1920 – 1921 гг. С.Н. Булгаков написал книгу, изданную впоследствии на немецком языке и лишь недавно опубликованную по-русски, – «Трагедия философии»215215
Булгаков С Н. Трагедия философии // Вестник РСХД, № 101-102. Париж; Нью-Йорк, 1971. С. 87-108 (см. также: Булгаков С. Н. Философский смысл троичности // Вопросы философии. 1989. № 12). Полностью «Трагедия философии» опубликована в изд.: Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 311-518.
[Закрыть]. Речь здесь, как и у И. Киреевского, идет о внутренних границах разума, открытие которых делает его впервые философски озадаченным.
Философию С. Булгаков понимает как стремление «голого» разума к построению рациональной метафизической системы. Рациональной – значит, монистически развернутой из собственноумно установленных начал, всюду для себя прозрачной системы универсального знания. Центральный парадокс систематической мысли (метафизики) С. Булгаков видит в том, что, будучи мышлением кого-то, о чем-то и зачем-то, она, тем не менее, не может по замыслу своему ничего принимать в качестве данного и заданного – внешне или внутренне, натурально или откровенно. Начинаясь и развертываясь в определенном опыте, с определенными предпосылками, систематическая мысль хочет получить все данное как бы из собственных рук, понять из оснований, ею самою обоснованных, увидеть изнутри собственного мира.
В таком виде философия оказывается прямым соперником богословия и соответственно религиозного (впрочем, и всякого жизненно мудрого, опытного) мировоззрения. В гордой претензии выдумать весь мир из себя, вычислить и дедуцировать все его тайны отвлеченный (от реального опыта жизни в мире) разум натурально терпит крах, мягко говоря, впадает в заблуждение. История философии и есть не что иное, как история такого рода рационалистических блужданий и неизбежных крушений: трагедия человеческого самомнения. Философы, такие как Гераклит или Платон, порою сознавали трагическую обреченность философии. Вот и Кант «подошел к самому краю бездны в своем учении об антиномиях и остановился»216216
Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 314.
[Закрыть].
Опыт жизни в мире, опыт бесконечного и таинственного содержания, захватывающий всего человека – телесно, душевно, страстно, – опыт, в который с самого начала погружена мысль человека, не может ею игнорироваться. Это мысль понимается изнутри опытно переживаемой жизни, а не жизнь конструируется мыслью. Всякому разумному познанию предшествует самооткровение сущего. «Эмпиризм есть настоящая гносеология жизни, откровения тайн, каковым всегда является познание действительности и мышление о ней»217217
Там же. С. 315.
[Закрыть]. Опытность мысли, т. е. умение принять во внимание, включить в понимание тайну вне мысленного, непостижимого бытия, с одной стороны, и метафизическая идея знания – само основательного, всеобщего, необходимого, предполагающего полную автономию мысли, – с другой, противоречат друг другу. Ho по отношению к изначальному опыту основание, обеспечивающее универсальность, всеобщность метафизической мысли, всегда есть абстракция, упрощение, произвольный выбор и догматическая абсолютизация какой-то стороны. Если полагать, что бесконечное содержание полнее всего дано в мистическом опыте веры и как-то схвачено парадоксами ее догматики, то вся история философии – точнее же сказать, метафизики – представляется историей его односторонних рационализаций. «В этом смысле история философии может быть показана и истолкована как религиозная ересеология. Философская характеристика ереси в истории христианского богословия состоит именно в том, что сложное, много мотивное, антиномическое для разума учение упрощается, приспособляется к постижению разума, рационализируется и тем самым извращается»218218
Там же. С. 317.
[Закрыть].
В отличие от И. Киреевского С. Булгаков подходит к делу не историко-философски, а собственно логически, путем анализа формы первичного суждения-высказывания.
Если представить элементарное онтологическое суждение в виде «Я есмь нечто», можно заметить, что бесконечность содержания таится здесь во всех трех моментах. «Я» – это бытийное место-имение, «мистический жест», указующий не сказуемый субъект, сокровенное под-лежащее, существительное. «Нечто» – сказуемое бытие подлежащего существительного, как оно сказывается, чем оказывается. «Есть» – субстанциальное бытие, жизнь сущего как связь изречения и молчания, сказывания и сокровения, явствования и мрака219219
Детальнее этот лингвоонтологический анализ предложения выполнен С. Булгаковым в его поздней (1953 г.) работе «Философия имени». См.: Булгаков С. Н. Философия имени. Paris: YMCAPress, 1953. Ч. 11. Речь и слово (см. так же: Булгаков С. Н. Философия имени. Б. м. Изд-во «КаИр», 1997).
[Закрыть]. Таковы три «ипостаси», три «корня бытия» или троякое раскрытие изначальной онтологической тайны: ноуменальное Я, не сказуемое подлежащее Я сказуемого, собственное имя этого местоимения, реальный субъект разумения, не совпадающий с логически определенным субъектом; «нечто», «не-Я», бытийный «субъект» всего высказывания, опровергающий и исключающий первый, другое подлежащее всего высказывания, представляющее онтологическую природу первого субъекта; само бытие как связь, как сказанное единство логически и онтологически расчлененных субъектов, связь как осмысленное событие бытия, а не пустая связка высказывания. Онтологическая троичность, отвечающая троичности богословской: Отец – Сын (Слово) – Дух (Связь). Вот что сказывается в онтологическом суждении, и вот что утаивается в нем.
Философия же (метафизика) отрекается от этого триединства и уклоняется в сторону так или иначе истолкованного единства, но вместо единицы каждый раз получает нуль. Мысль как таковая во всем ее логическом систематизме и метафизической универсальности есть сказуемое и только сказуемое. Ее собственное строение, где «Я» и «не-Я» противоречат друг другу, а связка «есть» противоречит этому их противоречию, указует на несказанное, трансцендентное подлежащее. «Сверх – или внелогический исход мысли оказывается и анти логическим, иначе можно [это] сказать, что предмет мысли – субстанция, сущее – не имманентен мысли (…), но ей трансцендентен, представляет в отношении мысли заумную тайну, которую нащупывает и сам разум, ориентируясь в своих же собственных основах»220220
Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 327.
[Закрыть]. Таким образом, на место догматического рационализма, лежащего в основе ересей, встает «критический антиномизм»221221
Там же. С. 328.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?