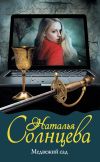Текст книги "Синий туннель"

Автор книги: Евгений Савойский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Копеечных? – спросила Юля.
– Не знаю. Даже если и копеечных, то их настолько много, что хватит всем и надолго. Я одна побоялась туда лезть.
– Мы хотим полезть туда все вместе, – беспечно сделал вывод Рон.
Я понял, что Марина уже заранее рассказала Рону об этом монетном тоннеле, и вывод этот давно уже колотился в безмятежной Роновой голове, просто сейчас подвернулся случай выпустить этот вывод вслух, наружу.
– Я с вами не смогу, – сказала Катерина голосом мамы, понимающей всю нашу безделицу, но участия в ней не принимающей. – Мне, правда, пора идти. Спасибо, – напоследок сказала она еще раз.
И в самом деле, ушла. Я даже не успел проводить взглядом ее взросло-девичью красу. Мне стало вдруг тошно – а вдруг я ее больше не увижу? Она пришла миражом, стала на мгновение человеком – и ушла опять миражом. Кто она, что она, откуда знает Ляндиниса? И Ларису она знает, как будто бы учительницей в той школе работает, но я уверен, что она не учительница, я бы такую обязательно встретил хотя бы раз, обязан был хотя бы раз увидеть. Ну а она… она ушла, и на ее месте вдруг сразу появился Левый. Так появился, будто он и был Катериной, но сейчас почему-то решил снять и оставить за дверью женскую кожу и мистическое очарование спелого плода. Юля подчеркнуто долго на него глядела, подчеркивая мне какую-то свою цель. Левый же, со всеми поздоровавшись, со мной и Роном рукопожавшись, встал за барабан, никакого стула или ведра для барабанщика мы не имели, и стал играть самый ненавязчивый ритм, на который только был способен барабан. На меня он не смотрел, как будто он виновным в чем-то был, хотя вины на нем нет. Он больше смотрел на Машу, выражая взглядом и блюзовой мелодией ударных свое сочувствие. Наверное, из-за Левого я тоже стал большую часть времени отдыхать глазами на Маше. Мы, трое, (Я, Л, М) погружены были в свой, у каждого особый, молчаливый транс, пока трое других (Р, Ю, М) обсуждали денежный тоннель, разбавляя сие обсуждение громадными, к нему не относящимися вставками.
Р: Жрать хочу. Навернуть бы щас супа с пельменями.
Ю: Лучше овощи, салаты, а то пузо вырастет, как у всех мужиков.
Р: Я тебе что, артишок? Лучше уж пузо, чем смерть.
Ю: Лучше уж смерть, чем пузо!
Р: Вегетарианша злая, вот кто ты! Мужик агрессией мяса вас пленит, завоюет и простит. Трава на лужайке – для зайчиков махровых!
М: (следя за игрой Левого) А в вашей группе не менялся состав. (Левому) Я не к тому, ты очень хорошо играешь!
Р: (все о своем) Страшну тайну тебе открою, Юла-юла, пельмени можно даже и без супа есть. С маныезом. А лучше – и кровавее – с кетчупом! Кетчуп – есть более агрессивная форма майонеза. Майонез может исправить проблему в жизни, но сделать тебя по-настоящему злым или счастливым способен только кетчуп.
Ю: Чегоо?
Р: (отвечая М) У нас до Левого был средний Базилик. (В ответ на непонимающий взгляд М) Базилик – это Вася, наш почти по-тарелочке-барабанист. Он уехал в Орёл не так давно. Неплохой был парубок, но для группы нашей так даже лучше. (На манер лозунга) Левый лучше всех!
(Подтверждающий, протяжный звон тарелочки)
Ю: (вторгаясь пальчиками в мои ладони) Как твоя шизофрения?
Р: (уверенно) Заживает.
Ю: Я тогда выкину этот подорожник. (Выбрасывает в сторону).
М: (по делу). Давайте собираться, что ли?
Р: На поиски клада?
М: Да. К туннелю. Я бы и одна, но мне страшновато.
Р: Я Шарик. Ты дядя Федор. Юла – Матроскина.
Ю: Ты не Шарик. Ты собака.
Р: (задумываясь). Да. Я ужасный человек.
Ю: Тебя надо убить гаечным ключом. (Озирается по сторонам в поисках ключа).
М смотрит на М и кивает Р и Ю плечами, мол, слово «убить» сейчас лишнее.
Внезапно витиеватое соло барабана меняет тему разговора.
Ю: А как у тебя на личном фронте. А?.. Брониииик?!
Р: (после паузы) Мы играли в города. Я, Мария Магдалина и Соня Мармеладова, но вместо городов у нас были венерические болезни. И я победил.
Ю: (с презрением) Все с тобой ясно.
М: (понимая всю бездельность и бесцельность нынешнего бытия, с явным намеком) А как вы относитесь к пустым разговорам?
Р: Я? Ох, как ненавижу говорливых, ах, как ненавижу! Говорят о своей пустой ерунде бессмысленной, многословно говорят, говорят, говорят, не остановишь разговоры их, без капли смысла разговоры, скучные, неумные, неуемные, проблемы их никому не интересные в разговорах их, ох, самоповторы бесчисленные в их разговорах, ругательства они бездарно применяют, слова ими связывают. Беспомощны в жизни они, ох, как беспомощны, а со слов их, с поведения – всемогущи-то как, батюшки, невероятно всемогущи! Тараторят о бедности своей любимой, тараторят о работе вынужденной и глупой, ох, как это долго продолжается, не остановишь их, не грубый ты, слушаешь и слушаешь их, как бы, о своем интересном думаешь, сам бы не стал бы столько слов пустых говорить и разговаривать ими, как они, понапрасну повторять бы их не стал бы ты, не стал бы, ой-ой-ох, не стал бы ты.
Ю: Надо развиваться, чтобы разговоры пустыми не были.
Р: Скажи-ка как? Послушаю-ка лишний раз про то, как надо развиваться, вместо того, чтобы развиваться.
Ю: Не буду. Не здесь. Как по мне, глупо, что все мы здесь, а репетирует только Витя.
Р: Меня это все устраивает.
Ю: А меня нет. Я хочу уйти.
(Внезапная тишина, затем чье-то урчание в животе)
Р: Извините, я просто голоден. (оборачиваясь к Ю) Можешь идти куда подальше, но раз тебе все равно, то принеси, пожалуйста, скороводку. Там котлетки. Я жрать хочу. Я тебе ключи от хаты дам. Там только батя, пьяный, спит.
Ю: (качает головой) Я ухожу. (обращается к Я). Встретимся позже у пруда, хорошо?
(Я кивает головой)
Р: Давай тебе напоследок анекдот про Пиноккио расскажу. Хочешь?
Ю: Нет.
Р: Правда, что длина мужского достоинства сопоставима с длиной носа? – спросили у Пиноккио. Правда, ответил Пиноккио, и после этого у него вырос нос.
(Простенькая игра на барабане разбавляется жиденьким смехом носатого барабанщика)
Ю: Я ушла. (Ю ушла).
Р: (словно очухиваясь). А вы, девчонки, правы. Пойдем клад искать? Прям щас?
М: (радостно сжимая кулачки). Да-да, идемте!
(Ударные становятся тише, блюзовые ноты сменяются джазовыми)
М: (радостно) Время собирать деньги!
Р: (как всегда) Время собирать камни.
(Блюзовые ноты сменяются джазовыми, только чтобы исчезнуть совсем)
42
Мы все пятеро сели на автобус. Номер его, желтый, на черном фоне – 76. Уже через семь минут мы на нужной нам остановке. Улица Карла Либкнехта. Социализм, думаю я, не умрет до тех пор, пока останется хоть одна улица, названная по его лекалам. А в Брянске почти каждая первая улица – социалистическая. Во времена нынешнего капиталистического курса это выглядит совсем сюром. Вечный 1984 год на Брянщине. Ну да ладно.
Нас пятеро. Три мужчины, две женщины. Это плохо. А ведь сегодня мы имели ситуацию из четырех женщин и двух мужчин. Почему плохо? Ну вопроса такого у меня не стоит, в свете моего сегодняшнего откровения. Со мной и сейчас, где-то надо всеми прочими мыслями, пребывает синяя, музыкальная и неуловимая женщина, и эту бесконечно свою женщину хочется усилить, вкусить, «уловить», в конце концов, а сделать это быстрее можно только имея рядом с собой как можно больше женщин из молодой плоти. И чтобы соответствовать своему открытию, я стараюсь шагать между Машей и Мариной, но время от времени между мной и Мариной вклинивается Левый, и тогда я стараюсь всеми путями сузить пространство меж Венерой и Афродитой, чтобы одному только Марсу, в виде меня, было уготовано меж ними место. Получилось у меня так единожды, в самом конце пути, к сожалению, когда мы уже оказались возле туннеля.
– И «это» ты называла тоннелем? – выпучил глаза Рон. – Риша ты Мариша, энто самый обыкновенный люк!
– Нет, – сказала Марина так, как будто бы «да». – Неет! Я бы люк узнала, я не настолько глупая.
– Это люк, – уверенно сказал Левый. Он, кстати, не Маша, он всегда малословен.
– Обычный люк без крышки, – сказал Рон. – В первый раз, что ли? Это ж Брянск! Необычно, если люк с крышкой.
– Открытый люк технически является тоннелем, – сказал я.
– Аааа, не путай, – скрючился Рон. – Что горизонтально – то туннель, а вертикально – то люк.
Но лицо Марины чуть повеселело, будто б моя фраза ободрила ее. Уже рад, что реплика моя хотя бы не была впустую.
Про траурную Машу можно забыть, но она все еще здесь, все время с нами, тихий ангел. Ее Лиза называла болтушкой, и по делу, но сегодня она разговорчива прямо как Левый. Я вот что подумал, и это напугало меня: а вдруг смерть Саши Рори была воспринята ими, как настоящая трагедия? Ну Маша, это понятно, она с Сашей встречалась, но вот Левый-то куда? Не помню, чтобы он с Рори дружил. И еще Линдянису надо стихи показывать. Тот тоже будет в трауре. А чтобы стихи показать, их еще нужно написать. А писать я не хочу, я только о женщинах теперь могу писать, а тут? Воздвигнуть памятник мужчине? Врагу? Нет уж! Раз уж я дал обещание Катерине, то ради нее, ради ее красоты, я согласен воздвигнуть – но не памятник, а скелет, как у той церкви, которую у нас на районе строят.
Со стороны я, наверное, казался мрачным. Молчаливым-то точно. «Разговорчивым, как Левый» и проч. Поэтому ответственность за вслух произносимые слова в нашем квинтете упала на плечи Рону и Марине.
И они ответственно решили не произносить их в обилии.
Они уже стояли у входа в туннель. Было довольно жутко.
– Дамы вперед, – сказал Рон.
– Шутишь? – отозвалась Марина. – Я вас и позвала оттого, что мне страшно. Вам не страшно?
– Мне – нет.
– А вам? – Марина повернулась к немым.
Мы, немые, стояли чуть поодаль. Левый пожал плечами, Маша кивнула, я же подошел к самому краю тоннеля и посмотрел на запорошенные быстро тающим снегом и монетами трубы. Обычные трубы обычной канализации, но действовали они сейчас почему-то удручающе. Я даже как-то не мог сосредоточиться на, собственно, цели нашего сюда визита – на монетах. Марина не врала, их в самом деле было очень много, но не думаю, что их хватит «всем и надолго».
Я вдруг понял. Наш страх был вызван пустотой железной дороги. А я свои, да и чужие жуткие мысли стал связывать с убийством в туалете. Что за дурак? Надо бы, решил я, перед самим собой как-то реабилитироваться. И как по велению судьбы сердце мое оказалось окутанным не то облаком, не то пеленой. Я решил назвать это состояние «равнодушием героя».
Назвал и тотчас опустился в люк.
– Ну, почему ты, ну… – расстроился Рон.
Его недовольство понятно – я же украл его лавры.
– Ты же так одежду испачкаешь, – сказала Марина так, будто бы на мне была ее одежда.
Одежду я и вправду испачкал, но решил не мучиться от этого угрызениями совести. В люке я словно бы очнулся, кровь разгорячилась, как на войне, хотя на войне я ни разу не был. Под ногами было горячо, но мне хватило ума не становиться на трубы подошвой ботинок. Я стал подбирать монеты, рассматривать их. Достоинства они были разного. Больше всего было пятидесятикопеечных, меньше всего – пятирублевых. Логика в этом какая-та есть, подумал я и привязал эту мысль к тому самому вселенскому и непостижимому замыслу. Некоторые монеты были холодными от еще не успевшего растаять снега, а некоторые – горячими от труб. Какие-то даже прилипли к трубе и растаяли, как шоколадные. Я повертел монетки в руках, и не сразу, но заметил, что к моим пальцам прилипла краска. И эти растаяли, решил я. Я взглянул наверх, на свет. Четыре головы смотрели на меня, как наверное смотрят на лежачий труп солдата. Но голова Рона, если делать рейтинг веселья, была самой веселой из них. Я согнулся к монетам, которые полностью были погружены в водянистое снежное одеяло. Краска снежных монет тоже прилипла к моим ладоням. После этого я вспомнил, как вчера расплачивался в автобусе, когда уезжал из школы. Тогда с одной из монет тоже слезла краска. Вспомнил того, кто мне давал эти монеты, и в моей голове родилась блестящая теория.
Я в охапку подобрал несколько монет и стал вылезать из люка. Пока я лез, одной рукой держась за поручни для ремонтников, а другой держа монеты, вниз мне раздавалось:
– Почему так мало? Там же много, бери больше!
– Сейчас сюда кто-либо опустится и все заберет, меценатом себя воображаешь?
Я сунул в руки Рону все монеты. Некоторые упали и затанцевали на асфальте. Их подобрала Марина и так же, как и Рон, стала рассматривать. Она же первая заметила краску на своих ладонях.
– Что с ними? – спросила она голосом испачкавшейся чистюли. – Почему они такие?
– Они все там такие? – потрясенно спросил Рон.
Я оглядел свою кожаную куртку. Вся в грязи, хорошо, что я сегодня ее застегнул, иначе бы и свитер пришлось бы стирать. Не думал я вчера, что и сегодня мне придется стирать.
– Монеты – фальшивые, – наконец сказал я. – Все. Поэтому их и выбросили в люк.
Лицо Левого и личико Маши, оба понурые, оживились. Но этого внутреннего оживления оказалось недостаточно для того, чтобы их губы открылись и изо рта воробьями посыпались вопросы. Но у Рона внутреннее оживление присутствовало всегда.
– Кому придет в голову подделывать монеты? Они же не золотые.
– Бумажки нужно печатать, сторублевые, – подтвердила Марина. Неумышленно, но ее голос будто бы призывал к фальшивомонетчеству. Я невольно улыбнулся и взглянул на нее по-другому. Она была совсем юной, самой юной из тех, что мне нравились, и была, разумеется, красивой, и красота ее была приятной сладостью, ничего терпкого от Екатерины в ней не было, не те еще годы. Вечная розовость щек и ее полуобиженные интонации только сейчас умудрились пристроиться рядом с моей синей музыкой в душе, не в самой ее глубине, но очень близко. Я подумал о глупых романтичных вещах, появившихся во мне, когда я впервые почувствовал к Марине симпатию. Следом подумал о Юле и своем обещании… Что ж, милый Бог, кое-что сделать с моей Юлей я смогу только завтра. Извини.
– Я расскажу только вам, Марина… Риша, только вам. Извините, друзья, – обратился я к остальным.
Левый и Маша все еще молчали, и это вызывало какое-то подозрение, а Рон, с лицом поэта, нашедшего новую рифму, сказал им:
– Ничего он не знает. Он тащит в пропасть Ришу. Пошли обратно.
Левый и Маша сразу же пошли, а Марина замешкалась:
– Куда? Какая пропасть? Ты… – Она взглянула на меня внимательнее. – Я думаю, что где-то тебя уже видела…
– Пропасть! – крикнул Рон в ухо Риши. Та, понятное дело, вздрогнула, и обернулась к Рону с заготовленными ругательствами.
Но спина Рона уже шагала вровень со спинами Левого и Маши. Марина в непонимании вздохнула и повернулась ко мне, чтобы услышать:
– Давай погуляем по железной дороге? Станцуем на снегу. Согласишься?
Она еще раз посмотрела на Рона и тихо сказала:
– Это и есть твоя пропасть? – Она была явно чем-то расстроена.
Я, решая, что ее расстройство связано все-таки с пустотой собственной находки, а не с предостережением Рона и моим приставанием, стал приободрять ее:
– Я тебе скажу, кто подделывает монеты.
Она, стесняясь, улыбнулась:
– Я не жадина, но мне нужны монеты, а не преступник.
Я, веря в лучшее, посчитал, что ее слова связаны не с обычной меркантильностью, а с чем-то большим, поэтому спросил напрямик:
– Если тебе нужна помощь, я помогу. От тебя я хочу лишь немного времени и следов твоих ног у железных дорог.
Она улыбнулась уже более расковано:
– Ты действительно поэт. – Это не вопрос. – Пойдем.
Мы перешли на железнодорожные пути. Наш люк был точным центром меж железных дорог, от него до любой ветки десять моих шагов и семнадцать Марининых. Я не считал, назвал примерно, навскидку. Мы стали бродить, молча, пока она не спросила:
– Так кто же, по-твоему, подделывает монеты?
– Лев Ляндинис.
Она аж остановилась.
– Зачем?
Я продолжал путь, и она была вынуждена поспешить за мной.
– Я постараюсь узнать об этом завтра, – сказал я, – когда принесу ему свой стих.
– Почему ты решил, что именно он?
Я не смог придумать отговорку, чтобы скрыть свое участие в «кружке», но и врать я тоже не хотел. Поэтому я пообещал Марине, что правда вскоре откроется, и все поймут, что именно Линдянис замешан во фальшивомонетчестве, и самой первой поймет она, Марина, потому что она самой первой о моих подозрениях и узнала.
Я хотел проследить ее реакцию на мои слова, но, шагая сбоку, я мог видеть только ее рыжую косу, которая скрывала ее лицо подобно откровенной одежде, скрывающей тело. То есть, я видел лицо Марины, но саму его суть я увидеть не смог.
– Вообрази себя канатоходчицей.
Она засмеялась.
– Предсказуемые слова ты не говоришь из принципа, да?
– Для меня все мое предсказуемо. Я имею в виду вот что – стань на рельсы, как на бордюр, и возьми меня за руку.
– Ах, вот оно что! – улыбнулась она. – Канатоходчица. И впрямь!
Она выполнила мою просьбу, таким образом, я, шагая впереди, был к ней полубоком, и мог видеть и читать ее лицо, следить за глазами, за крыльями носа, трепещут ли они еле-еле уловимо от какого-либо волнения. В данный момент ее носик краснел от сырости. Ноги ее, в сапожках, с изяществом балерины, играющей в классики, опускались на рельсы, пока мы шагали вдоль низкорослых полузаброшенных застроек, которые, как мы, брянчане, знаем, предвосхищали вокзальную платформу.
– Я обещаю тебе, Риша, – сказал я, – что ты первой поймешь, что Ляндинис фальшивомонетчик.
В одних ее глазах я прочитал несогласие с моими подозрениями, смешанное с подчинением той уверенности, что звучит в моем обвинении.
– Почему ты так хочешь быть правым? – спросила она. – Тебе так сильно не нравится Линдянис?
– Отчего же не нравится? Может, мне как раз и нравятся фальшивомонетчики.
– Но почему именно он? И почему монеты, а не бумажные деньги? Знаешь, – она замерла на рельсах, – все это настолько нелогично, что мне кажется, что ты чего-то мне не договариваешь. Но с другой стороны, – она вновь пошла, еще сильнее сжав мою руку, – ты и не обязан быть со мною искренен…
– Верно, не обязан. А ты обязана пооткровенничать со мной, и тогда я тебе помогу.
Она вновь остановилась.
– Это звучит нагло. С чего ты решил, что мне вообще нужна помощь?
– Тебе нужны деньги, и если я узнаю на что, я найду их для тебя.
Она покраснела, и не от сырости воздуха, и выпустила свою ладонь из моей. За секунду до этого я ощутил, что пальцы ее стали горячее, нагрелись изнутри невидимой горелкой. Одну свою ногу она держала на рельсе, другую, чтоб не упасть, поставила на шпалу.
– Деньги нужны всем, – сказала она после некоторой паузы.
– Тебе они нужны на что-то такое, что мне интересно будет знать.
Марина уперла руки в бока, по-хозяйски. Я даже на мгновение увидел в ней Юлю.
– Ты Нострадамус? Чтец мыслей? Гу…, го…, как его там…
– Гуддини, – подсказал я.
– …да, Гуддини? Откуда в тебе эта уверенность? И про Ляндиниса, и про меня?
– Но ты же знаешь, что в случае с тобой я прав.
Марина смотрела на меня долго-долго. Ее серые, отливающие зеленью, глаза, точнее, их взгляд в данный момент мог принадлежать следователю или криминологу. Где-то вдалеке прогудел поезд. Это сбросило наш гипноз. Марина стала идти вдоль путей. Я протянул ей руку, указав на ближний к ней рельс. Она согласно мотнула головой и вновь стала моей канатоходчицей.
– Мой отца зовут Семеном, – начала говорить она под раскаты приближающегося поезда. – Семен Семенов, недурно да? Так мой отец любил говорить. А я думаю, что это безвкусно, как и Иван Иванов. Он болеет сейчас, мой отец. Его ранили под Навлей какие-то бандиты. Он не любит говорить об этом, я не знаю, как и кто. Отец просто говорит, что работа у него такая. Но его принятие не может утешить нас с мамой. Первые дни, когда его ранили, мы очень испугались, но рана была неопасной, врачи нам говорили, что все заживет быстро. Но в организм что-то попало, вредное, началось заражение. В этом вся проблема. У нас нет денег на операцию. Его могут прооперировать в Москве, но с этим не надо тянуть.
– Сколько денег тебе нужно?
Марина назвала сумму и продолжила:
– Не так много, да, я понимаю, но я еще не могу полноценно работать, мне восемнадцать исполнится только осенью. А маме тоже нездоровится, у нее варикоз. Она и на одной работе сильно устает, так еще и на подработку хочет устроиться. Поэтому на подработку устроилась я – не хочу для мамы новой усталости. Месяц я искала работу. Брать меня из-за моих семнадцати лет нигде не хотели. Вот, бистро на «Мечте» недавно открылось, мне повезло туда устроиться.
Я опустил ее руку и замер. Она пошатнулась, но стала ровно на шпалы – если бы я знал, что она упадет, я бы не выпускал ее руку.
– Я работаю там официанткой, – сказала Марина так, словно бы мое ожидание именно этой информации вынудило меня остановиться.
– Все-таки пора сойти, – сказал я, имея в виду «сойти с путей». И мы сошли с путей и стали меж двух железных дорог, пребывая в молчании, будто давая время высказаться поезду.
И тот не замедлил себя ждать. Его рокочущая мелодия жанром «индастриал» пронеслась в моей голове, а следом, перед нашими глазами, пронесся он сам. Зеленый, с двумя полосами в середине и потными окнами. Все люди, чьи локти или иные их части были у окон, казались землистого цвета. Небо над нашими головами стало сероватом. Солнце куда-то спряталось, хотя тучи и облака, созданные как раз-таки для уединения солнечного диска, были где-то в другом месте, и спрятать наше солнце не могли.
– Ту-ту, ту-ту. Ту-ту, ту-ту, – повторял поезд и скользил по рельсам старым змеем.
Я подождал, пока его речь станет настолько тихой, что позволит мне говорить не поднимая голоса, и после этого тихо сказал:
– Я постараюсь не тянуть. Я помогу тебе. Мне не сложно.
– Я буду… мы будем очень рады, – с чувством сказала Марина. Свет ее розоватых щек стал объемнее – могу это сравнить только с девочкой, символизирующей Благодать, у которой вырастает грудь.
– Как все будет, я найду тебя или в школе или в бистро.
– Да… Спасибо… Но ты… ты не обязан этого делать, – сказала Марина смущенно, проверяя серьезность мною сказанного.
– Конечно, не обязан. И, честно, мне даже не жалко твоего отца. Просто в моем сердце появилось желание дать какое-нибудь обещание и благодаря какому-то небесному ходу крота – крота, а не коня – я решил дать обещание именно тебе.
Странная, ранее не виданная мной эмоция отразилась на лице Марины – мне было приятно видеть, как ее уже изученные мной черты в том же количестве и в том же порядке дали новую сумму. Я знал причину нового лица и поэтому сказал:
– Я могу повторить – мне не жалко твоего отца. Жалость должны вызывать только слабые. А твой отец… пусть он остается сильным.
Зеленое в ее серо-зеленых глазах стало насыщеннее, и сами глаза стали дождливее. Растрогана бедная девчонка… Как добрый человек, коим я не являюсь, я протянул Марине руки для объятий. Мы обнялись, и довольно тепло. В мои ноздри попал снег с ее рыжих волос. Я поцеловал ее в щеку – увы, мои губы ничего соленого не почувствовали. Ее слезы так и остались в глазах. А я уж успел представить на губах вкус соленой воблы к пиву. И этого мимолетного и низкого сравнения оказалось достаточно, чтобы во мне исчезло возвышенное чувство. Я не хотел видеть красоту Марины. Мне сейчас не нужна красота женщины, оказавшейся столь близко к центру мироздания. Я хотел идти один. Домой. Пешком. И в ад 76 маршрут!
– Спасибо, – только и могла сказать Марина, когда я вырвался из объятий. – Ты все-таки хороший.
– Нет, – сказал я и махнул ей рукой вперед, чтоб она уходила.
Она чуть виновато улыбнулась и пошла, тоже махнув рукой, но в свою очередь, использовав этот взмах в качестве жеста прощания. Ее слабая виноватость и это смирение какое-то, почти как у Лизы, задели меня, изящно полоснув по желудку. Я решил окликнуть Марину и хотя бы на несколько секунд задержать ее, спросив первое, что придет в голову:
– А Маша при тебе сегодня разговаривала?
Она остановилась и развернулась. Нас уже разделяла железная дорога. Марина ненадолго задумалась и ответила:
– Я не знаю ее. Она пришла с Катериной, а потом тут же появился Рон, он нас сразу же повел в гараж… Пока!
Я махнул рукой – сейчас тоже в качестве жеста прощания. Но перед тем, как окончательно уйти, Марина решила сказать:
– Крот, может, и слепой – но он знает, куда идет.
(дорога)
Еще не было и пяти вечера, темнеет сейчас после семи, но в сыром воздухе уже чувствовалось наступление тьмы. Желтая и выглядевшая безжизненной трава кое-где показывалась из-под снега. Новые снежинки кружились в воздухе, совсем как старые, и их легко было принять за старые, по одним и тем же траекториям опускались снежинки на разбитую дорогу, осыпая своим не соленым узором мешанину из грязи и талого снега, тоже новую, мешанину то есть, но тоже кажущуюся знакомой, но не приятной знакомой, в отличие от снежинок, а знакомой соседкой, которой непонятно что, но должен. Белый, нетронутый снег, и смешанный с грязью, серый обнимали мою ходьбу у рельсов. Я смотрел на разные снега и думал – кто-то из них не успел уйти? Или кто-то пришел слишком поздно? Смотрел на снег – ведь его земле обетовало небо, что у него во чреве. Поистине, нет лучше замыслов безмерной щедрости Владыки! Он дал мне инструмент видеть красоту даже в мрачном городе заводов и железной дороги с его нечистотами, внешними и внутренними. И ощущение этой странной красоты; и знание, что есть где-то города, более радостные, более понятные и сильные в своей красоте и более величественные в своей истории; и надежда, что ты можешь оказаться в одном из этих городов со своей любимой женщиной – эти три вещи воистину способны поднять настроение. Мне, кстати, они ничего не подняли, а только возвеличили меня в моих собственных глазах. Или подняли и слегка распрямили.
Железная дорога была почти прямой, чуть наклоняясь влево. Редкие фонари не горели, рано еще, но что-то в них все равно отражалось, наверное, это от того, что все в этом мире отражается и, так или иначе, имеет свою тень. Метафизика бесцельной дороги обострила мои слух и зрение. Я даже услышал далеких птиц, что для индустриального района считается надеждой, я видел силуэты чужих домов, белых в тумане расстояния. Я уделил чуткое внимание далекому и не сразу понял, что уже оказался на вокзале. Понял я это, скорее, по зеленому мосту, чем по бирюзовому зданию вокзала с его белым кругом в виде глаза. Проходя под мостом, я остановился. Зеленая краска казалась влажной и не казалась, а была потрескавшейся. Мост над железной дорогой воспринимался мною детским знамением: когда я был маленьким и с родителями проходил по мосту, то часто воображал себя прыгающим с него в пустой вагон товарного поезда или даже на оранжевую цистерну для перевозки нефти, что абсурднее: я очень хотел быть героем. Прыгнуть на вагон, пробраться в кабину машиниста и убить там всех врагов и женщин. И женщин тоже. Я, когда был маленьким, ненавидел женщин. Да. Из-за того, что в фильмах, которые смотрел мой отец, чаще всего погибали мужчины, а женщины отделывались лишь испугом, не легким, но все же. Где справедливость, спрашивал я тогда себя. И только потом понял, где же она. Нигде. И расстроился из-за этого. Потом подумал, что это даже хорошо, что справедливости нет. И обрадовался. Сейчас вот думаю, что справедливость одновременно и есть, и нет, и так для всех и для каждого, и вот не знаю, как к этому относиться.
Я оставил мост за собой. Прошел мимо вокзала. Его затем сменила пустота, а пустоту затем сменили желтые дома, которые затем сменились белыми. Двухэтажные коробочки для обуви с квадратными дырками. Самые нижние дырки уходили под землю и были заштопаны деревянными досками. Один торчащий гвоздь напомнил мне что-то среднее между буквами «Г» и «Л». Эту же букву я увидел в светофоре. Две-три неясные тени игнорировали его, и правильно делали, поездов и машин на переходе не было. Я стал смотреть себе под ноги, и долго. Из первого вида снега – зимнего – я выращивал взглядом Альпы и Эльбрусы. Из второго снега – весеннего – я делал яблони и кусты с неопознанными, точнее, не до конца придуманными ягодами. Додумать я так и не успел, потому что поднял глаза. Забор, отделяющий железную дорогу от прочего мира, сменился колышками, которые скоро исчезли. Начался пустырь, по сторонам которого, в удалении, дымили и не дымили предприятия. Близость заводов, комбинатов, фабрик, цехов и подобного сделала скудость природы в моих глазах богаче. Эти следы природы в городе теперь для меня оказались ближе к девственной природе, чем к городу. И сохраняя это в своей голове, я принял решение расстаться с железной дорогой. Я не сказал «пока!» коричневым рельсам, я молча вернулся к переходу, с его ранее примеченным мной светофором, и вышел на дорогу, на улицу Карла Либкнехта, чтобы затем на улицу Почтовую, а по ней прямым путем до своего дома.
Когда я оказался в комнате, сумерки на улице уже грозили ветреной ночью. Я включил свет и стал искать пистолет, не надеялся его найти и не нашел.
– Он там, где синтезатор, – сказал я вслух.
Я вспоминаю все то, о чем хотелось вспомнить, и сажусь за написание стихов.