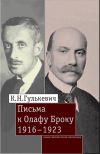Текст книги "История с географией"

Автор книги: Евгения Масальская-Сурина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 13. Январь-февраль 1910. Тревоги Алексея Александровича. Туровские рукописи
Когда мы с Витей вернулись в Крещенье из Петербурга, мы нашли Тетю с Оленькой очень довольными своим времяпрепровождением. Они теперь вполне освоились с Минском. Их постоянно навещали друзья. Уже не говоря об Урванцевых, Сумароковой, Вощинина, M-elle Descamps, радушных и внимательных обитателей того же «Гарни», но к ним постоянно заезжала О. К. Родзевич петь с Оленькой дуэты, Чернявские – читать свои поэтические произведения, Кологривов с Богданович (если приезжала из Старых Дорог) делиться с Тетей своими проектами о воспитании и образовании народа, и, в особенности, Сарнева, одноклас сница Оленьки по Екатерининскому институту. Очень любезная, ласковая, веселая Лидия Николаевна вместе с Оленькой брала уроки по деланью искусственных цветов и вместе рисовали.
Но, конечно, более всего радовало Тетушку то, что Скрынченко напечатал в Приложении Епархиальных Ведомостей ее рассказы: «В церкви, школе и дома», беседы о христианском воспитании народа. То было несколько рассказов в переделке с французского «с прибавлением своих мыслей». Каюсь, я не знала даже, какие французские рассказы Тетушка переделывает. Такое невнимание с моей стороны, такое, право, равнодушие относиться к душевной жизни столь близкого для меня человека теперь меня глубоко мучает! Оленька тоже вряд ли выражала тогда сочувствие работе Тетушки, потому что постоянно ворчала, что Тетушка тратит все деньги свои на «это народное образование, а сама сидит без башмаков и ничего не хочет себе позволить лишнего, даже любимых ею тянучек!»
Повторяю, один Леля неизменно показывал большое внимание к ее запискам, проектам, докладам, а также письмам к высокопоставленным лицам, безразлично к кому: Аксакову[201]201
Предположительно, Аксаков Александр Петрович (1850 – 1917), публицист и литератор, или его брат Николай Петрович (1848 – 1909), богослов, историк и исследователь церковного права.
[Закрыть], Хомякову, Гучкову, саратовскому епископу Гермогену или министру народного просвещения. Поэтому, когда Скрынченко принес ей триста оттисков ее бесед, она радостно принялась их рассылать своим «единомышленникам» и писала в это время Леле: «В такие минуты легко умереть, как говорит Огарев в своем стихотворении, положенном на музыку Дяди[202]202
Алексей Алексеевич Шахматов.
[Закрыть] «Как дорожу я прекрасным мгновеньем». Читая эти последние строки, дорогой Леля, ты улыбаешься молодости моей души? Но я радуюсь, что капля моего желания вселить в души священников и учителей сознание нравственного участия Христова для сельского населения упадет на добрую почву, и это меня одухотворяет».
Тетушка действительно была молода душой и в особенности моложе нас; немного позже она писала Леле: «Я понимаю чувство Жанны д›Арк: неотступное желание спасти отечество! Неправда ли, как смешно это желание семидесятилетней старухи? Но дух не старится, а, напротив, крепнет при больном теле; так вчера я чувствовала себя телом не хорошо, не спала ночь и пр., а голова работала, и именно на тему моего проекта сельских школ. До сих пор в Государственной Думе и в Совете этот важный вопрос не обсуждается, как всё, что есть хорошего, а потому скажи, Леля, как мне сделать, т. е. куда обратиться, чтобы ученый комитет рассмотрел этот проект и написал бы программу девятилетнего курса с подготовкой к отбыванию воинской повинности в восемнадцать лет вместо двадцати одного года? Письмо мое к Шварцу[203]203
Шварц Александр Николаевич (1848 – 1915), российский филолог-классик, заслуженный профессор Московского университета, министр народного просвещения (1908 – 1910).
[Закрыть] и его ответ любезный – ничто иное, как „французские разговоры“, как говорится, а время идет, а народонаселение пропадает!» и т. д.
Леля исполнял просьбы и поручения Тетушки и рассылал со своим верным курьером Дроздовым ее письма и брошюрки, но сам он нас сильно тревожил. Академические неприятности продолжались, и Леля переживал их с обычной остротой чувств! Теперь, когда его нет, когда эти драмы ничто в сравнении с теми, которые позже надвинулись на него, да будут прокляты они, отравлявшие ему жизнь! Они, отрывавшие его от любимого дела, от науки, которой он решительно не мог заниматься в атмосфере вражды и интриг, когда в Академии находили такие темные полосы! Совершенно не полагаясь на свою память, я не могу передать здесь, чем были вызваны тяжелые переживанья Лели в декабре, при нас на Рождество. Совершенно случайно сохранились три письма брата к Тетушке уже середины января. Я привожу их здесь целиком без пропусков, но и без комментариев.
«Дорогая Тетя, все окончилось благополучно. Дело в следующем: когда в декабре 1908 года был поднят вопрос об избрании Нестора Александровича Котляревского в члены Отделения, Соболевский заявил мне, что согласится на его избрание только в том случае, если я положу направо[204]204
При баллотировке (голосовании шарами, от фр. ballote – шар) положить направо белый шар означало проголосовать «за».
[Закрыть] Флоринскому[205]205
Флоринский Тимофей Дмитриевич (1854 – 1919), русский филолог-славист, историк, византинист, политический деятель, член-корреспондент ИАН(1898) по ОРЯС, заслуженный ординарный профессор Императорского университета св. Владимира в Киеве, действительный статский советник.
[Закрыть], профессору Киевского Университета, которого он желает предложить в академики. Скрепя сердце, я согласился на это условие. В феврале 1909 года Соболевский и Кондаков[206]206
Кондаков Никодим Павлович (1844 – 1925), историк византийского и древне-русского искусства, археолог, создатель иконографического метода изучения памятников искусства, член-корреспондент ИАН, член-учредитель Русского собрания (1901).
[Закрыть] с тревогой сообщили мне слух, что Флоринский принимает место цензора в Киеве. Кондаков просил меня написать Флоринскому и указать, что принятие им должности цензора может помешать нам провести его в академики (т. к., конечно, в академию проходят за ученые, а не за какие-либо другие заслуги). Флоринский ответил мне, что письмо мое запоздало, что он уже принял должность. Скоро я узнал, что Флоринский всецело отдался политике, стал во главе Союза русского народа в Киеве. А в декабре мне сообщили о его записке генерал-губернатору, в которой он требует полного изгнания малороссийского языка из печати. Конечно, я с тревогой думал о предстоящем избрании, тем более, что ученые заслуги его вообще очень невелики; вот уже много лет, что он ничего основательного не издал. Тем не менее я не мог себя считать свободным от обязательства и решил класть Флоринского направо; вместе с тем, однако, я счел необходимым, в случае он будет избран, уйти из председательства, т. к. предвидел, что Отделение превратится из ученого учреждения в политическое: Соболевский и Флоринский, один в Москве, другой в Киеве, все время выступают в разных организациях крайне правых партий с речами, докладами и т. п.
Сегодня (шестнадцатого января) происходили выборы; я положил направо вместе с четырьмя другими академиками, а налево было положено тремя. А т. к. для избрания требуется две третьих голосов, то Флоринский оказался неизбранным. Инцидент этим исчерпан, хотя, конечно, можно предвидеть и неприятности. Но совесть моя покойна. Сделать больше того, что я сделал, я не мог, т. е. не мог я против своей совести уговаривать Корша и Фортунатова класть Флоринского направо; достаточно и того, что я сам клал не с ними, а с Соболевским. Одно было не очень хорошо – это то, что Президент[207]207
Президентом Императорской Академии наук с 1889 г. был великий князь Константин Константинович.
[Закрыть], забыв, что он не имеет голоса в подобных предварительных выборах, положил было шары в избирательный ящик, и я должен был ему напомнить, что он ошибся. Он тотчас же взял шары свои обратно, и мы возобновили баллотировку. Беспокоит меня мысль, не ушел бы Соболевский в виде протеста из Академии. Что-то скажет завтрашний день?
Остальное у нас все благополучно. Вчера я читал первую лекцию в женском педагогическом институте. Дети здоровы. Только Сонечка покашливает. Благодарю за твое длинное письмо. Благодарю так же [за письмо] Жени».[208]208
Письмо А. А. от 16.1.1910.
[Закрыть]
Но инцидент не был исчерпан, и я привожу опять целиком его письмо от 19 января, адресованное мне: «Спешу порадовать тебя! Минскому комитету ассигновано и на днях будет доставлено двести рублей. Больше нельзя было получить. Сообщи, пожалуйста, А. К. Снитко и скажи ему также, что я получил его посылку. Жду теперь его статьи. Дело, о котором я писал Тете, осложнилось: Соболевский и Кондаков на составленном мною протоколе написали протест против моих действий, как председателя, позволившего себе отстранить августейшего Президента от баллотировки. А дело было так, что Президент положил шары, но, когда я напомнил ему, что он в комиссии по закону не участвует, он тотчас же вынул их, и баллотировка началась вновь, причем он был любезен до конца и не обратил никакого внимания на случившееся. Протест я должен был направить Президенту. Жду теперь его ответа. Удивляюсь, что он его задерживает. Очевидно, ему неприятно. Нехорошо со стороны Соболевского и Кондакова подчеркнуть случившееся в официальном их протесте и в форме, разумеется, обидной для Президента, и все это, чтобы сделать неприятное не ему, а мне. И это несмотря на то, что я при протоколе приложил копию с Правил о выборах, где ясно сказано, кто участвует в баллотировке. Сообщу Тете, какой будет исход этого невеселого дела».[209]209
Письмо А. А. от 19.1.1910.
[Закрыть]
Через день Леля писал Тетушке: «Пока не произошло новых событий и новых осложнений, сообщу тебе об ответе Великого Князя на мою бумагу, при которой я представил протокол. Сообщаю этот ответ в копии. Меня глубоко тронуло его благородство. Можно надеяться, что теперь вопрос не будет уже больше подниматься в Отделении. Все у нас пока благополучно. Корш уехал, и у нас стало тише[210]210
Корш всегда останавливался у Лели, когда он приезжал из Москвы на заседания в Академию.
[Закрыть]. Начал лекции в университете».[211]211
Письмо А. А. от 21.1.1910.
[Закрыть]
К этому письму к Тетушке Леля приложил копию со своего заявления к Президенту с приложением протокола заседания выборной комиссии и указанием Соболевского и Кондакова на неполноту протокола, т. е. на то, что Президент не принял участия в баллотировке. В ответ на это заявление Президент отвечал на имя Лели, что ради удовлетворения заявления Кондакова и Соболевского он просит дополнить протокол заседания выборной комиссии от 16 января припиской о том, что Президент присутствовал в заседании, но в силу постановления общего собрания академии (19 января 1908 года) не принял участия в баллотировке и, если он «по старой привычке и положил свои два шара в баллотировочный ящик, но, вспомнив о постановлении общего собрания 19 января 1908 года и посоветовавшись с Вами, вынул шары и устранился от баллотировки, а не был, как заявляет Соболевский, отстранен от нее председателем комиссии» (т. е. Лели). Великий Князь заканчивал это заявление тем, что, ссылаясь на разные параграфы, не находит основания к новому обсуждению выборов Т. Д. Флоринского.
Я привожу здесь подробности об этом инциденте не потому, чтобы оно было важнее или интереснее других, а потому только, что это единственные сохранившиеся его письма того времени к Тетушке, которой он, по привычке с детства, сообщал каждые два-три дня все свои переживания. После этих писем явился опять перерыв его переписки с Тетей, и только по нашим ответным письмам можно было судить, что жизнь Лели опять пошла своим чередом. Второго февраля, в день рожденья Олечки, был детский бал. Тетушка рвалась к этому празднику к своей любимице, но прихворнула, и Урванцев заявил, что у нее сердце слабое и ей нужно быть очень осторожной.
Не в первый раз Соболевский заставлял Лелю мучится и не спать ночей. Нельзя при этом не вспомнить первоначальную причину этой злой вражды Соболевского к Леле на фоне общего благожелательного отношения к нему в академическом мире. Забыть это Соболевский никогда не мог, но к чему напоминал он об этом тем, кто забыл эту неприятную страницу его жизни, своими злыми выпадами и выходками? Всегда непонятны для меня были благоприятные отзывы Лели об этой враждебной к нему личности. Но не Соболевскому было ценить такое чисто христианское отношение Лели к нему. А так как мне, грешной, далеко было от всепрощения брата, то я совсем не могла понять, почему на просьбу нашего археологического комитета указать еще двух лиц в академии, которых желательно было бы выбрать почетными членами комитета, Леля указал Всеволода Измайловича Срезневского и Алексея Ивановича Соболевского. Срезневского – да, понятно! Памятен был его приезд в Минск, зимой 1908 года по нашему вызову, когда покойный Татур оставил громадную коллекцию рукописей, книг и пр. Не он виноват был в том, что промедление в ассигновки средств от Академии на приобретение этой богатой коллекции дало возможность графу Тышкевичу перебить ее, выложив вдове Татур двадцать тысяч на стол и увезти в свой Червонный двор. Но Срезневский много потрудился тогда, переписывая и описывая эти сотни рукописей. А Соболевский?!
И все же в общем собрании второго ноября 1909 года по совету Лели Соболевский был избран почетным членом комитета. Я не была на этом годовом собрании второго ноября, опоздав на один день с переездом из Щавров, и очень жалела об этом, потому что в то время, когда я с головой ушла в щавровские делишки, члены нашего комитета успели совершить все намеченные с весны экскурсии, которые я таким образом пропустила. И на этом собрании участники сообщали интересные подробности. Особенно интересной казалась мне поездка и раскопки в Турове!
24 августа Снитко, Скрынченко и Панов (товарищ председателя) прибыли в Туров, чтобы проверить известия об обнаруженном весной 1909 года саркофаге на Борисоглебском кладбище, близ деревянной церкви во имя святого Кирилла Туровского, на бугре и болотистой низине. Снабженные всякими разрешениями, члены комитета приступили к раскопкам в Турове и уже к вечеру отрыли саркофаг, каменный ящик из красных шиферных плит, в котором лежал полуистлевший костяк, причем череп лежал отдельно, сбоку: затылочная кость отбита, на лбу пробоина. Нижняя челюсть на месте. В земле сверкали тонкие золотые нити… на следующий день извлекли саркофаг из земли и поставили его в притворе Свято-Кириловской кладбищенской церкви. Наши ученые определили, что этот саркофаг относится к X веку, и погребение не христианское. Но что всего интереснее было в этой находке, это то, что было очень соблазнительно предположить в найденном саркофаге костяке останки языческого жреца, о котором моя попадья представила легенду, посланную еще весной Леле.
Эта была легенда «О попе Идольском», записанная Радзяловской в Туровщине. Идольский поп Кайта (или Вайта), язычник в Турове, где воевода Туровский, приняв новую веру, принуждал всех креститься, пользовался большой славой своим умением лечить травами. Обратился к нему и воевода Туровский, хотя сначала намеревался казнить его за упрямство. «У воеводы был сын, который, простудившись, вероятно, на охоте в Киеве с княжеским сыном, «лежать не лежал, а як воск от огня таял». Взял поп Кайта сына воеводского к себе в лес, в свою хату, и стал зельем поить, на дворе теплыми ночами спать класти, да козьим молоком поить, а «козы он мев дикие», и выздоровел сын воеводский. Обрадовался воевода и послал лекарю целый воз добра, но лекарь никогда ничего не брал, кроме еды, и от богатства отказался. После того он еще долго жил и много делал добра лечением, а когда умер, воевода одел его в княжескую золотую одежду и положил «в домовину каменную» и похоронил с великой честью, как князя». Но, добавляет придание, старика нашли с отрубленной головой. Искали у него золото, зная, что воевода хотел его щедро наградить за излечение сына.
Как ни гадательны такие совпаденья, но верилось, что именно жрец Кайта, с отрубленной головой, и был найденный в саркофаге X века костяк с черепом, лежавшим отдельно сбоку и с золотыми нитями в прахе. Родзяловская сообщила археологическому комитету еще одну легенду, записанную со слов старика Захарьевича в селе Велемовичи Мозырского уезда о дворянах (крестьяне) Ранцевичах, у которых хранится грамота князя Ярослава I в оловянном футляре; другую легенду восьмидесятидевятилетнего Ранцевича об урочище Корости «у большого пути Коростенцов с вбитыми в болото сваями» и пр. (см. Костяные Иглы).
Теперь зимой, чтобы не отстать от этой милой старины, и я собирала исторический материал о каждом уездном городе Минской губернии, заглушая этим свое нетерпение и незадачу. А незадача была налицо: на заказанное письмо и телеграмму Вити к Плецу с просьбой выяснить, может ли, наконец, Витя рассчитывать на Сенно, Плец отмалчивался довольно невежливым образом. Не проще ли было ответить решительным нет?! Положим, меня уже начало тошнить от Сенно! Теперь мечты все мои возвращались к городу Борисову. Что за милый городок! И всего тридцать пять верст от Щавров! Одно соседство с Мещериновым чего стоило! Даже Тетя с Оленькой там не соскучатся. Витя решил переговорить с борисовским предводителем Поповым, предлагая ему обмен. Но Попов ответил, что Минск пугает его тем, что и нас теперь гнало из него, но добавляя, что, безумно скучая о милой своей жене, рвется из Борисова, где все ее так напоминает, но хлопочет усиленно получить место тюремного инспектора или вице-губернатора. И тогда не теряя времени, предупредит о том Витю. Но, как известно, проходят месяцы и годы в ожидании повышения «других».
А нам все еще не терпелось в Минске! Иногда мне самой казалось: да не пустой ли вздор то, что нас гонит из Минска? Что заставляло нас ломать свою, в сущности, приятную жизнь в Минске? Не плод ли это нашей фантазии? Так ли это уже важно, что мы не в фаворе? Стоит ли обращать внимание на все возрастающее невежество по отношению к нам, вызванное исключительно сплетнями и клеветой? Девицы Эрдели избегают даже кланяться Вите, они демонстративно становятся спиной. Да Бог с ними! Если бы мы чем-либо провинились перед ними, но у нас даже не было никаких точек соприкосновения, ничего общего, кроме «осиного гнезда»! Что мы любили Татá, что мы им сделали прощальный обед? Мадам Чернявская хоть выслушала откровенное порицание В. П. за то, что она смела сделать четыре года назад прощальный обед покидавшим Минск Чернцовым (вице-губернатор до Шидловского). А нам предоставлялось догадываться самим, насколько мы виноваты!
Меня трогало, что Оленька, сама кротость и непритязательность, почти недоступная светской суете, понимала и даже очень горячо реагировала на такое ничем не заслуженное к нам отношение, которое гнало нас в такую дыру, как Сенно! И когда в наше отсутствие Эрдели через Урванцеву пытались ее приглашать петь в концерте русского собрания или рисовать портреты императриц для ее приюта, Оленька решительно все это от себя отклонила.
Особенно невзлюбили эти дамы Новосильцову. Как жена корпусного командира, независимая по службе мужа, жившая не в чиновничьем, а в военном мире, Новосильцова могла только посмеяться над всеми их фокусами. Но и то их мелкая злоба выводила ее из терпения! Так, когда она открыла небольшую чайную для поддержания Ирининского приюта, и когда эта чайная в морозные дни особенно ценилась и посещалась замерзшими извозчиками, почему-то стали штрафовать этих извозчиков. Да и столько было анекдотов по поводу этой вражды к председательнице второго благотворительного общества, основанного Татá, что лучше и не вспоминать! Но когда три дамы, Новосильцова, Эрдели и Долгово-Сабурова, устраивали свои благотворительные вечера, посторонний наблюдатель мог бы написать довольно трагикомичную картину.
Мы с Витей были только на одном из этих балов, а от других демонстративно откупились скромной лептой. Как только я поняла причину этой вражды, сначала смущавшей и огорчавшей меня, я совершенно перестала на нее обращать внимание, и нас в этом очень поддержали Сорневы. Они тоже были не в фаворе, в особенности потому, что, очень радушные и гостеприимные, они постоянно собирали у себя общество, и этим, как бы подчеркивая обязанность уездного предводителя, выводили из себя Долгово-Сабурову. Как губернский предводитель дворянства, Сабуров мог бы жить более открыто и радушно. Сорневы постоянно задавали обеды, всегда зазывали к себе приезжих из Петербурга, и тогда мы с Витей обязательно должны были у них бывать.
Тягостное душевное состояние конца прошлого года после поездки в Петербург меня оставило, и вообще мы были покойнее духом. Прекратился зуд добывания земли! Криво ли, косо ли, она у нас была.
Частые вести из Щавров были сначала самые успокоительные. Но затем разгорелась неприязнь между Берновичем и Горошко. Бернович был неравнодушен к его красивой жене, а Горошко оказался безумным ревнивцем. Сначала на основании писем их и жалоб, средь зимы, был удален ставленник Фомича, злополучный Викентий. Своими сплетнями он возмутил первоначальную идиллию, установившуюся в Щаврах. Потом приехал сам Горошко в слезах, захлебываясь, объявить, что «она его покидает и уезжает с ним». Затем приехал и Бернович все разъяснить. Он отзывался о супруге Горошко как об очень порядочной женщине, но несчастной жертве ревнивого мужа, который доводил ее до отчаяния своей подозрительностью, тиранством и грубостью. Вначале он столовался у них, но, видя, какую это производит в семье Горошко драму, даже перестал с ними видеться и засел у себя с Мишкой, ставшим его камердинером, и даже переписывался, когда того требовало дело, а не разговаривал с Горошко.
Как всякий оскорбленный или воображающий это супруг, Горошко не мог уже беспристрастно относиться к деятельности Берновича, хотя отдавал полную справедливость его уму и знанию своего дела. Ему даже казалось, что ум и хитрость Берновича таковы, что он на сажень видит под землею и читает все мысли своих покупателей. Тем более Горошко считал Берновича опасным, поэтому он все время чего-то подозревал и ожидал какую-то неопределенную опасность не только для себя, но и для нас. Ему все чудилось тайное соглашение Берновича с Судомиром, общее намерение разорить нас и т. д. Все это, конечно, был плод его фантазии, как и предполагаемое бегство его жены. Но он так был в этом уверен, что переубедить его было трудно.
Свои подозрения по отношению Берновича к нам он подкреплял рассказами Кагана, который, будучи в Щаврах с Берновичем в его первый приезд для «изучения имения», услышал, как Бернович, выходя из брички после осмотра имения, обратился к Судомиру со словами: «Что за дешевка такая, пане?» взял его под руку, и оба пана удалились в парк, после чего была установлена цена за Щавры в сто шестьдесят тысяч вместо первоначальных ста пятидесяти тысяч. Коган, понятно, не протестовал, потому что, получая с обеих сторон, выигрывал на этом четыреста рублей. Подозрения Горошко шли дальше. Он предполагал, что умный Бернович не мог так грубо ошибиться, т. к. Судомир ему-то нисколько не мешал смотреть Щавры, и он должен был знать о недостатке земли.
Крестьянин Горбачев рассказывал, что, когда он с Берновичем выехал смотреть имение с планом в руках, Бернович при въезде на фольварк Истопки, заявил ему, глядя на план: «В Истопках сто семьдесят три десятины». Горбачев возразил: «Семьдесят три десятины, панич! Испокон веков так мы считали: семьдесят три, а не сто семьдесят три». «Что ты брешешь!» – перебил его тогда Бернович и слушать его больше не захотел! А это одно могло ему сразу открыть глаза. А заявление батурских старообрядцев тогда же, что их земля под спором, что они одолжили Судомиру несколько тысяч, а двадцатисемилетний процесс Станкевича и многое другое – все это убеждало Горошко в темных намерениях Берновича! Мы понимали, что Горошко преувеличивает, и что его болезненная фантазия приписывает Берновичу такие намерения, которых у него не могло быть, также как он не был намерен похитить его жену, но, конечно, поводом к тому служила неосторожность Берновича по отношению к его супруге, так же как и к осмотру Щавров!
Бернович знал, что мы забраковали уже немало имений, и теперь, конечно, мы бы забраковали и Щавры, если бы только услышали о спорных землях, землях в захвате и т. п. Разоренный, покинувший отчий кров, скиталец без дома, с надорванным здоровье, Бернович сохранил лишь свой гонор и надеялся умелой распродажей не разорить нас, а вернуть свое доброе имя, доказать отказавшимся от него родным свое умение трудиться. Его бедная мать не раз зимой приезжала из Слуцкого имения в Минск повидаться с ним и звала домой к отцу, который прощал ему его безумные траты, кутежи, потерю стотысячного состояния и просил только бросить парцеляцию чужого имения! Но Бернович, всегда растроганный после свидания с матерью, всю зиму снабжавшей его деревенскими продуктами, отказывался ехать домой пока, говорил он, не доведет щавровского дела до конца. Держал он себя безукоризненно, бросил карты, вино и безвыездно сидел в Щаврах, а когда наезжал в Минск, сидел у нас, точно опасаясь даже встречаться с прежними друзьями, вроде Корвин-Милевского и др. Поэтому, когда до нас долетали рассказы о его прошлом, мы не слушали и только говорили, что и заблудший сын может вновь стать порядочным человеком, и не топить нас он намерен, а напротив, реабилитировать себя.
Теперь все его внимание было сосредоточено на сроке пятнадцатое марта. К этому дню нужно было заплатить тысячу рублей погашение за Пущу и четыре с половиной тысячи процентов Московскому Земельному банку с октября по первое июля, иначе старший нотариус не утвердит купчих, и это затормозит все дело. От этого утверждения зависела вся дальнейшая ликвидация, но, кроме того, первого апреля надо было погасить закладную Судомира, иначе нам грозила пятитысячная неустойка. Его закладная лежала запрещением на имении, и мы не имели права продавать землю, не выплатив ему эти десять тысяч.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?