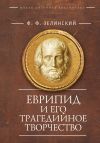Текст книги "Психология древнегреческого мифа"

Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 43 страниц)
– Еленой? – задумчиво повторил Акает. – Никогда не слышал такого имени. И мне кажется, нет пленительнее его.
– Ни ее имени, ни ее самой, – подтвердил карлик. – Да, ты прав: она вся – плен. «Плен мужу, плен кораблю, плен граду», как скажет про нее величайший из ваших поэтов.
Акает поднял глаза. Дивная женщина-греза была явственно видна, точно живая; она смотрела на Акаста своими томными голубыми глазами, как бы озолоченными отблесками ее ясных кудрей. И Акает чувствовал, что его воля тает в этих жгучих лучах. Не помня себя, он оторвался от своего хранителя и направился к призраку.
Внезапно быстрое движение Матери остановило его. Призрак поднялся и исчез в аметистовом поднебесье среднего свода.
– Акает!.
Это Она его зовет! Он подошел и бросился на колени перед Ней.
– Вижу, – сказала Она с грустной улыбкой, – что моя греза мне удалась. Но я не хочу, чтобы ты был ее первой жертвой.
Она положила ему свою руку на голову. Живительная прохлада ее прикосновения мгновенно подействовала на него.
– Твой дух-хранитель говорил мне про тебя – и говорил одно хорошее. Но лучшим из хорошего было твое решение вернуться к тем, которые воспитали тебя. Благословляю тебя на долгую и счастливую жизнь. Придет время, тебе достанется невеста, достойная тебя, – не спрашивай, кто она. Она еще не родилась. Это не Елена, но тебе будет лучше с нею. И твои деды доживут до этого счастья и до первого правнука, которого она им подарит.
– Ты тоже уже грезила, добрая Мать?
Она улыбнулась.
– Ты очень смел, мой мальчик, но да будет тебе на пользу то, что ты назвал меня доброй. Смотри!
Опять сгустился розовый туман, и скоро из него вынырнул образ миловидной, румяной крестьяночки о карих глазах и волосах. Увидев Акаста, она весело засмеялась и приветливо протянула ему руку. Но прежде чем он успел последовать ее приглашению, она поднялась на воздух и исчезла в голубом сиянии среднего свода.
Акает припал к руке Матери и стал покрывать ее поцелуями.
– Ты был моим гостем, – сказала Она ему, – и имеешь по-эллинскому право на гостинец. Твой дух-хранитель передаст тебе его при расставании, а ты сам рассудишь, кому его дать. Прощай.
Она подняла его и поцеловала в лоб. Акает стоял как в оцепенении, вне себя от счастья и гордости – и, вероятно, простоял бы еще долго, если бы его хранитель не догадался схватить его за руку и вывести из терема Земли.
– Ну, питомец, – стал он его журить, когда они ехали обратно, – и нагнал же ты на меня страху! Такой смелости я, пока жив, не запомню.
Но Акает не слышал его слов: он чувствовал только поцелуй Матери на своем челе.
XI
И вот настал день разлуки.
– Свершилось! – сказал Акасту карлик. – Погасла свеча царя Эгея, но погасли и свечи всех Паллантидов и среди них – та, что была двойником твоего гонителя Полифонта. Будут помнить сыны Аттики славную битву при Паллене и победу царя-витязя Фесея! Теперь никто не мешает тебе вернуться в твой освобожденный дом.
– Феникс, сослужи нам последнюю службу!
Чудесная птица была уже там.
– Мы вернемся, разумеется, по другому пути – взобраться по ветви Фенолы ты не можешь. Феникс поднимет нас вдоль ствола под самую почти вершину Коссифиды; оттуда в долину Бесы будет уже не подъем, а спуск.
Так оно и случилось. Чем выше они поднимались, тем более тускнел серебряный ствол; под конец он покрылся, точно мхом, наростами бурого известняка и стал похож на обычные каменные столбы между пещерами. В одной из них Феникс их высадил; кругом был мрак.
– Надо зажечь фонари, – сказал карлик. – Они, к слову сказать, похищены мною у вас – я в этом приспособлении не нуждаюсь. Ты передашь их угольщику Клеофанту с поклоном от меня и с предостережением, что он потеряет их совсем, если не перестанет бить свою жену. Ну вот, горят оба; идем.
Они прошли несколько стадиев по низким, но сравнительно удобным проходам. Вдруг карлик остановился.
– Заметь хорошенько эту стену – и, еще лучше, сделай знак на ней. Здесь вы будете добывать серебряную руду, когда ты откроешь своим землякам тайну лаврийских гор.
– Здесь? – разочарованно спросил Акает. – Здесь и серебра-то не видно. А почему не повести мне их прямо к чистой ветви Фенолы?
– Еще бы! Вы, вижу я, не прочь купить весь мир и престол Зевса в придачу. Нет, мой дорогой: того пути ты уже вторично не найдешь. Ты не знаешь, как глубоко он ведет под поверхность не только земли, но и моря. Вы же будете довольствоваться крайними разветвлениями, будете крошить руду мотыгами, размывать ее проточной водой и мало-помалу добывать зерна чистого серебра. И на этом тебе скажут спасибо. До сих пор вы из чужбины привозили серебро и чеканили его чеканом вашей богини; а отныне «лаврийские совушки» прославят ее и вас по всему эллинскому миру.
И он стал ему рассказывать – много рассказывать о будущей судьбе лаврийских рудников.
– А теперь – в путь! Я с тобой не прощаюсь – останусь при тебе, хотя ты и не будешь меня видеть. В Элевсине, куда ты скоро отправишься, тебе больше про меня расскажут. И когда твой жизненный путь будет пройден – дай бог, чтобы я и дочери Деметры мог поведать про тебя то самое, что теперь поведал Матери-Земле. Кстати: должен передать тебе ее гостинец; он у меня здесь, в котомке.
Перед удивленными глазами Акаста блеснул огромный самородок чистого серебра.
– Ты его понесешь в той же котомке, а ее самое вернешь тому же Клеофанту с тем же предостережением. Теперь всего два-три стадия пути отделяют тебя от поверхности; их ты пройдешь один – заблудиться нельзя.
И он внезапно исчез, оставляя фонари и котомку Акасту.
XII
Граждане Бесы толпились в своем пританее – все, и мужчины, и женщины. Созвал их царь Фесей.
– Друзья мои, – сказал он им, – милостью Паллады мне удалось объединить два коренных жребия из наследия моего деда Пандиона, и теперь наша общая забота – чтобы они никогда больше не были разъединены. Не для себя сложил я их, не для того, чтобы самодержавно вами править: власть, которую Паллада вручила мне, я передаю народу. Пусть ваши цари по-прежнему молятся за вас бессмертным богам, пусть они судят ваши тяжбы и ведут вас в бой, пусть они будут опекунами ваших сирот – но управляться вы будете сами. Отныне вы все – афиняне, все будете собираться на каменном кряже перед скалой богини; каждый, кого возраст остепенил, будет иметь право предлагать народу то, что боги ему внушат, – и что народ сочтет лучшим, то и будет законом. Согласны?
Гром благословляющих приветствий покрыл его слова.
– Граждане, – продолжал Фе-сей, – я освободил вашу землю, освободил и тех, которых нечестивые сыновья Палланта из граждан обратили в своих рабов. Но, как это всегда бывает, война разорила нашу родину, опустошила – не царскую отныне, а народную казну. Все должны сложиться, чтобы не пришлось нищенствовать завоеванной свободе. Граждане, согласны вы участвовать в этом народном деле?
Воцарилось молчание. Фесей насупил брови; недовольная усмешка заиграла на его гордом лице.
Выступил вперед старец с длинной, седой бородой:
– Прости, великий царь, и не толкуй нам в обиду нашего молчания. Верь, мы все готовы костьми полечь за тебя и за подаренную нам тобой свободу. Но кроме наших жизней мы ничего тебе дать не можем. Ты видел нашу землю, наше село? Мы все здесь впроголодь живем между скалистыми сопками Лаврия; во всей Аттике нет села беднее твоей Бесы.
– Нет, дедушка, ты ошибся, – крикнул внезапно молодой голос, – и ты, великий царь, не верь ему, хотя он и говорит искренно. Знай, не только во всей Аттике, но и во всей Элладе нет села богаче твоей Бесы!
Фесей удивленно посмотрел на него и затем обвел взором все собрание.
– Кто это говорит?
– Кто это говорит? – раздалось в толпе. Акаст, сын Иолимнеста, афинянин из Бесы, – весело ответил тот же голос.
Акает? Он, значит, жив? Как он вырос! Как он похорошел! – загудела толпа. Менедем и Иодика с радостными воплями бросились обнимать внука. «Акает! Родной мой! Наконец-то, после трех лет! Да где же ты был?»
Там, где времени нет, мои дорогие. Погодите, все расскажу; а теперь надо ответ держать перед царем. Да, великий царь, нет села богаче твоей Бесы; и если надо всем сложиться за свободу, то вот и наша доля.
С этими словами он вынул из своей котомки гостинец Матери-Земли. Фесей, хотя и обрадованный, продолжал недоумевать.
– Объясни же ты мне…
– Изволь, царь, что могу, то объясню.
И он стал ему рассказывать, умалчивая, насколько возможно было, о чудесном. Недомолвки не скрылись от проницательного ума Фесея.
– Ты многого не договариваешь, мой друг, но я теперь настаивать не буду. В Афинах, за кубком вина, ты мне все расскажешь подробнее: перед гостем Матери-Земли хоромы Эрехфея открыты. А теперь, если угодно, кончай о серебре.
– Прикажи, великий царь, половине из нас превратиться из неудачливых земледельцев в рудокопов – и работа у нас закипит. Паллада благословит наш труд, и ее сокровищница на Акрополе не будет пуста. И когда при твоих потомках заморский враг придет громить Афины и Элладу – лаврийское серебро даст им возможность построить корабли и на них отстоять отвоеванную и дарованную тобой свободу!
Фесей молитвенно поднял руку; все последовали его примеру.
– Граждане, – сказал он, – вы слышали пророческое слово? Да будет так! Счастливо Акасту! Счастливо Бесе и Лаврию! Счастливо Матери-Земле!
– Счастливо Фесею! – ответили голоса. – Счастливо Афинам! Счастливо Матери-Земле!
III. Соловьиные песни
I
В малом перистиле дворца царя Эрехфея женской челяди прибывало все больше и больше: одна другой передавала важное известие, что фракийские гости, продавшие царю груз строевого леса с Пангейских гор, получили разрешение показать и, если найдутся покупательницы, продать ткани и вышивки своих жен и дочерей. Узнала об этом и молодая няня маленького царевича, землячка продавцов, которую поэтому во дворце звали просто Фраттой.
Сердце в ней тревожно забилось; она встала и, взяв ребенка за руку, направилась к перистилю.
– Куда ты? – угрюмо окликнула ее Евринома, другая няня, ходившая за младшей сестрой царевича, Креусой. Она была старше Фратты, но и, помимо того, как гречанка, чувствовала себя неизмеримо выше ее.
– Вышивки смотреть… А ты не пойдешь?
Евринома только пожала плечами.
– Тоже нашла кого удивить – меня, ученицу покойной царицы Праксифеи. Выше ее только сама Паллада была – слава ей, градодержице! Да и ты бы лучше не ходила – и то много путаешься с этими усачами в штанах.
Фратте, в сущности, было приятно, что Евринома с ней не пошла. Все не выпуская руки ребенка, она вошла в перистиль, где торговля была в полном разгаре. Споры, шуточки, смех; ключница Никострата старалась поддержать благочиние, но порядок был уже не тот, что при покойной царице.
– Сколько тебе за эту накидку? – торговалась молодая рабыня.
– Полмины.
– Бери тридцать драхм.
– Разве если себя дашь в придачу.
Грубая шутка на ломаном греческом языке вызвала всеобщий смех. Пользуясь случаем, другой торговец шепнул вошедшей Фратте по-фракийски:
– Сегодня, к часу отпряжки быков! Поняла, Каракста?
– Поняла. А ты, Адосф, не обманешь?
– Не бойся. Только без мальчика не приходи.
– Уж, конечно, его не оставлю.
– Ну, смотри же. А теперь, красавицы, – громко продолжал он по-гречески, – я покажу вам такой товар, какого вы еще не видали. Душу заложите, а увезти домой не дадите.
Много серебряных совушек перешло в тот вечер в мошны фракийцев; перешли бы, пожалуй, и все, если бы прощальные лучи с Эгалея не возвестили торгующимся о необходимости прервать разговор.
– Завтра придете? – спросила одна, особенно ненасытная. – Придем, красавицы, придем, – отвечал усач. – Только совушек побольше приготовьте.
И они принялись укладывать в короба непроданный товар.
А там, в светлице, Евринома баюкала маленькую Креусу. Та плакала:
– Братца хочу! Где братец?
Не плачь, моя сиротка, братец придет, – и она продолжала напевать свою песенку:
Будешь царскою женой
И царицыной снохой.
Где ты ножкой ступишь – глядь,
Станут розы расцветать…
Но девочка все не хотела успокоиться, все плакала:
– Братца хочу! Где братец?
II
– Няня, здесь так страшно кругом. Все вода и вода, и ничего, кроме воды, не видно.
– Помолись Нереидам, мой родной, и страх пройдет.
– А как им надо молиться?
– Подними ручки так, как ты всегда молишься.
– Так, как я молюсь нашей заступнице, деве Палладе?
– Так, мой дорогой, только ручки к морю протяни. И говори:
«Нереиды могучие, дайте нам счастливое плавание».
– Нереиды могучие, дайте нам счастливое плавание! Няня, а где они, эти Нереиды?
– Там, дитя мое, в этих голубых волнах. Только мы их не видим.
– Нет, няня, я их вижу. Там вижу – и там – и там. Много, много Нереид. И такие красивые – совсем как ты.
– Что ты, что ты, родной, нельзя меня, смертную, сравнивать с богинями: они обидятся.
– А они разве злые?
– Нет, они только на злых гневаются, а с добрыми всегда добрые, и спасают их от бурь и утесов. И наш корабль давно бы погиб, если бы они не были добры к нам.
– Здесь, значит, все добрые? Няня смолчала. Она подумала, что если бы то, что она сказала, было правдой, то их корабль давно бы лежал на дне морском.
– И тот дядя, который тебя давеча целовал, тоже добрый?
Няня смолчала и покраснела. – Няня, а куда мы едем?
– К твоей тете, мой прекрасный.
– К какой тете?
– Ты разве не слышал о твоей тете Прокне, сестре твоего отца? И о другой твоей тете Филомеле?
Лицо мальчика приняло вдруг испуганное выражение.
– Слышал, няня. Слышал, как сестрицына няня о них говорила с Никостратой. Только она что-то нехорошее говорила, и Никострата заплакала. Няня, скажи, как это было?
– А было то, что твоя тетя Прокна вышла замуж за Терея, царя той страны, куда мы едем.
– А как он выглядел, этот Терей?
– Он выглядел, как этот дядя, который… который с нами едет.
– Он тоже был в штанах? И с такими же усами, такими длинными и смешными?
Адосф как раз проходил мимо; услышав слова ребенка, он недовольно тряхнул головой и что-то сердито пробормотал на своем языке.
– И тоже был такой сердитый? – Нет, мой милый, но ты не смейся над этим дядей: он этого не любит.
– Ты мне про тетю Прокну рассказывай. Терей ее, значит, увез туда, далеко?
– Да, увез.
– А дальше что?
– А дальше – твоя тетя Прокна жила с ним счастливо, и родился у них маленький сыночек, Итий.
– Няня, а я и не знал, что у меня есть братец. Я думал, у меня только сестрица Креуса…
Ребенку вдруг взгрустнулось:
– Хочу к сестрице!.. Где сестрица?
– Не грусти, родной, мы ведь к братцу едем. Ну вот, жила она, жила – твоя тетя, и взгрустнулось ей тоже по сестре, вот как тебе теперь. И говорит она мужу: «Милый мой муж, привези мне мою сестрицу Филомелу». И поехал Терей опять к нам в Афины, и взял с собой твою тетю Филомелу, и повез ее к себе…
– А дальше что?
– А дальше… дальше уже нехорошо. Он обидел твою тетю Филомелу. Ты этого теперь не поймешь, родной мой, а когда будешь большой – поймешь.
– Он был сердитый?
Адосф опять прошел мимо; при виде мальчика он сдвинул брови.
– Такой же сердитый, как и этот дядя?
Адосф услышал эти слова и больно дернул ребенка за ухо. Тот расплакался.
– Няня, как он смеет меня обижать!
Фратта сказала обидчику несколько слов на своем языке, но он на нее прикрикнул. Тогда и она залилась слезами и беспомощно прижала ребенка к своей груди.
– Что я сделала, боги, что я сделала!
III
Смолистый аромат сосновой рощи, растворенный в зное весеннего дня, тихо расплывался в вечернем ветерке. Солнце спускалось на синий хребет Пангейских гор, освещая своими косыми лучами исполинский деревянный кумир дикой богини, потрясавшей двумя копьями и упиравшейся правым коленом в спину поверженной лани. Под ним сидел не менее дикого вида мужчина в волчьей шапке, из которой грозно торчала пара рогов; он обращался с короткими, отрывистыми речами к кучке других мужчин, среди которых был и Адосф. Поодаль молча сидела Фратта с ребенком.
Ребенок сначала с любопытством присматривался то к кумиру дикой богини, то к диким людям. Что они делают? У рогатого лежали на коленях какие-то деревянные палочки; после ответов Адосфа он то и дело брал в руки ту или другую из них и делал на ней какие-то зазубрины. Свою работу он обильно запивал вином, в чем ему, впрочем, подражали и все остальные мужчины. Положительно, это становилось скучным.
Чу… что это зазвучало в кустах? Пение соловья. Совсем как в Афинах, в Колонской роще. Но только гораздо ближе; он ясно различает и самую певицу. Она порхает с ветки на ветку и смотрит на него так дружелюбно своими умными глазками. Так бы, казалось, и схватил ее. Нет, в руки она не дается, но и не отлетает далеко, и все поет, все поет, так сладко, так ласково. Эх, пташка божья, понять бы, что ты мне хочешь сказать!
Вот вспорхнула на верхнюю веточку и точно кого-то зовет. И подлинно, кто-то прилетает. Такой смешной. Бурый, с черно-белыми крыльями и огромным хохолком. Прилетел и говорит: «Уд-уд! Уд-уд!» Это значит, вероятно: «Я здесь; что прикажешь?» И видно, певичка ему что-то приказала: удод опять улетел. И опять раздается на всю рощу соловьиная песнь – ласковая, сладкая – и такая жалобная, такая жалобная. Так бы и заплакал.
Чу… какой-то клекот доносится с высоты, пара огромных крыльев заслонила солнце. Знаю: это – коршун; мы с отцом видели такого на Ликабетте. Милая, спасайся! Но нет, она и не думает спасаться. Коршун, спустившись, уселся на верхушке сосны и оттуда смотрит на ребенка; страшно! Но соловей заливается пуще прежнего, и его песня разгоняет страх.
«Киккабау! Киккабау!»
А, знаю: это старая подруга с Акрополя, наша милая сова, птица Афины. Теперь уже совсем не страшно. Вот она сидит на нижнем толстом суку сосны. Сидит, смотрит и точно улыбается своим круглым лицом. И даже та пичужка ее не боится: прыгнула ей прямо на голову и стала чистить свой клюв об ее перья. Это значит, вероятно: здравствуй!
Эх, помешали! А впрочем, это недурно: принесли ковш молока и ломоть хлеба. И то, я проголодался; а крошками хлеба я все-таки пичужку накормлю. На, родная! Что это? Приметила, но крошек не берет и только головкой качает. Видно, вкуса в них не находит. А это что? Целая стая зябликов, два, три, много. И вокруг крошек не стало: все расклевали. Какие они здесь, однако, ласковые!
«Уд-уд! Уд-уд!»
А, опять пожаловал, старый знакомый. И какую ораву с собой привел: сороки, сойки, дятлы, дрозды, варакушки, синицы. Но всех бойчее ласточка: прилетела, села на руку, головкой кланяется и все чирикает. И рад бы понять, родная, да не могу…
Вся роща наполнилась птицами; отовсюду слетаются, как на вече. На каждой ветке по нескольку: шумят, галдят, поют, каждая на свой лад.
…Но внезапно другой шум прервал мечты мальчика. Адосф кончил свой отчет и высыпал из своего меха груду серебряных тетрадрахм. Рогатый их сосчитал – видно, он был доволен.
– А теперь, – заключил Адосф, – получай и придачу. После выручки – добыча. Добыча первая – вот эта женщина. Добыча вторая – мальчик, эллин. Мал, да здоров; вырастет – хорошим рабом будет.
– Веди их сюда, – сказал рогатый.
– Ну, Каракста, иди к царю.
– Та, вскочив, смотрела на него большими испуганными глазами.
– Что ты! Опомнись! Собственную жену в рабство отдаешь?
– Какая ты мне жена! Еще недоставало, чтобы я эллинскую рабу себе в жены брал!
– Адосф! Да ты же мне клялся, что я буду тебе женой и что этот ребенок будет нам вместо сына!
– А тебе, дуре, кто велел верить?
– Изменник! Клятвопреступник! Да накажет тебя эта богиня, наша могучая Бендида.
– А ты? Своим господам изменила, а от чужого верности ждешь? Живо иди к царю!
Заголосила несчастная женщина:
– Что я сделала, боги! Что я сделала!
И, схватив ребенка на руки, как безумная умчалась из рощи, прямо во мглу надвинувшегося вечера. Фракийцы бросились их догонять, но их ноги им туго повиновались – уж слишком много глотнули они исмарийского вина – и они стали отставать. Успешнее была воздушная погоня – все птицы мчались за беглянкой, – но она не была страшна.
Все дальше и дальше, по дикому склону Пангея.
Вдруг Фратта вскрикнула и выронила ребенка: земли не стало под ее ногами, она полетела в пропасть. Еще крик с самого дна оврага, и затем – гробовое молчание.
IV
Но ребенок за ней туда не последовал. Падая, он тотчас же почувствовал под собой что-то мягкое, теплое, пушистое. Он ухватился ручками за это нечто – и сразу понял, что обнимает шею коршуна.
Коршун тяжело взмахнул своими крыльями и вскоре плавно спустился со своей ношей в другой части оврага; мальчик стал на ноги.
Кругом была темнота. Над собою он различал крутую стену; над ней – небо, усеянное звездами. Перед собой – кусты и деревья.
– Няня! Няня!
Все молчало. Не получая ответа, он расплакался.
– Киккабау! Киккабау!
Он стряхнул слезы: слава богам, он не один. Старая акропольская пестунья тоже здесь. Зов повторился. Он пошел по его направлению; странно, он раздается точно из недр скалы. А, вот оно что: в скале пещера, а из ее глубины приветливо светятся два огонька. Это – его хозяйка, добрая птица Паллады.
Он пошел в пещеру. Сухо, тепло, душисто, точно чья-то забота нарочно принесла тимьяну с верхних склонов Пангея. Почва каменная – а вот внезапно что-то мягкое. Он нащупал рукой – подстилка из сухих листьев, покрытая нежным птичьим пухом. Точно кто-то постельку для него приготовил.
Он лег и тотчас заснул. Сова прилетела и покрыла его своими широкими крыльями.
Так прошла ночь.
Когда солнце следующего дня заглянуло в пещеру, оно увидело странную картину: над спящим ребенком сидела, точно наседка, сова, не двигаясь с места. Но вместе с солнцем влетела в пещеру и вчерашняя певица и тотчас весело зачирикала:
– Ты все еще здесь, Никтимена? Спасибо, что согрела моего мальчика!
– Есть за что, землячка: и то сказать, из-за него ночную охоту пропустила, придется идти спать с пустым желудком. Ну, один раз можно, а на следующую ночь, пожалуйста, что-нибудь другое придумай.
– Уже придумала. Поручила сойке и кобчику снять шерстяную хлену с этой несчастной – она теперь сохнет на мураве, а потом мы ее дадим ребенку вместо одеяла.
– Сохнет?
– Да. Она ведь прямо в ручей упала, и он ее уже наполовину занес песком. Оно и лучше так: не надо могилу рыть.
– А как ты его накормишь?
– Тоже придумала. Дедушка Гип – тот, что его вчера спас, – обещал принести мне из фракийской деревни доенку с козьим молоком. А за хлебом послал сорок – они ведь воровать мастерицы. Да вот и они.
Действительно, в пещеру влетели три сороки, каждая с баранкой вокруг шеи. Тотчас поднялась трескотня: «Здравствуй, Прокна, здравствуй, Прокна, а где твой муж?» и т. д. Ребенок поднял голову и стал протирать глаза.
– Ну вот, проснулся, – сказала сова, – и мне можно на покой после голодной ночи. А у меня уже давно глаза слипаются: совсем, как у нас в Аттике говорят, осовела. Пожелайте мне покойного дня, мои детки.
И она забилась в самый темный угол пещеры.
– А где твой муж? – не унимались сороки.
– Это, подруги, тайна.
– Мы никому не скажем.
– Так я вам и поверила. Нет, вы мне лучше вот что скажите: где вы оставили старого Гипа?
– С нами летел, да отстал: тяжело ему с добычей в когтях. А ты все-таки насчет мужа…
– За травкой его послала, а за какой – не скажу, как бы вы ни просили. Немезида не велит. А, Гип, добро пожаловать. Да ты, я вижу, и себя не забыл: в когтях доенка, а в клюве, кажется, курица?
– Надо же было и о Никтимене подумать, – ответил Гип, бережно поставив доенку на пол и взяв курицу в когти. – Эй, тетка! Погоди спать, поделим сначала добычу.
Из глубины пещеры послышалось одобрительное «киккабау», и коршун исчез.
Ребенок все еще лежал в полусне, протирая глаза.
– УД-УД! УД-УД!
– А вот и ты, Терей. Как раз вовремя. Вижу, ты травку нашел?
– Нашел, жена. Весь Пангей облетел. Всех змей созвал – не знают. Да все ли здесь, спрашиваю? Нет, говорят, самой старой гадюки нет: тело одряхлело, не извивается. А вы, говорю, ее приволоките.
– Погоди рассказывать. Спасибо вам, милые, оставьте здесь свои баранки и летите к кукушке. Прокна, мол, велела кланяться и рассказать про горихвостку, что она высидела какого-то подозрительного птенчика: ни в мать, ни в отца…
Сороки стремглав бросились из пещеры.
– Ну, теперь продолжай.
– Так вот, говорю, приволоките. Отправились два молодых ужа, обвязали свои хвосты узлом вокруг старухи и притащили ее. Обращаюсь к ней. Да, говорит, одна такая травка еще осталась в самом глубоком ущелье Пангея; да как мне туда доползти? К счастью, поблизости оказался филин; обвил он себе гадюку вокруг шеи, а сам глазищами, что фонарями, освещает дорогу. Искали, искали и нашли.
– И прекрасно.
Она взяла травку в клюв, подлетела к полусонному ребенку и, повисши над его раскрытыми устами, стала сжимать ее так, чтобы ее сок стекал ему в рот. Выжав три капли, она отлетела в сторону.
Мальчик проснулся окончательно.
V
– Здравствуй, племянничек! Хорошо спал?
Мальчик вскочил на ноги и оглянулся кругом.
– Кто говорит? Няня, ты?
– Нет, родной; няни нет больше у тебя. А говорит с тобой твоя тетя Прокна, к которой ты ехал в гости, когда-то женщина, а теперь птица-соловей. Я и вчера говорила с тобой, только ты не понимал меня, а сегодня я сделала так, что будешь понимать и меня, и всех других птиц. Но прежде всего позавтракай молоком и хлебом.
Удивление у мальчика быстро прошло, и заговорил голод. Утолив его основательно, он стал опять искать глазами свою собеседницу.
– Тетя!
– Что, мой милый?
– А что мы теперь будем делать?
– Гулять пойдем. Хочу тебе показать мое царство. Ты ведь слыхал, надеюсь: я – царица этих мест.
Мальчик вышел из пещеры; птичка, перелетая с куста на куст, со скалы на скалу, показывала ему путь. Долина, в которую его перенес Гип, только с одной стороны была ограждена от прочего мира отвесной стеной скалы; по другую сторону ручья тянулись отлогие склоны, отчасти поросшие лесом, отчасти покрытые зеленой травой. Туда и повела мальчика его проводница. Он обо всем ее спрашивал – о каждой птичке, о каждом цветочке, и на все получал от нее ответы. Уставши от прогулки, он прилег под кустом; птичка порхнула на одну из его веток, прямо над его головкой, и затянула свою обычную песню.
Теперь он понимал эту песню – это была жалоба по погибшем в младенчестве Итии, погибшем от материнской руки. Стало ему грустно…
– Тетя, как же это могло случиться? – спросил он, когда она кончила свою песню.
– В пылу страсти, мой милый.
– В пылу чего?
– В пылу страсти. Ты не знаешь, что такое – страсть?
– Нет, тетя, не знаю. Ты мне объясни.
– Ну вот, послушай. Тебе говорили, что я стала женой Терея, царя фракийского?
– Говорили.
– Теперь пойми. Я страстно любила свою сестру, твою другую тетю, Филомелу – любила так, что без нее жить не могла.
– Это и есть страсть?
– Да, мой милый, это и есть страсть – одна из многих страстей.
– Тетя, – и у меня есть сестрица Креуса, и я ее очень люблю.
Ты мне напомнила о ней, и мне грустно стало.
– Это, дружок, еще не страсть, а ровная братская любовь.
Я же без Филомелы жить не могла. И говорю я мужу: «Дорогой мой, привези мне из Афин мою сестру».
– И он ее привез?
– Привез – но тут и случился грех. Он и сам полюбил ее.
– Страстно?
– Да, страстно.
– Это было нехорошо?
– Очень было нехорошо. Припомни: у твоего отца жена была?
– Конечно, моя мама.
– А другую женщину он любил так, чтобы сделать своей женой, рядом с твоей мамой?
– Нет.
– Ну, видишь; а мой муж именно так полюбил мою сестру.
А так как она не хотела, то он ее…
– Обидел?
– Да, страшно обидел – так страшно, что я тебе и рассказать не могу.
– Отчего же он это сделал?
– Под влиянием гнева, мой милый. Вот видишь: гнев – это тоже страсть.
– А дальше что?
– Узнала я об этом. И тут со мной случилось что-то страшное. Я захотела ему отомстить за сестру – отомстить так, как еще никто не мстил. Убить его – этого было мало. Нужно было другое, еще более ужасное.
Мальчик недоумевающим взором смотрел на рассказчицу. Ему вспомнилась одна товарка няни, которой он всегда боялся; она вдруг исчезла, и ему сказали, что она человека убила. Такова, значит, думал он, была и она тогда.
– Ты этого не поймешь, мой дружок, но верь мне: из всех страстей жажда мести – самая страшная. И все-таки я бы не сделала того, что сделала, если бы не еще одно…
– А что же ты сделала? Прокна медленно и с расстановкой ответила:
– Я убила нашего маленького сына, Ития.
– А!
– Из жажды мести, конечно; но тут было еще нечто. Ты этого подавно не поймешь, ты ведь еще маленький. Но скажи мне, тебе говорили, кто такой Дионис?
– Говорили: он научил нашего земляка Икария делать вино, а Икарий научил других. Это было еще при моем деде, твоем отце Пандионе. И с тех пор мы справляем ему ежегодные праздники, сельские Дионисии, Леней, Анфестерии. Это бывает очень весело.
– Это еще не все. Говорили тебе, что такое таинства Диониса, его ночные оргии на горах? Впрочем, к чему я спрашиваю, у вас их еще не знают. Ну, а здесь, во Фракии, давно знают и справляют. Так вот, постарайся меня понять: в этих оргиях человек приходит в исступление, все тогда ему кажется огромным. В такое исступление пришли и я, и моя сестра, и вместе мы тогда убили Ития.
– А он что – твой муж?
– Бросился на нас с мечом в руке. Но боги сжалились над нами. Я хотела бежать – и вдруг почувствовала, что я лечу и становлюсь совсем, совсем маленькой. Оглядываюсь и вижу, что и с ними происходит то же самое. И с тех пор я – соловей, Филомена – ласточка, а Терей – удод.
– Слава великим богам!.. Но объясни ты мне одно. Я видел тебя вместе с твоим мужем – и вы перекликались между собою, и никакой вражды между вами не было. Этого я не понимаю.
– Это потому, мой друг, что, превратясь в птиц, мы спустились ниже страстей.
– Ниже страстей?
– Да. Вот ты слышал, как я в песне оплакивала моего Ития, которого я сама убила; да, я грущу о нем, и эта грусть никогда меня не покинет. Но грусть – это не отчаяние, не страсть; грустить и мы, птицы, можем, но отчаиваться – нет. То же и с гневом: какой у птицы гнев? Ощетинит перышки – а в следующую минуту и забыла. Нет, настоящие страсти только у вас бывают, у людей.
– Как ты это странно сказала: ниже страстей. И скажи, ты счастливее с тех пор, как ты так живешь?
– Да, мой родной, много счастливее. И я много раз думала: если бы боги сотворили еще одно чудо, если бы они воскресили моего Ития, я бы и его душу постаралась удержать ниже страстей. И вот боги сотворили это чудо – они подарили мне тебя, сына моего брата, тебя, сироту. Теперь ты будешь мне вместо сына, а я заменю тебе твою умершую мать. Я хочу, чтобы ты был совсем счастлив – а для этого надо, чтобы и ты, подобно нам, слился с нашей общей Матерью-Землей и жил по ее законам. И это будет, будет.