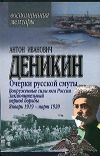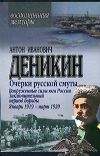Автор книги: Федор Дан
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Числа 20-го марта караул наш был внезапно сменен. Красноармейцы с бронепоезда и С. ушли, а на их место привели караул от финского батальона, расположившегося в крепостных казармах.
Большинство новых стражей наших ни слова не говорило по-русски. Из нас лишь кое-кто мог спросить по-фински хлеб, воду, нож, который час. Всякие политические разговоры стали невозможны. Но если начальство рассчитывало таким образом обеспечить строгость нашего заключения, то оно горько ошиблось. Среди финнов не было почти ни одного коммуниста, и все они с величайшей неохотой несли свою службу. Тех немногих возможностей разговора с ними, какие у нас были, оказалось достаточно для того, чтобы сойтись с ними. В первый день еще произошел крупный скандал, когда один караульный схватил за руку эсера Л., возвращавшегося из уборной, чтобы заставить его скорее войти в камеру. Прибежал адъютант батальона. Но скоро разъяснилось, что все это – недоразумение, что финн взял заключенного за руку, так как, не говоря по-русски, не мог сказать ему, что хотел, и т. д. Ровно через день все камеры уже снова были открыты и все наши «вольности» восстановлены даже еще в больших размерах, чем прежде. И когда в ночь с 1 на 2 апреля внезапно нагрянул к нам комендант с чекистами, чтобы переводить нас в другую тюрьму, он остолбенел: часовой у входных дверей мирно спал на стуле, никого из других караульных не было, двенадцать заряженных винтовок мирно стояли в козлах посреди кордегардии, а мы сидели по разным камерам в гостях друг у друга. Замечу кстати, чтобы не было ни малейшего сомнения на этот счет: все «льготы» и услуги красноармейцы бронепоезда и финны оказывали нам совершенно бескорыстно. Если не считать кусочков хлеба или кое-каких других продуктов, которыми мы с ними иногда делились, то ни мы, ни родные наши никогда никому из них ничего не давали. Скажу несколько слов о составе заключенных. Я уже перечислял тех партийных товарищей, которых вместе со мной перевезли в крепость. Кроме девятнадцатилетнего Малаховского, талантливого юноши, который только недавно вышел из тюрьмы после девятимесячного заключения и теперь снова был ввергнут в темницу (выпущен для отправки в ссылку лишь в мае 1922 года), все остальные были испытанные и активные члены партии. Не то у эсеров. У них из семнадцати заключенных сохранивших связь с партией было максимум четыре-пять человек. Да и те говорили мне, когда я показывал им прокламации нашего комитета: «Мы завидуем вам: ваша организация хоть работала и работает, и вы недаром сидите. А мы? Мы в Петербурге уже два года ничего не делаем». И, несмотря на это, один из них был арестован за время большевистского режима уже седьмой раз! Большинство же заключенных «эсеров» было взято по старым спискам, а на самом деле порвало уже давно всякую связь с партией и даже с политической деятельностью вообще, что и привело к появлению в большевистских газетах множества «писем в редакцию» с «чистосердечным» покаянием и даже прямыми нападками на партию эсеров. Среди женщин была одна, Т., только потому попавшая в число социал-демократов, что когда-то она делала передачи одному эсеру, сидевшему в тюрьме! А другая, молоденькая девушка Л., была повинна лишь в том, что жила на квартире у Т.! И вот волею Григория Зиновьева все эти люди чуть не попали в число «заложников» за Кронштадт! Во всяком случае, даже «покаявшиеся» просидели не менее 1/2 – 2 месяцев; другие просидели 5–7 месяцев, а некоторые сидят и до сих пор – полтора года!
Ровно месяц провели мы в крепости. В ночь с 1 на 2 апреля на грузовиках, в сопровождении чекиста Степанова, мы выехали за ворота крепости и направились на Выборгскую сторону в Петрожид. Остановились на улице, а чекист отправился в контору тюрьмы. Через четверть часа он вышел оттуда с заявлением, что нас «не принимают». Это был эпизод из междуведомственной борьбы: Петрожид находится в ведении комиссариата юстиции, который не хочет, чтобы в его тюрьмах распоряжалась ЧК. Нас повезли на Шпалерную, и в два часа ночи мы снова входили в гостеприимное здание, покинутое нами в столь драматических условиях месяц тому назад.
Глава VII
В доме предварительного заключения
Дежурный помощник и конторские барышни в ДПЗ с удивлением смотрели на нас, когда мы входили, и не только потому, что не были предупреждены о нашем приезде. Одна из барышень прямо сказала мне: «Как, вы живы? А у нас были уверены, что вас расстреляли!» – «Почему?» – «Да потому, что вас всех увозили, как всегда увозят на расстрел: «в распоряжение коменданта ЧК».
В конторе нам пришлось долго ждать: места в тюрьме не было! Рассчитанный на 700 человек, ДПЗ вмещал теперь свыше 2 тысяч!
Прошло порядочно времени, пока для нас очистили помещение. Помещение это оказалось камерой в общем отделении женского корпуса, отведенном, ввиду переполнения тюрьмы, под мужчин. Привезенных с нами женщин увели наверх, в одиночки, а нас, в числе 22 человек, ввели в камеру, где было всего 13 коек. Общее отделение устроено так, что три камеры выходят в коридор, замыкающийся с лестницы тяжелой решетчатою дверью; на площадке лестницы – дежурная надзирательница.
Когда мы проходили коридором, он был завален людьми, спавшими прямо на полу. Многие еще бродили с вещами в руках, отыскивая свободное местечко, где бы можно было улечься. Это были злосчастные обитатели той камеры, которую для нас очистили. Как легко себе представить, они отнюдь не с восторгом встретили наше появление и осыпали довольно нелестными эпитетами людей, которые пользуются такими привилегиями, что для них среди ночи выгоняют с насиженных мест других заключенных. Мы себя чувствовали отвратительно и готовы были бы всю ночь провести в коридоре; но затевать скандал не приходилось, и вернуть выгнанных на их места было не в нашей власти.
Кое-как мы разместились на койках и на полу. Я лично предпочел лечь на пол, так как больше всего боялся набрать вшей, которых, как обнаружилось утром, действительно было немало.
Утром начали знакомиться с многочисленной и разнообразной публикой, переполнявшей остальные две камеры и коридор. Наиболее интересными оказались две группы: инженеры, работавшие по постройке электрической станции на одной из рек, и кронштадтцы. Арест инженеров, по их словам, был следствием столкновения их с политическим комиссаром, коммунистом. Они уверяли, что комиссар этот производил грандиозные хищения. Когда же они попытались бороться с ним, то он донес на них как на контрреволюционеров и саботажников. В вину им ставилась также покупка продовольствия для рабочих на вольном рынке с обходом установленных декретами правил. По этим правилам они должны были предварительно обращаться за продовольствием в разные инстанции и ждать, пока эти инстанции доставят им требуемое или ответят отказом. На бумаге все это очень гладко и хорошо, но в действительности рабочие не стали бы ждать результатов всей этой канцелярской волокиты, а просто разбежались бы. Теперь, по словам инженеров, все проделки комиссара уже раскрыты, и он сам также арестован вместе со всею «комячейкою». Сколько помнится, все эти инженеры потом судились и были оправданы. Что стало с комиссаром, не знаю. Инженеры с интересом расспрашивали нас о позиции социал-демократии; но больше всего занимал их вопрос, стоят ли социал-демократы за свободу печати и для инакомыслящих, в том числе и для «буржуев». Получив утвердительный ответ на этот вопрос, они успокоились. «А иначе, – говорили они, – между вами и большевиками, с нашей точки зрения, никакой разницы не было бы: и вы, и они – социалисты, а социализм, как показала русская революция, – вредная утопия». Мне было очень интересно наблюдать эту новую психологию интеллигентских кругов в России, где испокон веку всякое интеллигентское движение было по традиции окрашено в более или менее социалистический цвет.
Другая группа – кронштадтцев – состояла из рабочих и матросов. Матросы были очень озлоблены. Они негодовали на петроградских рабочих, которые «из-за фунта мяса» не поддержали и «продали» их. Разочаровавшись в коммунистической партии, к которой многие из них раньше принадлежали, они с ненавистью говорили о партиях вообще. Меньшевики и эсеры для них были ничуть не лучше большевиков: все одинаково стремятся захватить власть в свои руки, а захватив, надувают доверившийся им народ. «Все вы – одна компания! Вот когда вас привели, так небось нас большевики сейчас же сбросили с коек на пол, а для вас – все удобства!» – говорил раздраженно один матрос. Не надо никакой власти, нужен анархизм – таков был вывод большинства матросов из разочарования в рабочем движении и партиях.
Рабочие были настроены несколько иначе. Мне особенно запомнился один высокий, сильный, красивый молодой рабочий-электротехник. Он подробно рассказывал мне, как его с десятком других товарищей взяли в плен и вели берегом Финского залива в Петроград. Им трое суток ничего не давали есть, и неоднократно конвой пытался расстрелять их: только вмешательство начальника конвоя предотвращало расправу. Но, по его словам, после взятия Кронштадта до шестисот пленников было расстреляно.
Восстание, по его рассказам, было полной неожиданностью для самих восставших. Никто не ожидал, что скромные требования их, за которые голосовали почти все без исключения кронштадтские коммунисты, не только встретят грубый и решительный отказ, но и вызовут свирепый приказ Троцкого о беспощадной расправе с Кронштадтом. Зато когда восстание стало фактом, к нему примкнули решительно все. Совершенно ясно вырисовывались и причины неудачи восстания: чтобы иметь военный успех, надо было передать организацию восстания в руки офицерства; но восставшие опасались политического результата такой организации и потому потерпели военную неудачу. Большевики изображали главарем восстания генерала Козловского. На самом деле матросы лишь заставили его продолжать исполнять ту же должность начальника артиллерии, какую он исполнял при большевиках, а никакой власти ему не дали. При всем том только благодаря курсантам, которых привезли даже из Москвы, и китайским войскам удалось взять Кронштадт, боевые суда которого, скованные льдом, были лишены возможности двигаться. Да бывали случаи, когда и курсанты отказывались идти в атаку.
Что меня поражало в рассказах моего собеседника – это неподдельное умиление, с которым он говорил об атмосфере, царившей в Кронштадте в дни восстания, когда все охотно делились друг с другом последним, охотно шли исполнять указанную им работу, когда «все могли свободно говорить», даже коммунисты. Всего человек десять из них было арестовано в последние дни восстания. Но они были заключены в хорошем помещении, кормили их так же, как кормились сами повстанцы, и ни одного волоса не упало с их головы, хотя в числе их находился комиссар Балтийского флота Кузьмин, он же – редактор петроградской «Красной газеты», ежедневно грозившей кронштадтцам самыми ужасными карами.
Тем же настроением радостного умиления дышали и рассказы одного из вожаков восстания, члена кронштадтского ревкома Перепелкина, с которым мне довелось познакомиться впоследствии во время прогулки по тюремному двору. Он составил подробное описание всего пережитого в Кронштадте, и рукопись эта, как мне известно, была передана на волю для переправки за границу. Что сталось с нею, я не знаю. Будет очень жаль, если окажется, что этот интереснейший человеческий документ пропал. Скажу кстати, что по настроению своему Перепелкин также склонялся к анархизму.
В своей рукописи Перепелкин рассказывал, какое восторженное, «весеннее» настроение царило в Кронштадте и как дети танцевали на улицах на радостях, что избавились от большевиков; как они же разносили на позиции съестные припасы; как происходило братание между матросами, красноармейцами и рабочими. Все наивные политические иллюзии этого движения и вся действительная трагика его очень ярко обрисовывались в рассказе Перепелкина.
Неизгладимо врезался мне в память еще один матрос-кронштадтец, с которым я встречался на прогулке и который, как и Перепелкин, сидел в «строгой» одиночке. Его фамилия была Савченко, и он уверял, что, будучи рядовым участником восстания, именно из-за своей фамилии выдвинут чекистами в разряд «вожаков». По его словам, в газетах было напечатано о каком-то бывшем царском генерале Савченко, принимающем участие в восстании, и его спутали с этим генералом. Бледный, отощавший на казенном питании без передач, с лихорадочно горящими черными глазами, он все время мучился мыслью, что его расстреляют. Я успокаивал его. Я говорил ему, что невероятно, чтобы два месяца спустя после восстания, когда большевики изменили в корне свою экономическую политику именно в духе требований кронштадтцев, когда они обеспокоены рабочими волнениями, стараются всячески успокоить рабочих и придумывают даже для этой цели «беспартийные конференции», – невероятно, говорил я, чтобы теперь большевики вздумали без тени необходимости, просто ради грязной мести, начать новые расстрелы: ведь это было бы ничем не оправдываемым зверством, а положение большевиков и без того не так блестяще, чтобы они без нужды стали восстанавливать против себя народ бесцельною жестокою расправою. Савченко слушал меня, веря и не веря. Надежда то вспыхивала в нем, то снова угасала. Мучился он ужасно, сидя один в своей камере, без книг, с вечной мыслью о смерти. Увы! Я оказался плохим пророком. В одну проклятую ночь приехали два грузовика, забрали сорок с чем-то человек кронштадтцев, находившихся в ДПЗ, в том числе и Перепелкина, и Савченко, и веселого молодого рабочего, и повезли их на Полигон на расстрел. Мы узнали об этом только на следующее утро, и долго-долго стояли передо мною измученные глаза Савченко, и мысль не могла примириться с этим бессмысленным, ненужным убийством. По словам надзирателей, обреченные выходили на двор к роковым грузовикам с пением «Вы жертвою пали», а пьяные конвойные-чекисты ругались площадными словами…
Скажу здесь же о некоторых других заключенных, так или иначе прикосновенных к кронштадтскому делу, которых я видел в ДПЗ. Здесь была прежде всего вся семья генерала Козловского: жена с одиннадцатилетней дочкой и два сына-моряка. В Кронштадте никто из них не был. Вся «вина» их заключалась в неудачном выборе мужа и отца. И тем не менее все они – кроме девочки – после нескольких месяцев пребывания в ДПЗ получили по нескольку лет концентрационного лагеря! А сама Козловская вместе с девочкой еще до перевода в ДПЗ провела 11/2 месяца в одной из темных клетушек при Петроградской ЧК, о которых я еще буду иметь случай говорить ниже.
Запомнился мне также один юноша лет двадцати, курсант Ораниенбаумской школы летчиков, член коммунистической партии. Он показал мне полученный из ЧК письменный «приговор», гласивший буквально так: «Слушали дело о таком-то, члене РКП, партийный билет № такой-то, по обвинению его в воздержании при голосовании резолюции (sic!). Постановили: заключить на год в концентрационный лагерь». Молодой человек объяснил мне смысл этой изумительной бумаги. Речь шла о резолюции с требованием беспощадной расправы с кронштадтцами, которую предложил общему собранию курсантов комиссар школы: мой собеседник не счел возможным поднять за нее руку и сейчас же был арестован. Из других рассказов я узнал, что кронштадтские события вообще оказали сильное влияние на настроение петербургских коммунистов, особенно молодежи, и многих заставили покинуть ряды большевистской партии.
В мае – июне начала появляться в ДПЗ новая категория кронштадтцев – добровольно вернувшиеся из Финляндии, где им приходилось жить в концентрационных лагерях в самой тяжелой обстановке. Газеты пели им хвалу. Они сами подавали заявления о своем полном раскаянии, а некоторые задним числом забрасывали грязью своих бывших товарищей. Несмотря на все это, их – по крайней мере, главную массу – на свободу не выпустили, а тоже рассовали по разным концентрационным лагерям. Те из них, с которыми мне приходилось говорить, тоскливо вздыхали о своей горькой участи и обманутых надеждах.
В общем коридоре, где трудно было двигаться от множества людей, было шумно и даже весело. Как мне неоднократно приходилось наблюдать и впоследствии, к тюрьме и у заключенных, и у администрации установилось какое-то своеобразно-беззаботное отношение, как к неизбежному и почти нормальному этапу обыденной жизни, через который всякий должен пройти. «От тюрьмы да от сумы не зарекайся» – эта старинная русская поговорка никогда еще не соответствовала так точно общему настроению, как в Советской России. Тюрьма перестала пугать своею таинственностью. В ней побывали за последние годы решительно все – если не в качестве заключенных, то в качестве родственников, приходящих на свидания и приносящих передачи.
Утром старшая надзирательница сменяла постовых. «Смотрите, какую кралю я вам ставлю, – шутила она, обращаясь к столпившимся у решетчатой двери заключенным, – нарочно самую красивую выбрала». Матросы тотчас же принялись любезничать с «кралей» – здоровой, красивой девушкой, называя ее ласковым прозвищем «сестричка» и получая в ответ – «братишки». И весело, задушевно смеялись и надзирательница с тяжелой связкой ключей у пояса, и арестанты, над головой которых уже замахнулась коса смерти…
Часа в два нам уже принесли передачи. Оказалось, что, придя в крепость, родные узнали, что нас там нет, но куда увезли нас, им не сказали. С тяжелыми свертками в руках обегали они несколько тюрем, пока не разыскали нас. Но только что мы принялись за приятное дополнение к скудному казенному обеду, как за нами снова пришли, чтобы переводить нас в мужской одиночный корпус. Здесь мы были размещены по двое в камере, но гуляли все вместе на небольшом и душном тюремном дворе, в кругу, огороженном решеткой. За решеткой, по четырем сторонам двора, гуляли заключенные из «строгих» одиночек, и таким образом мы могли разговаривать с ними: крайнее переполнение тюрьмы не давало возможности установить строгую изоляцию, даже если бы низший тюремный персонал и захотел самым точным образом выполнять развешанные по стенам инструкции.
Через несколько дней нас посетил новый начальник Петроградской ЧК – некий Семенов, так же, как и Комаров, из рабочих, производивший впечатление человека скромного и малоинтеллигентного. Я спросил его между прочим, что означает эта смена руководящего персонала ЧК – уж не изменение ли курса ее? Он ответил на это простодушно: «Я и сам не знаю. Вот увидим!» Он рассказал мне о происходивших в это время по фабрикам и заводам выборах на беспартийную конференцию и с торжеством заявил, что меньшевиков больше десяти – пятнадцати на конференции не будет. На это я заметил ему, что если бы были действительно свободные выборы, то наша партия провела бы не менее половины делегатов. Он стал горячо спорить, но когда я насмешливо сказал ему: «А почему бы вам не попробовать?» – улыбнулся и перешел к другой теме. Тема эта была – условия нашего дальнейшего содержания в тюрьме. Семенов заявил, что хорошо понимает недопустимость содержания нас в обычных условиях заключения, так как мы ни в чем не обвиняемся, а просто, «ввиду тяжелого времени, переживаемого советскою властью», нас признано необходимым изолировать от общения с внешним миром, и особенно рабочими. Поэтому будет сделано все возможное, чтобы наше положение облегчить.
И действительно, на следующий день мы были переведены в новое помещение. Деревянной перегородкой были отделены галереи пятого и шестого этажей одного из крыльев ДПЗ и предоставлены в наше полное распоряжение. Сюда были переведены в первую очередь все бывшие обитатели крепости (мужчины), а затем это отделение – «социалистический коридор» – пополнялось по нашему указанию заключенными социалистами и анархистами. Камеры наши (в большинстве разместилось по одному человеку, лишь немногим – с увеличением числа заключенных – пришлось жить вдвоем) были открыты с утра до одиннадцати – двенадцати часов ночи, и электричеством мы могли пользоваться всю ночь. Вместо обычных четверти часа нам было дано на прогулку час. В одной из камер верхнего этажа была поставлена железная печка, на которой мы могли разогревать приносимые из дому припасы, варить картофель и кашу, кипятить воду. Это было очень важное приобретение, ибо пища в это время в ДПЗ была не только крайне скудна, но и отвратительна. Мы получали в день полфунта хлеба, чайную ложечку сахарного песка и два раза в день суп. Суп этот вначале варился из зайцев, бог весть откуда попавших в запасы петроградских продовольственных органов. Редко приходилось мне есть что-либо более отвратительное, и уже через несколько дней у меня появилась такая изжога и тошнота, что недели на две я окончательно потерял всякий аппетит, а затем уже к казенному обеду и ужину не прикасался. Когда зайцы все были съедены, стали варить суп из селедки. Приправой служила сначала мерзлая кормовая свекла, а потом, когда открылась деятельность петроградского порта, американская фасоль, оказавшаяся почему-то горькой, но во всяком случае более питательная, чем пресловутая свекла. Но все это давалось в таких незначительных дозах, что заключенные, не имевшие передач из дому, ужасно голодали. Особенно страдали кронштадтские матросы, вернувшиеся из Финляндии. Но хуже всего было то, что для экономии топлива кипятильные кубы оставались в бездействии. Воду для чая кипятили в тех же котлах, где только что варился заячий или селедочный суп! Она имела отвратительный вкус и запах, и лишь с трудом можно было выпить стакан настоянного на этой воде «кофейного напитка» из пережженных подсолнухов, который давался заключенным вместо чая.
По вечерам у нас в коридоре читались лекции, а иногда по отдельным камерам собирались клубы – социал-демократический, эсеровский и анархический. На лекции и заседания клубов приходили женщины-социалистки из женского корпуса. Раз в неделю мы ходили в театр, устроенный в противоположном крыле дома. Здесь представления давали заключенные артисты, которых всегда было несколько человек, или же приглашенные со стороны. Декламация, пение, балалаечный оркестр были обычными номерами. Очень часто демонстрировалось балетное искусство, для чего приглашались второстепенные артистки государственных театров. Иногда ставились целые пьески, большей частью Мольера и Скриба, в переделке и с сокращениями. Раз как-то поставили революционную пьесу. Но только она относилась к эпохе Февральской революции 1917 года и потому в обстановке большевистского режима звучала странно. Сюжет ее был таков: на фронте три солдата приговариваются к смертной казни за пропаганду среди своих товарищей и непочтительность к начальству. Приговоренные произносят речи против смертной казни и с восхвалением свободы. Их уже выводят на расстрел, но в это время вбегает офицер, тоже преданный делу свободы, и сообщает, что в Петербурге революция, царь низложен и т. д. Разумеется, приговоренных тотчас же освобождают, и товарищи устраивают им триумф. Но триумф устраивает и тюремная публика филиппикам против смертной казни, речам о свободе, революционному офицеру («золотопогоннику»). Коммунистическому тюремному культпросвету пришлось убедиться, что он не совсем удачно со своей точки зрения подобрал пьесу для пропаганды. Не более удачна была и попытка пропаганды при помощи кинематографа. Была дана какая-то старая немецкая социальная драма. Содержание ее следующее: рабочие громадного завода объявляют забастовку, несмотря на отговоры своего молодого вождя; забастовка кончается неудачей, и обозленные рабочие пытаются взорвать завод и расправиться с хозяином. Но добродетельный вождь предохраняет завод от взрыва, а хозяина спасает от расправы. В результате кое-кто из забастовщиков оказывается в тюрьме, а добродетель получает награду в виде директорского места и руки хозяйской дочери. Передачи из дому нам разрешалось делать два раза в неделю, а свидания давались раз в неделю – в любой день, причем во время свидания также можно было делать передачи. Сношения с волей мы, разумеется, сумели наладить еще значительно лучше, чем из крепости, так что регулярно получали не только письма, сообщения о деятельности нашей организации и пр., но и «Социалистический вестник», начавший в это время выходить в Берлине. Один раз администрация нагрянула к нам с ночным обыском, но о нем мы были заранее предупреждены, и обыск оказался безрезультатным. Другой раз ЧК подсадила к нам своего агента под видом арестованного меньшевика. Но он вел себя так неловко, что мы тотчас же накрыли его, и на следующий же день он был «освобожден».
Состав публики в нашем «социалистическом коридоре» все расширялся. Явились новые члены нашей организации, арестованные в марте и апреле. От них узнал кое-что интересное в связи с рабочими волнениями и Кронштадтским восстанием. После моего ареста наша организация получила приглашение послать своих представителей в Собрание уполномоченных петроградских фабрик и заводов. Решили командировать одного товарища для ознакомления. Оказалось, что «собрание» это – чистейший блеф. Никаких уполномоченных не было, а были отдельные лица, именовавшие себя плехановцами, левыми эсерами, анархистами и т. д., решительно никем не выбранные. А между тем за подписью этого «собрания» был выпущен листок, в противоположность нашей организации призывавший рабочих к восстанию во имя Учредительного собрания. Разумеется, наши товарищи отказались иметь какие бы то ни было сношения с этой группой легкомысленных авантюристов. Другой случай, рассказанный мне, показывал, как разного рода темные элементы пытались использовать создавшуюся сумятицу. К одному из наших товарищей явился в начале марта молодой человек, хорошо одетый, с дорогими перстнями на пальцах. Он заявил, что сочувствует меньшевикам и, зная нужду нашей организации в средствах, хочет помогать ей деньгами. На первый раз он предложил 300 тысяч рублей – сумма по тому времени очень большая. Это щедрое предложение в той обстановке, в которой оно было сделано, возбудило понятные подозрения. Молодому человеку было сказано, что в данное время организация в средствах не нуждается, и он исчез, чтобы больше не появляться, оставив, впрочем, указания, как его разыскать в случае надобности. Выяснить по этим указаниям с точностью, откуда шли эти предложения, оказалось невозможным ввиду последовавшего вскоре ареста одних товарищей и вынужденного отъезда из Петрограда других. Но по имевшимся данным у всех прикосновенных к этому делу товарищей получилось определенное впечатление, что эта наивная попытка использовать нашу организацию для своих целей исходила от белогвардейских кругов, которые к этому времени сильно зашевелились.
Кроме членов нашей организации к нашей тюремной группе примыкали и некоторые беспартийные рабочие. Беседы в клубе и чтение «Социалистического вестника» очень сблизили их с нами. Группа социалистов-революционеров также пополнилась новыми членами, главным образом из числа сидевших уже второй год в Петрожиде и теперь переведенных к нам. Многие, числившиеся эсерами во время пребывания нашего в крепости, как я уже упоминал, успели напечатать покаянные письма, и их освобождали. Из среды нашей группы подобное письмо неожиданно написал Скворцов, молодой рабочий Экспедиции заготовления государственных бумаг, выступавший у нас в клубе все время как крайний правый и обличавший партию в соглашательстве с большевиками. Хитрый малый написал в ЧК двусмысленное письмо с заявлением, что он никогда не разделял и не разделяет партийной позиции, предоставив самой ЧК догадываться, в каком смысле он не разделяет. Немедленно исключенный из клуба, он имел нахальство требовать отмены этого решения, угрожая, что иначе он по выходе на волю будет обличать меньшевиков. К сожалению, его пример соблазнил его товарища по Экспедиции, человека, обремененного семьею, которую скудная помощь со стороны рабочих не могла спасти от голода.
Группа эсеров меньшинства (так называемый «Народ») также имела в нашем коридоре двух своих представителей. Левые эсеры имелись в количестве четырех-пяти человек. Наконец, много было анархистов всевозможных толков.
Среди последних особую интересную группу представляли «американцы», то есть русские рабочие, жившие в Америке и соблазнившиеся слухами о российском коммунистическом Эльдорадо. Действительность готовила им по приезде самое горькое разочарование, и они массами попадали в советские тюрьмы. Пережитый опыт сильно отразился на их настроении, заставив их несколько изменить свой взгляд на политическую свободу и проникнуться жгучею ненавистью к большевикам. С одним из таких сотоварищей по заключению, рабочим Р., мне пришлось встретиться в Риге: он был выпущен на свободу, но затем ему грозил новый арест, и он предпочел скрыться. С невероятными трудностями добрался он до Риги и, узнав здесь из газет о моем приезде, разыскал меня, прося помочь ему добраться до Америки. Он говорил мне, что теперь все силы свои посвятит тому, чтобы раскрыть американским рабочим глаза на действительный характер большевистского режима. В какую обстановку подозрительной слежки были поставлены вернувшиеся в России «американцы», показывает следующий маленький, но характерный факт: среди заключенных в нашем коридоре был один, арестованный чекистами на улице за слишком откровенный разговор с двумя «американцами», обратившимися к нему за какими-то указаниями.
Через тюрьму все время проходили громадными массами заключенные – рабочие, мелкие служащие, матросы и красноармейцы. По сравнению с тем, что я наблюдал в Бутырской тюрьме два года тому назад, состав заключенных резко изменился. Выглянешь во двор, где идет прогулка, и уже почти не видишь хорошо одетых фигур «спекулянтов», высших служащих, белогвардейских офицеров. Они попадаются, но тонут в сплошной серой массе простого народа. А в непрерывно набегающих на тюрьму новых и новых волнах заключенных, как в кинематографе, отражается вся жизнь города. Вот открылся петроградский порт, и начинают приходить суда с иностранными грузами. Очень скоро по составу тюремных обитателей можно с математической точностью установить интенсивность жизни порта и характер привозимых грузов. Встретишь на прогулке новую группу заключенных и в ответ на вопрос: по какому делу? – получаешь: за муку, за фасоль, за селедки и т. д. и т. п. Ненормальные условия жизни насильственно толкают людей на хищения. Привезенный груз по дороге к правительственной инстанции, являющейся его собственницею, десятками каналов утекает на вольный рынок: сотням людей, прикосновенных к разгрузке, перевозке, хранению и распределению, это проходит благополучно, а десятки попадают в тюрьму.