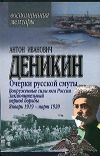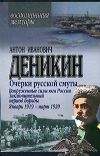Автор книги: Федор Дан
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Это – уголовное отделение тюрьмы. Но в политическом жизнь города отражается еще ярче и нагляднее. В рабочих кварталах Петербурга все лето было беспокойно. Фабрики, стоявшие за отсутствием топлива и сырья, то открывались, то вновь закрывались. Каждое открытие их сопровождалось предъявлением изголодавшимися рабочими определенных требований, а неудовлетворение этих требований влекло за собою волнения, забастовки и даже кое-где (за Московской заставой) попытки массовых уличных демонстраций. Начало апреля, мая, июня ознаменовалось такими беспорядками. И каждый раз, наряду с немногими интеллигентами и партийными рабочими, сотни серых, беспартийных рабочих проходили через тюрьму. Тут были трамвайщики, скороходовцы, обуховцы, путиловцы, речкинцы – весь рабочий Петербург. И каждый раз ЧК начинала все туже отвратительную работу запугивания массовиков, отделения зачинщиков, натравливания на «интеллигентов». В конце концов большинство арестованных после месяца-полутора заключения выпускалось, но от каждого улова отдельные группы прочно оседали в тюрьме или попадали в концентрационные лагеря.
Для борьбы с недовольством рабочих большевики задумали инсценировать сближение с беспартийными. Было объявлено, что большевистская власть хочет опираться на беспартийную массу и привлечь представителей ее на руководящие советские должности. В этом смысле была начата на фабриках и заводах агитационная кампания для подготовки выборов на беспартийную рабочую конференцию в Петрограде. Был выработан наказ, касавшийся материальных нужд рабочих, и наказ этот усиленно проводился большевиками при выборах делегатов. Как ни ослаблена была наша организация непрерывными налетами ЧК, она все же решила принять деятельное участие в этой кампании, разъясняя рабочим массам, что всякие попытки сколько-нибудь прочно улучшить положение рабочих без коренного изменения общей политики осуждены на бесплодие. Поэтому наша организация настаивала, чтобы делегатам давался и политический наказ в смысле требования демократической свободы и, как первого шага к тому, свободы выборов в Советы и на созываемую конференцию. Агитация наша, которую вели своими силами буквально двое-трое рабочих, так как человеку со стороны невозможно было показаться на собрании без того, чтобы не быть тут же арестованным, имела довольно большой успех. Тогда большевистские газеты заговорили, что советская власть имеет, собственно говоря, в виду сближаться только с «честными» беспартийными. «Честными» же были объявлены лишь те, которые готовы удовольствоваться обещанными в большевистском наказе подачками и десятком-другим мест в советских учреждениях и согласны не заикаться о политике. Все остальные были перечислены в разряд «нечестных», «меньшевистских подголосков» и т. д., и им была объявлена беспощадная борьба. После этого весь советский полицейский аппарат был пущен в ход, чтобы обеспечить прохождение на конференцию, наряду с коммунистами, исключительно «честным» беспартийным, которых соблазняли перспективою превращения в крупных бюрократов. Из меньшевиков прошли на конференцию только трое рабочих, ведших всю кампанию. Понятно, что при таких условиях никакого действительного «сближения с беспартийными» произойти не могло, и никакой роли в успокоении взбудораженной рабочей массы конференция не сыграла. Десяток «честных» беспартийных получил более или менее приличные места и бесследно затерялся в толпе советских бюрократов, а несколько десятков делегатов очутились немедленно за тюремною решеткою. Рабочие же волнения продолжались своим чередом, непрерывно увеличивая тюремное население и заставляя откладывать с месяца на месяц возвещенные было перевыборы в Петроградский Совет. Затея с «беспартийными» конференциями была оставлена раз навсегда.
Этому способствовал и ход самой конференции, отнюдь не удовлетворивший большевиков, несмотря на тщательную фильтровку делегатов. Беспартийная масса, не объединенная никакой твердой программой, лишенная возможности организованного общения с парой наших делегатов, конечно, не могла взять конференцию в свои руки и провести на ней свою волю. Большевикам удалось без труда посадить свой президиум и навязать конференции свой порядок дня. Но настроение массы было таково, что наша крохотная фракция встречала в ней широкий отклик и деятельную поддержку. Благодаря этому ораторы-меньшевики, рабочие Зимницкий и Бакленков, получили возможность выступать, и речи их встречались шумными аплодисментами. Более того. Они добились того, что конференция потребовала оглашения нашей партийной декларации: ее огласил в своей речи Зиновьев – конечно, пересыпая чтение декларации полемическими выпадами по адресу меньшевиков. Опасность показалась большевикам так велика, что сейчас же – по хорошо известному образцу – на конференции появилось множество новых, неведомо кем избранных «делегатов» – из коммунистических ячеек и правлений профессиональных союзов.
Настроение конференции ярко выявилось в связи с моим именем. Один из большевистских вожаков, отвечая Бакленкову, упрекал его в том, что он рассуждает не по-марксистски. Тогда Бакленков сымпровизировал такое предложение: «Очень может быть, что я, рабочий, учившийся на медные гроши, плохо знаю Маркса. Но почему же вы, большевики, привели сюда всех своих вождей, которые и спорят по-ученому с нами, рабочими? Хотите, чтобы и меньшевики могли по-марксистски обосновать свои взгляды, вам легко это сделать: пусть Зиновьев сядет в свой автомобиль, съездит в ДПЗ и привезет оттуда Дана. Тогда мы поспорим». Это неожиданное предложение было подхвачено массой, которая долго не успокаивалась и требовала вызова меня из тюрьмы. Пришлось объявить перерыв. Растерявшийся президиум собрался для решения вопроса, вызывать ли меня или нет. Как рассказывал впоследствии один беспартийный рабочий, входивший в состав президиума, поколебались даже некоторые большевики, и нужна была вся энергия и бесцеремонность Зиновьева, чтобы добиться покорности. Перерыв длился несколько часов, во время которых делегатов кормили обедом и подвергали большевистской обработке. Когда же заседание к вечеру возобновилось, председатель, не обращая внимания на крики делегатов, требовавших доклада о решении президиума на мой счет, сразу дал заключительное слово Зиновьеву, а затем была прокачена и резолюция, первоначальный проект которой, однако, ввиду настроения собрания пришлось значительно почистить от полемических нападок на меньшевиков.
В своем заключительном слове Зиновьев расписывался в своем «глубоком уважении» к таким старым рабочим социал-демократам, как Зимницкий, которые-де только по недоразумению остаются с меньшевиками. А через несколько дней я уже разговаривал с этим «глубокоуважаемым» Зимницким на тюремном дворе ДПЗ, откуда он вышел лишь сейчас – более года спустя после конференции! По словам Зимницкого, беседовавшие с ним представители беспартийных в президиуме горько жаловались ему на то, что не сумели настоять на своем и дали большевикам одурачить себя. Но вывод, который сделали отсюда они, а вместе с ними и вся беспартийная, рядовая масса, был неутешителен: перед массой как будто захлопнулась еще одна дверь, через которую она искала выхода из тупика, и она уходила с конференции с горьким чувством обиды, с усилившейся апатией, с укрепившимся чувством безнадежности – все равно, ничего не поделаешь! Остается махнуть на все рукой и пассивно ждать дальнейшего хода событий. Необычайно осязательно чувствовалось в этом эпизоде с конференцией, как преступно растрачивают большевики своими нечестными приемами революционный капитал, накопленный в рабочих массах десятилетиями борьбы!
Итак, с тюремной точки зрения мы находились в условиях вполне сносных. Но лишь тот, кому не приходилось месяцы проводить в заключении, может думать, что благодаря этому тюрьма переносится легче. Как парадоксально это ни звучит, но по своему опыту и наблюдениям я бы сказал, что чем благополучнее внешние условия сидения, тем острее чувствуется тот чисто психический гнет, который связан с тюрьмою. Человек – особенно «политический» человек – неудержимо стремится к действию. И чем меньше сил и внимания уходит у него на преодоление мелких внешних неудобств, тем более сосредоточиваются мысли и чувство на том, что в тюрьме наиболее невыносимо, – на лишении свободы, на состоянии под непрерывным надзором и наблюдением, на праве какой-то посторонней, враждебной силы регулировать мой образ жизни, мои сношения с окружающим миром, мою жажду деятельности. Эту психологию заключенного не мешает помнить, чтобы оценить действительную меру гуманности, выражающейся в улучшении внешних условий заключения, и понять, почему и в самой идеальной тюрьме не прекращается и не может прекратиться борьба заключенных за все большее и большее расширение своих прав.
Эти свойственные всякому тюремному заключению гнетущие психологические моменты во сто крат усиливаются специфическими особенностями большевистской тюрьмы.
Входя в советскую тюрьму, никто даже приблизительно не знает, долго ли он в ней пробудет и чем окончится его заключение. Твердого кодекса, устанавливающего определенное соотношение между преступлением и наказанием, не существует. Не существует и твердого порядка судопроизводства, каких-либо незыблемых гарантий для обвиняемого. Его дело может быть разрешено ЧК, но оно может быть передано и в революционный трибунал, который, в свою очередь, никакими нормами не связан в назначении меры наказания. Сидя в тюремной камере, человек – все равно, виновен ли он в приписываемом ему преступлении или нет, – имеет одинаковые шансы неожиданно быть выпущенным на свободу или столь же неожиданно быть потащенным на расстрел по постановлению президиума ЧК, состоявшемуся за его спиной, без его ведома, иногда даже без формального допроса! Да и самое обвинение формулируется в таких неопределенных, эластичных выражениях, которые избавляют обвинителей от обязанности приводить конкретные доказательства совершения конкретных деяний, вменяемых заключенному в вину. Не говорю уже о том, что всякий может внезапно попасть в «заложники». Согласно доктрине большевистской юстиции, дело ведь не в суде, а в расправе с элементами, почему-либо в данный момент признаваемыми вредными для коммунистической диктатуры. Буквально так формулировал «государственный обвинитель» Крыленко задачи трибунала, перед которым я стоял четыре года тому назад по обвинению в «оклеветании» советской власти в выходившей тогда нашей газете, где я писал, что большевики «расстреливают рабочих по суду и без суда» (дело было трибуналом прекращено). Поэтому арестант большевистской тюрьмы как бы играет в лотерею, где ставкой является его жизнь. Можно себе представить, какую нервность вносит это в тюрьму и как тяжело отражается на психике заключенных!
Для нас, заключенных социалистов, эта неопределенность правового положения осложнялась еще особыми моментами. В предыдущей главе читатель видел, как неожиданное восстание кронштадтских матросов внезапно поставило под угрозу расстрела людей, зачастую повинных лишь в том, что некогда они боролись с царизмом под знаменем одной из социалистических партий, или даже в том, что они как-нибудь лично были связаны с социалистами и неудачно попали под руку ЧК при одной из организуемых ею облав. Это было в марте. И тогда же Ленин, в речи, произнесенной на съезде РКП, не постеснялся – без тени доказательств! – публично назвать профессора Рожкова и меня как якобы организаторов Кронштадтского восстания. А уже в начале апреля председатель петроградской ЧК Семенов официально объявил нам всем, что мы вообще ни в чем не обвиняемся, а просто подвергнуты изоляции. Добавлю, что через пару месяцев профессор Рожков был освобожден по предписанию того же Ленина, который только что готов был послать его на расстрел!
Но что значит «изоляция»? От неожиданного предъявления совершенно новых или, наоборот, совершенно старых обвинений изоляция не гарантирует: это лучше всего доказывается процессом вождей партии эсеров, которые после двух и более лет изоляции, по капризу политических расчетов большевистского правительства, были преданы суду революционного трибунала и жизнь которых была таким образом совершенно неожиданно вновь поставлена на карту. Изоляция сводится в конце концов лишь к тому, что срок заключения становится совершенно неопределенным, выход на свободу – проблематичным, подчинение всех интересов живой личности произволу ЧК – особенно бьющим в глаза. Все это вызывает крайнее нервное напряжение, у более экспансивных людей рождает чувство тревожного ожидания какого-нибудь неожиданного оборота событий, который разрубит гордиев узел, и прямо толкает на резкие и острые формы борьбы, лишь бы как-нибудь прорвать цепкие тенета произвола. Нужно много хладнокровия, чтобы сохранить спокойствие в таких условиях, а ведь не надо забывать, что речь идет часто о людях, нервы которых уже издерганы долгими годами каторги, тюрьмы, ссылки и эмиграции. Немудрено, что то и дело возникают проекты голодовок, самоубийства или каких-либо бурных форм протеста. И когда струны перенапрягаются, это внутреннее кипение находит себе выход в той или иной форме тюремной драмы: голодовки, самосожжения, отказы в повиновении стали обычными явлениями в «социалистических» камерах и коридорах большевистских тюрем. У нас в ДПЗ тоже не раз ставился на очередь вопрос о голодовке, но до поры до времени удавалось уговорить товарищей не спешить ставить на карту свою жизнь и здоровье. Некоторые анархисты, впрочем, объявляли голодовку, и иногда не без успеха: кое-кто из них был выпущен на волю.
Атмосфера нервного напряжения усиливается в большевистской тюрьме еще одним обстоятельством: крайнею неустойчивостью самого тюремного режима. Не говоря уже о существенных различиях режима в различных тюрьмах, и в одной и той же тюрьме режим непрерывно меняется – по произволу администрации и ЧК, соответственно общим политическим веяниям, в зависимости от интенсивности борьбы заключенных и отклика, который эта борьба может встретить вне тюрьмы, и т. д. и т. п.
Наш «идеальный» режим в ДПЗ также длился недолго. Уже через месяц началось постепенное отнятие тех льгот, которыми мы пользовались, и притом без всякого повода с нашей стороны. Началось с того, что неожиданно запретили приходить к нам на лекции женщинам. Потом объявили, что камеры будут закрываться в семь часов вечера. В начале июня нас внезапно и без объяснения причин лишили свиданий на две недели, – как оказалось впоследствии, в связи с происходившими в это время в Петрограде рабочими волнениями. Однажды ночью, когда все мы спали, была унесена наша железная печка. Это был серьезный удар ввиду отвратительности того кипятка, который мы получали из казенной кухни. Наши рабочие сейчас же нашли выход, соорудив из валявшихся на дворе обрезков железа крохотные печурки, которые ставились на окно и топились щепочками. Но через некоторое время при ночном обыске и эти печурки были отобраны. После длинного ряда разнообразнейших придирок был положен конец нашей главной вольности: в начале июля наши камеры вообще перестали открывать по утрам, и мы очутились на общем положении, видясь друг с другом только на прогулке да приходя друг к другу в гости попустительством надзирателей втайне от начальства.
Понятно, как нервировало товарищей это немотивированное ухудшение режима. Заявления в ЧК и личные переговоры с приезжавшим Семеновым и другими чекистами ни к чему не приводили: они отделывались неопределенными обещаниями. Голодовка грозила вспыхнуть каждый день, и только сознание крайне неблагоприятной обстановки заставляло воздержаться от нее: события, разыгравшиеся в конце апреля в Бутырской тюрьме, говорили об этой обстановке весьма красноречиво. Здесь тоже режим был «идеальный», и специальное описание «социалистического коридора» было во славу и честь большевистского правительства помещено в русских и заграничных коммунистических газетах. Это не помешало тому, что в одну прекрасную ночь на коридор нагрянуло несколько сот чекистов-красноармейцев, и заключенные, поднятые с коек, были развезены по провинциальным тюрьмам, где большинству из них пришлось сидеть в самых тяжелых условиях. При этом сопротивлявшиеся были избиты. Петроградские чекисты также грозили развозом в провинциальные тюрьмы при малейшей попытке протеста против ухудшения режима, и, к сожалению, общая обстановка была в данный момент такова, что казалось, они смогут привести в исполнение свою угрозу…
Есть еще одна особенность в большевистской тюрьме, делающая пребывание в ней невыносимо тяжелым. Это – то, что перед глазами у вас всегда есть несколько человек обреченных: вы живете, встречаетесь в коридорах и на прогулке с людьми, которые не сегодня завтра будут расстреляны; вы слышите и видите, как этих несчастных уводят, читаете безумную тревогу, страх в их глазах и при этом все время сознаете, что вы безвластны, бессильны предотвратить этот ужас, надвигающийся с холодною размеренностью и неумолимостью машины.
И быть может, самое ужасное – это именно та будничная обстановка, в которой происходит это массовое убийство людей, получившее характер бытового явления. Все попытки изобразить большевистский террор в его наиболее кричащих, безобразных проявлениях, в его эксцессах, возбуждающих омерзение и отвращение, в его уродствах только ослабляют то удручающее впечатление бездушного механизма, мимоходом давящего сотни людей, какое он производит в своем, если можно так выразиться, «нормальном» виде.
Вот несколько мелких штрихов, врезавшихся мне в память еще со времени сидения моего в Бутырках в 1919 году.
По двору гуляет молодой человек, латыш, с наглой физиономией, с копной длинных, до плеч, русых волос. Он со всеми заговаривает, шутит, смеется – и ему отвечают, не смеют не отвечать. Ежедневно он в новом костюме: сегодня в матросской форме, завтра – в судейском вицмундире, послезавтра – в тужурке инженера. Откуда у него такое обилие костюмов? Он сам охотно рассказывает: это он снял с тех, кого расстреливал. То был чекист, временно угодивший в Бутырки, где играет роль шпиона и доносчика. Фамилия его – Лейта; так, по крайней мере, он назывался в тюрьме. Выйдя на волю, я как-то встретил его на улице – на Кузнецком Мосту – в компании молодых людей и девиц, хотя он продолжал «сидеть в тюрьме». Приезжавшие в тюрьму чекисты, не стесняясь, беседовали с ним на дворе, давали ему деньги и т. д. Официально Лейта был сам приговорен к расстрелу за какие-то злоупотребления. Когда я его видел в тюрьме, со времени этого «приговора» прошел уже год!
Вот другая картинка. В пять часов дня приезжает знаменитый «комиссар смерти» Иванов. При въезде хорошо знакомого автомобиля на тюремный двор приговоренных к расстрелу начинает бить мелкая дрожь. За кем приехали? Чья очередь? Оказывается – за крупным «спекулянтом» В. Но он бросается на койку. Он заявляет, что болен, не может идти. Он хочет отсрочки хоть на день в смутной надежде, что, может быть, как-нибудь удастся выпутаться. Но красноармеец-чекист, которому некогда ждать, закатывает ему две оплеухи, и обреченный встает, одевается и идет за своими палачами.
Или вот еще. Рослый, здоровый, красивый молодой человек, смотритель шоссе, приговоренный к расстрелу и уже более месяца ежедневно гадающий, помилует ли его президиум ВЦИКа или нет, высовывается из окна и кричит приятелю, сидящему в другой камере: «Митя, пришли, берут! Отсылаю тебе сапоги, пойду босиком. Не хочу, чтобы этой с… и мои сапоги доставались. Прощай!» И вот он исчезает с окна, и шаги его в последний раз отдаются в коридоре. Как все просто! Как обыденно! Без всяких драматических эффектов – и так невыносимо тяжело! Душно!
Последнее впечатление, которое мне довелось унести с собою из ДПЗ, принадлежало к числу именно таких незабываемых переживаний.
В десятых числах июля как-то утром рабочие, принесшие нам хлеб, рассказали, что ночью очищено камер тридцать в галереях первого и второго этажа мужского корпуса и туда посажено – по двое и по трое в камере – множество мужчин и женщин. Все крыло, где помещаются эти камеры, изолировано от прочего корпуса, туда не пускают даже тюремную администрацию, а охрану несут чекисты. Впоследствии эти сведения были дополнены тем, что все, посаженные в эти камеры, сидят без прогулок, без свиданий и без передач.
Идя на прогулку, мы действительно увидели вооруженных чекистов, никого не пропускавших в одну из частей коридора. Со двора было видно, что во всех камерах, отведенных под новоприбывших, вставлены двойные рамы и, несмотря на ужасающую жару и духоту, захлопнуты наглухо. Но в двух окнах нижнего этажа рам не оказалось: их не успели еще, видно, приготовить и вставить. И в каждом из этих окон виднелись три молодые женские головки, прильнувшие к решетке. У одной такой группы я спросил: по какому делу? «Да мы страшными преступницами оказались: в заговоре обвиняемся», – послышался ответ, сопровождавшийся веселым хохотом. Вошедший в камеру чекист грубым окриком прервал разговор, заставив моих собеседниц сойти с окна. А потом на дворе против окон этих камер был поставлен специальный часовой, следивший, чтобы заключенные в окна не выглядывали.
Для меня было очевидно, что готовится какая-то новая грандиозная бойня. В воздухе запахло человеческой кровью. Мое подозрение превратилось в уверенность, когда я увидел в запретном коридоре гладкую, самодовольную фигуру Агранова, следователя ВЧК по особо важным делам. И, уходя через несколько дней из ДПЗ, я уносил с собою тяжелое предчувствие драмы и образ юных лиц, весело смеющихся из-за тюремной решетки, когда смерть стоит уже у них за плечами.
В Москве я прочел эпилог этого «заговора», связанного с именем Таганцева: 61 человек был расстрелян, и среди них – поэт Гумилев, профессор Тихвинский, когда-то оказывавший столько услуг большевикам и в 1905 году хранивший у себя бомбы и оружие их боевой организации, старухи, молодые женщины и девушки. Среди них были, вероятно, и мои неведомые юные, беззаботно смеявшиеся собеседницы…
Монотонность нашего заключения прерывалась время от времени освобождением отдельных товарищей. Опустевшие места быстро наполнялись новыми арестованными. Время от времени чекисты распространяли слухи о том, что скоро мы, меньшевики, будем все освобождены. В частности, о моем скором освобождении чекисты неоднократно сообщали различным заключенным на допросах. Зачем это делалось, не знаю, но только по крайней мере раз в неделю я получал «самые достоверные» сведения, что завтра я буду освобожден. Посетил нас еще раз Семенов и на этот раз сказал откровенно, что мы, меньшевики, находимся в ведении… Центрального комитета коммунистической партии и потому сказать что-либо о нашем деле он не может.
То же самое подтвердил мне и Агранов, неожиданно вызвавший меня и Рожкова в начале июня на допрос. Заданы были мне вопросы о моем отношении к Учредительному собранию, новой экономической политике, крестьянскому движению и Кронштадтскому восстанию. В интересах борьбы с намеренным извращением партийной позиции в этих вопросах я написал довольно подробные ответы. Показания мои были впоследствии напечатаны в одном из секретных бюллетеней, издаваемых ВЧК для своих местных отделений и высших должностных лиц.
После допроса Агранов вступил со мною в довольно продолжительную беседу, причем выражал сожаление, что советская власть не имеет возможности содержать нас, людей ни в чем не обвиняемых, а только изолируемых… в «дворцах». Пока же, вместо «дворцов», условия нашего заключения все продолжали ухудшаться…