Текст книги "Песнь Бернадетте. Черная месса"
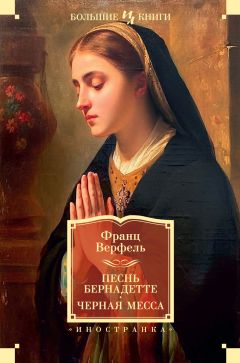
Автор книги: Франц Верфель
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Посланцы науки
– В конце концов, мы живем во второй половине девятнадцатого века, – вздыхает владелец кафе Дюран, подавая директору лицея Кларану его черный кофе, Эстраду, главе налоговой инспекции, – чашку шоколада, литератору де Лафиту – рюмку горькой настойки, а простуженному прокурору – дымящийся глинтвейн. Кафе «Французское» понемногу начинает наполняться. – Господа, читали сегодняшний номер тарбского «Интерé пюблик»? – возбужденно вопрошает Дюран. – Там напечатана заметочка, озаглавленная буквально так: «Пресвятая Дева является школьнице из Лурда». И такое осмеливается печатать газетчик во второй половине девятнадцатого века…
– Не переоценивайте наш век и его зрелость, Дюран, – улыбается старый Кларан. – Нашему земному шарику очень много миллионов лет. Мы же считаем несчастные девятнадцать столетий за огромный пройденный путь. Я всегда говорю своим мальчикам на уроках истории: «Не следует важничать. Человечество пока еще в детских башмачках».
Хозяин кафе, заслуженно именуемого также кафе «Прогресс», – не тот человек, который даст себя поколебать подобными глубокомысленными сентенциями. В его памяти вертятся передовицы множества газет, за чьи прогрессивные взгляды он выкладывает ежемесячно немало денег.
– Разве мы напрасно страдали? – декламирует он, воздев правую руку, как трагик, играющий на любительской сцене. – Для того ли были порваны оковы державшей нас в плену догмы, чтобы реакция снова пичкала нас отвратительными россказнями о религии?
Гиацинт де Лафит задумчиво смотрит на свою рюмку.
– Я лично нахожу, что это очень красивая сказка, – замечает он. – Вы правы, друг Кларан. Мы живем еще в самых ранних предрассветных сумерках древности. Почему, черт возьми, глазам бедного ребенка, дочери пастуха или ремесленника, не может явиться в заброшенном гроте какое-нибудь небесное божество – к примеру, Диана, или Пресвятая Дева, или хотя бы нимфа ближайшего источника? Это в духе Гомера, мой друг. За такую сказку я отдам семь сотен сцен из современных романов, в которых рыжекудрые жены банкиров изменяют своим мужьям с камердинерами или же бальзаковские и стендалевские выходцы из низов пытаются изменить социальный строй, обрюхатив какую-нибудь наивную аристократку…
Эстрад, глава налоговой инспекции, удивленно смотрит на поэта:
– Я правильно вас понял, Лафит? Вы верующий?
– Верующий? Я единственный истинно неверующий среди всех, кого я знаю, почтеннейший! Я не обожествляю ни четки, ни математические или химические формулы. Для меня религия всего лишь народный прообраз поэзии. Не смотрите на меня так неодобрительно, добрый Кларан, это вполне обоснованное определение. Искусство – это религия, вышедшая из-под влияния Церкви. Поэтому религия девятнадцатого века – это искусство.
Налоговый инспектор испуганно отодвигает от себя чашечку с шоколадом:
– То, что вы говорите, возможно, годится для Парижа, но не для нас, простых сельских жителей. Как добрый католик, а я таков, я открыто заявляю, что нахожу всю эту историю с видениями в гроте Массабьель досадной и достойной сожаления…
– В этом я ничуть не сомневаюсь, – спешит ответить Лафит. – Ведь все, что сегодня называют религией, – не более чем механическое повторение, пустая условность и политический ход. Если некое человеческое создание, выделяющееся среди себе подобных, действительно верит в своих богов и видит невидимых во плоти, как это часто бывало в прежние, истинно религиозные времена, то такой человек вызывает неудовольствие всех, кто лишь соблюдает обычай и бездумно повторяет молитвы. Ибо ничто так не противопоказано эпохе, которая сама есть бледная копия, но никак не оригинал.
– Господа, господа, – умоляюще взывает Дюран, который переводит взгляд с одного на другого, не в силах понять, о чем они спорят. – Господа, о чем тут рассуждать? Ведь это же чистой воды надувательство. Вы же знаете, в нашей местности сейчас дает представления цирковая труппа из По. Могу себе представить, что какая-нибудь хорошенькая циркачка решила подшутить над недалеким ребенком…
– Это уже что-то похожее на гипотезу, – смеется литератор Лафит. – Интересно было бы услышать гипотезы других господ. Какова ваша гипотеза, господин главный сборщик налогов?
– Гипотезы – дело прокурора, – отвечает господин Эстрад с вежливым поклоном в сторону Виталя Дютура, сверкающего рано облысевшей макушкой.
– Это заблуждение, господа, – звучит гнусавый голос простуженного прокурора. – Государственная власть действует не на основании гипотез… Что касается первичного дознания, то это прерогатива полиции. – И прокурор протягивает руку полицейскому комиссару Жакоме, который только что подошел к его столику. – Есть новости, милейший Жакоме?
Полицейский комиссар отирает пот со лба, так как громадная печь Дюрана пышет жаром.
– Чистое безумие, – говорит комиссар, покачивая головой. – Я получил несколько донесений. Калле сообщает о демонстрации перед кашо. Моя дочь рассказывает, что завтра полгорода собирается отправиться вместе с малышкой Субиру к гроту Массабьель. А бригадир жандармов д’Англа сообщает о большом волнении в деревнях Оме, Вигес, Лезиньян и многих других.
– И все это в середине девятнадцатого века! – вновь горестно восклицает владелец кафе. – Лурд приобретет в глазах всей просвещенной Франции дурную репутацию. Что напишут о нас передовые газеты: «Сьекль», «Журналь де деба» и особенно «Пти репюблик»?
– Ничего не напишут, – успокаивает его Лафит. – Не переоценивайте нашу значимость. Писать о нас будет разве что «Лаведан», который сегодня опять не вышел.
– Демонстраций я, однако, терпеть не намерен, – размышляет вслух полицейский комиссар. – А что думает об этом господин прокурор?
Виталь Дютур с трудом подавляет приступ кашля.
– Для нас, судей, – объясняет он, – первостепенное значение всегда имеет ключевой вопрос: cui bono? – то есть: кому выгодно? В данном случае: кто извлечет пользу с политической точки зрения? Ибо следует себе уяснить, что любой взмах ресниц имеет в наше время отношение к политике. И если Пресвятая Дева является сегодня дочери поденщика, то она делает это с вполне определенной политической целью: стремится оказать поддержку Церкви и, как следствие этого, упрочить власть духовенства, а тем самым усилить влияние роялистской партии, которая и есть партия Церкви, хотя в настоящее время по соображениям тактики клерикалы внешне поддерживают либеральный режим. Таким образом, явления в гроте Массабьель служат делу реставрации Бурбонов, осуществить которую стремится французское духовенство. Как представитель императорского правительства я должен рассматривать эти явления и в особенности их возможные последствия как изменнические происки, которые в последнее время опасно усилились. Руководствуясь принципом «кому выгодно?», можно сделать логический вывод: за этой историей стоят какие-то священники, которые стремятся разжечь среди недовольного суеверного населения огонь фанатизма, чтобы добиться ослабления императорского режима. Вот каков, господа, мой основанный на размышлениях и отнюдь не гипотетический взгляд на вещи. Принесите мне, пожалуйста, еще один глинтвейн, любезный Дюран. Проклятый здешний климат вреден мне во всех отношениях…
– Вы склонны стрелять из пушек по воробьям, господин прокурор, – улыбается директор лицея.
– Нет, все очень ясно и убедительно, – одобряет речь прокурора полицейский комиссар. Однако Эстрада эта точка зрения неприятно задевает.
– Фантазия ребенка – еще не религия, – возражает он. – Религия – не то же самое, что Церковь. Церковь – это не то же, что клерикалы. И клерикалы в большинстве своем – не роялисты. Я знаю священников, которые придерживаются даже республиканских взглядов.
Гиацинт де Лафит удовлетворенно потирает руки:
– Довольно, господа, не будем отвлекаться от сути дела. Итак, мы выслушали две криминалистические теории. Наш друг Дюран верит в красавицу-циркачку, которая ежедневно появляется перед девочкой в обличье Мадонны. Господин прокурор, в свою очередь, верит, что какой-то священник, предположим наш великан отец Перамаль, инсценирует эти явления в костюме Девы…
– Ваш юмор, месье, не кажется мне слишком забавным, – парирует Дютур с кислой миной. – Я не утверждал, что это явление – замаскированный священник, я лишь говорил, что священник стоит за ним.
– Итак, господа не сходятся во мнении, не так ли? – говорит только что вошедший доктор Дозу, услышавший лишь последние слова. С его редингота, который он в спешке не снимает, летят во все стороны дождевые брызги. Он присаживается к столику, как всегда, лишь на пять минут.
– Только пять минут, господа, у меня всего пять минут, вот несчастье… Если я не ошибаюсь, в этом просвещенном кругу говорят о том же, о чем говорят все на свете…
– Именно так, – кивает ему литератор. – И мы ждем не дождемся, когда наука объяснит эти чудеса.
– Я знаю, месье де Лафит, – отвечает доктор Дозу, – по отношению к науке вы убежденный атеист. Вы в нее не верите, недавно вы сами мне в этом признались между площадью Маркадаль и Старым мостом. Но в данном случае, возможно, наука будет как раз кстати: понятно, я имею в виду беспристрастную, критическую науку, которая готова признать любой феномен, даже самый невероятный, прежде чем сунуть его под микроскоп… Лично я еще не имел случая наблюдать подлинные галлюцинации. Я намерен послать об этом сообщение Вуазену в Сальпетриер.
– И вы действительно решитесь, милый доктор, стоять у грота вместе с толпой простонародья? – удивленно спрашивает Эстрад.
– Не делайте этого, – предостерегает его Дюран, принесший напитки. – Это недостойно городского врача.
– В конце концов, я не только лекарь, – возражает Дозу. Меланхолическая тень сомнения пробегает по его бледному, все еще моложавому лицу. – У меня есть кое-какие, хоть и скромные, авторские работы, и только этой осенью университет в Монпелье предложил мне должность профессора кафедры неврологии, а это не мелочь в медицинском мире, уверяю вас. Я отклонил предложение, потому что врос корнями в землю Лурда. Но я еще не настолько закоснел, чтобы не испытывать интереса к столь редкому патологическому случаю…
– Так, по-вашему, речь идет о душевной болезни? – напряженно спрашивает Дютур.
– У меня нет права ставить диагноз, – осторожно отвечает врач. – Хотя во всех заведениях для душевнобольных полно параноиков, которых одолевают видения, но, вспоминая эту малышку, которую я лечу от астмы, я не склонен так легко согласиться с подобным приговором…
– Значит, каталепсия, месмеризм, истерия? – упорно допытывается Дютур.
– Это лишь термины, обозначающие весьма несхожие явления, дорогой прокурор. Сначала следует внимательно понаблюдать за пациенткой во время приступа… Как я слышал, походы к Массабьелю будут продолжаться две недели…
Прокурор делает пометку в своей записной книжке.
– Я был бы вам очень признателен, уважаемый доктор, если бы мог познакомиться с вашим отчетом о проделанном исследовании.
– Почему бы и нет, – бросает доктор, уже поднявшись с места и торопясь покинуть зал, – я ведь заскакиваю сюда ежедневно и, конечно, не стану скрывать от вас мою точку зрения.
Гиацинт де Лафит долго молчит, уставившись в пространство, залитое светом новомодных керосиновых ламп.
– Я полагаю, – внезапно говорит он, – что господа проглядели в этой истории главное. Я полагаю, что истинной проблемой является не юная ясновидица, а следующая за ней толпа…
Уже к четырем часам пополудни портниха Пере приносит переделанное на Бернадетту платье Элизы Латапи – роскошное белое платье «детей Марии». И вот девочка Субиру впервые в жизни стоит перед большим зеркалом в дверце шкафа, которое отражает ее в полный рост. Пере опускается перед ней на колени, чтобы получше расправить складки.
– Я и не представляла себе, что ты можешь выглядеть такой хорошенькой, – говорит она, смиренно преодолевая себя.
Добрая Милле не скрывает восторга от этого превращения бедного нищего ребенка в настоящее «дитя Марии», превращения, заслуга которого принадлежит ей, и никому больше.
– Ну просто картинка! – восклицает она. – Наша маленькая ясновидица – настоящая картинка. Впору заказать литографию…
Бернадетта, лицо которой все больше заливается краской, смотрит на свое отражение как на мираж. Девочка так сильно взволнована потому, что до этого часа даже не представляла, как она выглядит во весь рост. В кашо есть только маленький четырехугольный осколок зеркального стекла, но никогда не было настоящего зеркала. Поэтому Бернадетта знает лицо, фигуру, одежду дамы куда точнее и подробнее, чем саму себя. Можно даже сказать, что Очаровательная в гроте для нее гораздо более реальна и гораздо меньше «видение», чем ее собственное отражение в зеркале. Проникнувшись сознанием неведомого прежде достоинства, она стоит и не может унять сердцебиение. Ее обуревает испуганный восторг и блаженное чувство праздника. Впервые она сможет отправиться завтра на встречу с обожаемым существом в достойном виде. Заметит ли дама праздничное платье, накидку из тюля, голубой поясок, поймет ли, что это подражание в ее честь, знак того, как безмерно преклоняется перед ней Бернадетта? Конечно, дама все заметит и поймет. Но понравится ли ей это? Будь ее воля, Бернадетта сейчас же побежала бы к Массабьелю, чтобы показаться даме. Она делает несколько маленьких шагов и поворачивается перед зеркалом, испытывая наслаждение удовлетворенного девичьего тщеславия. Никогда больше она не наденет старое уродливое платье и застиранный капюле. Прежняя одежда внушает ей сейчас отвращение. А что скажут завтра мама, Мария, Жанна Абади, матушка Николо, когда перед ними предстанет новая, преображенная Бернадетта?
Мадам Милле нашла в одной из своих бесчисленных, заботливо хранимых шкатулок искусственную белую розу и золотой булавкой приколола на грудь девочки. У Бернадетты вырывается сдавленный крик восторга, так прекрасно и необычно это выглядит. Она не в силах оторваться от зеркала. Лишь надвинувшиеся сумерки кладут конец радостям примерки. После этого Бернадетта сидит (также впервые в жизни) в настоящей столовой за накрытым белой скатертью столом, на который подают настоящий обед. Филипп в перчатках разливает по тарелкам превосходный суп, затем следует отварная форель, политая растопленным маслом, и, наконец, восхитительный десерт, нечто взбитое и сладкое – ничего вкуснее Бернадетта еще никогда не пробовала. Все это они запивают белым бургундским вином, приятно щекочущим язык. Госпожа Милле очень ценит хорошую кухню, как многие души, чьи более сокровенные желания радостей жизни удовлетворялись весьма неполно. Антуанетта Пере, которая благодаря своей способности без устали болтать также сумела оказаться за этим столом, зорко следит за поведением девочки. Она ожидала, что не получившая хорошего воспитания дочка поденщика будет сидеть развалясь и, уж конечно, не сумеет правильно пользоваться ножом и вилкой. Но, к удивлению Пере, Бернадетта ведет себя безупречно. Она без стеснения наблюдает за движениями хозяйки дома и, подражая ей, как отмечает изумленный Филипп, ест ловко и красиво, как придворная дама. В портнихе вновь пробуждается подозрение, что эта девчонка – отчаянная и бессовестная лгунья, что она задумала ловкую аферу, а ее вялость и апатичность – всего лишь маска, помогающая скрыть незаурядный преступный талант. Ведь самой Антуанетте Пере, как-никак дочери судебного исполнителя, понадобилось не менее двух лет, чтобы научиться непринужденно вести себя в богатых домах Лафита, Милле, Сенака и других представителей лурдского высшего общества, а эта противная девчонка все усвоила в одну минуту.
– Откуда у тебя такие хорошие манеры, Бернадетта? – коварно допытывается портниха, делая вид, что дрожит от испуга перед неминуемым разоблачением девочки, при этом левое плечо подскакивает у нее чуть ли не до уха.
– Господь дает возлюбленному Своему сон, – цитирует Писание хозяйка дома, – ему не надо рано вставать и поздно просиживать…
После этих слов портниха решает держать свое недоверие и свою враждебность при себе. Милле, эта праздная, по-детски восторженная старуха, просто без ума от продувной девчонки. Антуанетта Пере достаточно хорошо знает свою покровительницу и понимает, что сохранить ее расположение можно, лишь потакая всем ее глупостям и экзальтированным затеям. К счастью, мадам непостоянна и забывчива.
Наконец Бернадетте разрешают выйти из-за стола. Мадам Милле сама ведет ее в комнату своей обожаемой племянницы, щедрой рукой зажигает там множество свечей, все показывает и объясняет, как будто она в музее, кладет на стол коробку с конфетами и на прощание обнимает девочку со слезами на глазах. И вот Бернадетта одна, одна также впервые в жизни, если иметь в виду замкнутое пространство. Одиночество кажется ей самым счастливым плодом богатства. Она чувствует себя так, словно с ее плеч сняли очень тяжелую ношу, и сразу же бросается к зеркальному шкафу Элизы Латапи, чтобы досыта наглядеться на себя в нарядном «Мариином» платье. Это удовольствие длится долго, очень долго. Затем она берет белый холщовый мешочек, который всегда носит при себе и содержимое которого придирчиво проверяет каждый вечер. В нем хранится ее вязанье – неоконченный чулок, две книжечки – азбука и катехизис, несколько пестрых шелковых лоскутков, которые ей когда-то подарила Мадлен Илло, побуревший кусочек леденца, сухая хлебная корка, три стеклянных шарика и крошечная фигурка из гуттаперчи, изображающая маленького мельничного ослика, нагруженного мешками с мукой. Ведь все ее первые воспоминания связаны с жизнью на мельнице Боли. Это ее сокровища, которые она хранит пуще глаза. Все на месте, ничего не пропало. Она растерянно оглядывает комнату, которая гораздо просторнее, чем их кашо, где живут шесть человек. Какая утомительная комната! Здесь нет причудливых сырых пятен на стенах, только шелковые обои с бесконечными веночками и гирляндами. Эти веночки – сами готовые картинки, им не надобно ее воображение, чтобы превращаться в картинки. Даже на потолке изображены фигуры ангелочков. Здесь, что ни день, придется лежать в кровати до десяти утра, чтобы хорошенько рассмотреть стены и потолок. Пока Бернадетта гасит одну за другой толстенные свечи из запасов Милле и переносит последнюю свечу на ночной столик, она вдруг замечает за стеклянной дверцей шкафа целое собрание маленьких кукол, которых хранила там Элиза Латапи. У нее самой и у ее сестры Марии кукол не было, ни больших, ни маленьких, если не считать тряпичного паяца, которого отец, еще в бытность мельником, как-то привез с ярмарки в Сен-Пе. Но паяц был несимпатичный, у него была огромная пасть щелкунчика и слишком яркие заплаты. Он был чем-то похож на злобного козла Орфида и явно происходил из царства демонов, обитатели которого часто преследовали Бернадетту. А куколки Элизы Латапи были родом из веселого царства фей. Бернадетта смотрит на них не дыша и не может наглядеться. Особенно нравится ей маленькая тиролька в национальном костюме: в плоской зеленой шапочке и ярко-красном корсаже. Бернадетте приходится изо всех сил держать себя в руках и все время помнить о запрете матери трогать чужие вещи. Больше всего ей хотелось бы сунуть нарядную тирольскую крестьяночку в свой мешочек. Но ей вспоминается отец, которого по одному только подозрению в краже дубовой балки полицейский Калле увел в тюрьму.
С величайшей осторожностью Бернадетта снимает накидку, роскошное белое платье, откалывает искусственную розу, сбрасывает башмаки и стягивает белые шелковые чулки. Понемногу она вновь начинает ощущать себя прежней Бернадеттой. Но эта Бернадетта кажется ей теперь гораздо грубее, чем раньше, кажется похожей чуть ли не на темного лесного зверька, испуганно и неловко лежащего в огромной, невероятно мягкой и холодной постели. Ей теперь даже не хватает горячего тела спящей Марии, прикасаться к которому она избегала с прошлого четверга. Но ее усталость так велика, что она все же быстро засыпает в этой огромной жутковатой кровати с балдахином.
Когда в шесть утра в комнату входят хозяйка дома, Антуанетта Пере и Филипп, чтобы разбудить Бернадетту, девочка уже полностью одета. К их величайшему изумлению, на ней ее прежнее старенькое платье, капюле и деревянные башмаки.
– Что это значит? – вскрикивает Пере. – Почему ты не надела нарядное платье?
– Я его надевала, уверяю вас. Но потом снова сняла…
– И почему ты его сняла?
– Не знаю, мадемуазель…
– Что это за ответ: не знаю?
– Я должна была его снять…
– Тебе кто-нибудь велел? Может быть, дама?
– Нет, мне никто не велел. Дама же не здесь, она в гроте Массабьель…
– Тебя, однако, не поймешь…
– Я понимаю нашу маленькую ясновидицу, – просияв, восклицает вдова Милле. – Платье председательницы «Союза детей Марии» кажется тебе недостаточно скромным, чтобы предстать в нем перед дамой. Ведь так, дитя мое?
Бернадетта мучается, пытаясь дать убедительное объяснение:
– Не могу точно сказать, мадам. Я просто почувствовала…
– Черствость и упрямство, обычные черствость и упрямство, – бормочет портниха, вновь забывая о своих добрых намерениях.
Перед домом на улице Бартерес уже собралась толпа в несколько сотен человек. Среди них немало мужчин. Дядюшка Сажу, Бурьет, Антуан Николо, пришедший с мельницы Сави, чтобы отправиться в путь вместе со всеми, и много других. Мадам Милле пристально вглядывается в толпу, пытаясь обнаружить присутствие каких-либо духовных лиц из города или окрестностей: ведь удивительный случай, собравший этих людей, несомненно относится к сфере церковных интересов. Но ни одной сутаны в толпе не видно. Матушка Субиру робко подходит к дочери, как будто ее дитя уже ей не принадлежит. Лишь присутствие сестры, Бернарды Кастеро, внушает ей некоторую уверенность, способную противостоять даже блеску богачки Милле. Бернарда и Люсиль, как и многие другие женщины, держат в руках свечи. Бернадетте тоже суют в руки свечу.
– Вперед, не будем терять времени! – командует старшая Кастеро и вместе с сестрами следует по пятам за Бернадеттой. По пути присоединяются соседки с улицы Пти-Фоссе, невнятный возбужденный говор становится все громче. Бернадетта между тем не произносит ни слова, ни с кем не здоровается, ни на что не обращает внимания. Она все убыстряет шаг, как будто за ней никто не идет и вся эта толпа взрослых, солидных людей – лишь второстепенное, скорее докучливое явление. И вновь Антуанетту Пере возмущает независимое поведение девочки, которая считает возможным ни на кого не оглядываться, ни с кем не считаться. И Жанна Абади, которую вместе с другими школьницами изгнали из первых рядов, злобно шипит на ухо Катрин Манго: «Всегда и везде она хочет быть первой!»
Бернадетта в самом деле стремится первой прийти к гроту. Как ни безразличны ей идущие за ней люди, но если она появится в гуще толпы, это может расстроить даму. Врожденное чувство такта подсказывает ей, что общение с Очаровательной – дело весьма деликатное и может происходить лишь при соблюдении определенных правил, ощущаемых в глубине души, и, если вести себя не по правилам, это приведет к мучительным угрызениям совести. Подобно тому как Бернадетта постоянно дрожит за даму и беспокоится о ее самочувствии, не меньше страшится она и вызвать неудовольствие дамы. И вот девочка уже прыгает с камня на камень и, значительно опережая остальных, спускается по отвесной тропе к гроту. Милле останавливается, с трудом переводя дух. «Она летит, словно ласточка, – задыхаясь шепчет вдова, – словно листок, подхваченный ветром…»
Когда толпа с горящими свечами, распространяя на всю округу запах тающего воска, наконец спускается с горы и заполняет пространство перед гротом, Бернадетта давно уже стоит на коленях в состоянии отрешенности. Благосклонность к ней дамы проявилась сегодня сильнее, чем обычно. Это была не просто благосклонность, но искренняя сердечная радость, от которой как будто ярче засияло лицо дамы, ослепительней стали цвета ее одежды и даже чуть порозовели обычно белые руки и ноги. Дарующая Счастье сегодня впервые сама казалась Осчастливленной. Дающая казалась Берущей – возможно, потому, что благодаря исполнению ее желания начал осуществляться какой-то важный, далеко идущий план. Дама приблизилась к Бернадетте больше, чем когда-либо прежде, она ступила на самый край скалы и наклонилась так низко, что ее длинные нежные пальцы чуть ли не касались девочки. И сознание Бернадетты, которое, несмотря на безмерное наслаждение, обычно испуганно противилось состоянию полной отрешенности, на сей раз покорилось ему мгновенно.
– Она умирает, помогите, она умирает! – Это тихое восклицание срывается с уст Бернарды Кастеро, премудрой Бернарды, те же самые слова, что в прошлое воскресенье вырвались из глоток глупеньких школьниц. Луиза Субиру не кричит, она с ужасом смотрит на это распростертое существо, вышедшее некогда из ее чрева, на свою дочь, так похожую сейчас на умирающую, готовую принять блаженную кончину, преодолев все скорби мира, или даже на покойницу с заострившимся носом, на губах которой застыла непостижимая улыбка, улыбка освобождения от долгого и мучительного земного пути. Луиза Субиру беспрестанно качает головой, а губы ее беззвучно шепчут:
– Это не она… Это не Бернадетта… Я не узнаю свою дочь…
И вся толпа, стоящая сейчас на коленях вдоль берега ручья и вдоль берега Гава, испытывает глубокое потрясение. Каждое людское сборище составляет вместе некую общую личность, нервы которой в известном отношении тоньше и восприимчивее нервов отдельных людей. И эти общие нервы ощущают сейчас в пустой нише чье-то неопределенное, но весьма характерное присутствие. Как человеческая голова оставляет вмятину на подушке, некую полую форму, подобную гипсовому слепку, так и это характерное присутствие кого-то делается зримым в позе отрешенной девочки, которая уже не неподвижна, а, подобно зеркальному отражению, повторяет то, что видит: кивки, улыбки, приветственные жесты, то, как дама складывает руки и как она разводит их в стороны. Бернадетта становится как бы точным отпечатком Невидимой, которая благодаря этому оказывается для толпы на грани видимости. Среди собравшихся немало душ, склонных к вере, но есть и некоторое число скептиков, а также множество людей, пришедших сюда просто из любопытства. Но сейчас все они, затаив дыхание, переводят глаза от ниши к посреднице и обратно. Они уже не томятся от ожидания. Неожиданное свершается, оно здесь. Но вызывает оно не чувство небесного блаженства, а скорее некую вибрацию диафрагмы, смешанную с покорностью неведомой силе. Причем в груди насмешников эта вибрация ощутимее всего. В каждом человеческом существе живет врожденная тяга к сверхчувственному. Там, где эта тяга таится глубже всего, она проявляется как недомогание и душевный разлад. Внезапно одна из женщин затягивает «Ave Maria». Тотчас же к ней присоединяется мощный хор голосов, как бы стараясь сделать Невидимое Зримым.
Бернадетта будто ничего не слышит. Другой шум вторгается в ее уши. Снова бунтует Гав. Снова он охвачен безумной паникой, снова чудится ей дикая скачка лошадей и грохот мчащихся повозок, звучат пронзительные крики: «Спасайся… прочь с дороги!» Бернадетта испуганно тянет руки к даме. Лицо дамы впервые делается строгим и горделивым, словно ее собственный жизненный путь еще не закончен и ей все еще приходится бороться и побеждать. Она морщит лоб и внимательно смотрит на бушующую реку, как бы укрощая ее взглядом лучистых голубых глаз. Это ей мгновенно удается. Пронзительные голоса стихают. Гав, как усмиренный волк, привычно рокочет и пенится, припадая к ногам дамы.
Внезапно Бернадетта поднимается с колен и принимает свой обычный вид. Она замечает отчаявшееся лицо матери, подходит к ней и обнимает ее за шею. Многие из присутствующих плачут…
В воскресенье на аперитив в кафе «Французское» сходятся уже в десять утра. Кафе переполнено, как никогда. Заранее договорено, что доктор Дозу огласит сегодня результаты своего исследования. Прокурор Виталь Дютур и комиссар полиции Жакоме нетерпеливо поглядывают на часы. Оба господина к одиннадцати часам приглашены в мэрию на секретное совещание. В последние три дня события у грота Массабьель приняли такие масштабы, что властям более не пристало отмалчиваться и пассивно наблюдать. Например, сегодня в самую рань в городе собралась толпа, в которой было не менее двух тысяч человек, они приблизились к гроту и стали широким полукругом, уже по обоим берегам реки и ручья Сави. Большими группами со всех сторон туда же подходили деревенские жители. Настало время выработать тактику и принять действенные меры. С точки зрения официальной власти, эта проклятая история – случай весьма затруднительный и неясный. Закон предусматривает достаточное количество карательных мер за всякого рода нарушения общественного порядка. Но можно ли считать нарушением общественного порядка предполагаемое явление Пресвятой Девы, в которое не только верит значительная часть городского и сельского населения, но которое оно, собираясь в толпы, страстно приветствует? Дютур и Жакоме сильно нервничают, особенно прокурор, подхвативший инфлюэнцу, его сотрясает озноб, и ему впору бы лежать в теплой постели, а не сидеть за столиком кафе. Но оба надеются, что сообщение городского врача прояснит ситуацию и подскажет им план действий. А Дозу именно сегодня заставляет себя ждать. Тем временем прибывает другой посланец науки, историк Кларан; вчера после полудня он посетил грот Массабьель и исследовал его с геологической и археологической точки зрения. Кларан рассказывает, что известняковая скала в гроте особым образом запотевает, это сразу бросилось ему в глаза.
– Особенно с правой стороны, – уточняет он, – под нишей, под кустом дикой розы, там на камне будто выступают крупные капли пота.
Гиацинт де Лафит протестует против такой формулировки:
– Почему вы говорите «капли пота»? Почему не слезы? Вы тоже подверглись влиянию писак из реалистической школы…
– Если вам больше нравятся слезы, мой друг, пусть будут слезы… Saxa loquuntur. Камни говорят. Поистине так! Камни в наше время имеют основание не только говорить, но и плакать…
– Это все несущественно, господа, – прерывает их спор Виталь Дютур, который всегда мрачнеет, когда Лафит и Кларан демонстрируют друг перед другом свою образованность и тонкий вкус. – Больше вы ничего не обнаружили?
Исследуя грот, Кларан, по его мнению, сделал не такое уж пустяковое открытие. Он убежден, что в древние времена здесь отправляли языческий культ и совершали жертвоприношения. Белая каменная глыба под порталом ниши, вероятно, была жертвенником, на нее клали злаки и фрукты, приносимые в дар какому-то примитивному божеству. Кларан давно уже понял в результате своих исследований, что Трущобная гора – не простое место, здесь находилось древнее святилище. Эта теория легко объясняет нынешнюю дурную славу грота. Душа народа, принявшего христианство, хранит неясные воспоминания о прежних святых местах и испытывает перед ними страх. Ибо старые боги, вытесненные новыми, обычно переходят в разряд демонов. Поэтому Церковь издавна стремилась уничтожать все языческие святыни и ставить на их место свои храмы.









































