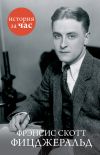Текст книги "Великий Гэтсби. Рассказы"

Автор книги: Френсис Фицджеральд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Великий Гэтсби. Рассказы
© С. Ильин, перевод на русский язык. Наследники, 2021
© Ю. Седова, перевод на русский язык, 2021
© Л. Беспалова, перевод на русский язык, 2021
© В. Чарный, перевод на русский язык, 2021
© А. Шевченко, предисловие, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
* * *
Предисловие
«На этих страницах я рассказал о том, как молодой человек, настроенный на редкость жизнерадостно, пережил крушение всех ценностей, такое крушение, которое он начал замечать лишь много времени спустя после того, как оно произошло. Я рассказал о последовавшем за ним времени, когда во мне боролись чувство безысходности и сознание, что необходимо жить дальше».
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Его назвали в честь дальнего родственника, написавшего государственный гимн США. Он придумал термин «эпоха джаза». Его жизнь была пронизана музыкой и наполнена ею, как смыслом. Но он стал не музыкантом, а писателем. Фрэнсис Скотт Ки Фицджеральд – сказочник джазового века, представитель «потерянного поколения», писатель-символ, классик, столетие назад писавший так, что каждому следующему поколению казался современником.
Он родился 24 сентября 1896 года в Сент-Поле, столице северного штата Миннесота, в семье ирландских католиков. Предки матери происходили из древнего ирландского рода Маккуиллан, ее отец был крупным бизнесменом. Фицджеральд старший – южанин, не слишком удачливый, разорившийся во время очередного экономического кризиса. Сначала он пытался производить плетеную мебель, но потерпел неудачу. Затем устроился продавцом в компанию Procter&Gamble, но не преуспел и на этом поприще. Маккуилланы выбор дочери демонстративно не одобряли, подчеркнуто игнорируя зятя. Впрочем, к внуку это не относилось – молодой семье была выделена некоторая сумма на жизнь, а юный Фрэнсис, благодаря протекции деда, учился в достойных заведениях: академии Сент-Пола, частной католической школе и в знаменитом и очень престижном Принстоне.
Фицджеральд с детства увлекался сочинением историй. Его первый рассказ – детективный – был опубликован в школьной газете, когда будущему писателю было тринадцать лет. Его наставник в католической школе, отец Сигурни Фэй, настраивал мальчика на необходимость добиваться желаемого и преуспевать, следуя своим амбициям. Амбиции юного Фицджеральда уже тогда касались двух сфер – литературы и музыки. Он мечтал писать тексты для мюзиклов и сценарии, чем и занялся вскоре, в ущерб учебе.
В Принстоне он играл в университетской футбольной команде, а также поступил сценаристом в труппу легендарного Princeton Triangle Club, знаменитого студенческого театра, для которого Фицджеральд написал несколько сценариев и либретто, параллельно публикуясь в юмористических журналах Princeton Tiger и Нассау. Несмотря на финансовое участие старших родственников, он чувствовал себя угнетенным, отличающимся от однокашников, отпрысков богатых и знатных семейств. Позднее он написал о «тайной незатухающей ненависти» к чужому богатству. Университет Фицджеральд не окончил – незадолго до выпускных экзаменов, которые он боялся не сдать, он добровольцем ушел в армию, стал вторым лейтенантом пехоты и дослужился до адъютанта командира пехотной бригады, став личным секретарем генерала.
Фицджеральд был уверен, что погибнет во время военных действий на Первой мировой, поэтому в 1917 году спешно написал роман, чтобы оставить след в истории. Издатели отвергли книгу, названную автором «Романтический эгоист», но в одном из писем, сопровождающих отказ, была приписка – Фицджеральду предлагалось доработать весьма достойный и оригинальный дебют и прислать его еще раз. Впрочем, повторная попытка успехом также не увенчалась.
Незадолго до демобилизации, в июне 1918 года, Фицджеральда направили в лагерь Шеридан в штате Алабама. Там, в городке Монтгомери, он в считанные часы после знакомства влюбился в очаровательную восемнадцатилетнюю Зельду Сейр, младшую дочь Верховного судьи, первую красавицу штата, одну из самых блистательных дебютанток и богатейшую невесту. Эта встреча определила дальнейшую судьбу писателя, а Зельда, по мнению исследователей творчества Фицджеральда, стала прототипом главных героинь его романов, в каждой из которой были ее черты.
Война закончилась до того, как Фицджеральда отправили за границу, он уволился из армии и отправился в Нью-Йорк, где подвязался в рекламном бизнесе, чтобы заработать денег на женитьбу. Неудачи преследовали молодого автора – издательства возвращали рукописи одну за другой, работа в рекламном агентстве не приносила ни денег, ни удовлетворения. К тому же невеста, выросшая в достатке и комфорте, не собиралась менять комфортную жизнь на неустроенную даже ради высоких чувств и помолвку разорвала.
В подавленном настроении Фицджеральд бросил работу и вернулся в родительский дом, там он надеялся сконцентрироваться и довести до ума первый роман. В письме, адресованном Союзу книготорговцев, автор написал:
«Все, что я думаю о писательском ремесле, можно выразить одной фразой. Писать нужно для молодежи собственного поколения, для критиков того поколения, которое придет на смену, и для профессоров всех последующих поколений. Джентльмены, прошу считать, что все коктейли, упомянутые в моей книге, выпил я сам за процветание Союза книготорговцев».
Спустя год книга все же вышла – уже под названием «По ту сторону рая» и действительно снискала ошеломительный успех, как Фицджеральд и надеялся: 26 марта 1920 года двадцатичетырехлетний писатель буквально проснулся знаменитым, а неделю спустя состоялась его пышная свадьба. Юная Зельда благосклонно приняла предложение руки и сердца уже не от нищего военного, а от подающего надежды автора. Престижные издания наперебой предлагали восходящей звезде публиковаться у них. Поколение, живущее со «страхом перед бедностью и поклонением успеху» с радостью встретило нового автора, смело выражавшего то, на что иным не хватало духу.
Началась совершенно новая жизнь. Фицджеральд активно публиковался, получал приличные гонорары, у него появился собственный литературный агент – Гарольд Обер. Писатель оставил работу над крупными произведениям в пользу беллетристики. Фицджеральд регулярно публиковался в The Sunday Evening Post, материалом для его прозы служило прошлое автора – его учеба в Принстоне, юные мечты, отношения с Зельдой.
В своих ранних рассказах он вывел новый романтический образ: молодая амбициозная американка, независимая, стремящаяся к успеху. Его музыка, его литература, его жизнь – все это было джазом, яркой эмоциональной импровизацией. Один из его сборников назывался «Эмансипированные и глубокомысленные». Вошедшие в него истории «Резная хрустальная чаша», «Волосы Вероники» и другие, были легкими и ироничными. Но только на первый взгляд. Писатель исследовал тему американского образа жизни, разницу между «быть» и «казаться». Вопрос чужой маски, постепенно прирастающей к лицу героя, волновала его всю жизнь.
Молодые Фицджеральды, в мгновение ока ставшие иконами американского высшего света, вели богемный образ жизни. Они были богатыми, знаменитыми, живущими в настоящем моменте: бурные вечеринки, безумные траты, несколько истеричная праздность и жизнь как на подмостках – много шума, света и блесток. Могли прийти на громкую премьеру обнаженными или устроить купание в публичном фонтане. Спиртное лилось рекой – Фицджеральд уже тогда начал выказывать первые признаки алкоголизма, а не отстававшая от него Зельда вела себя эксцентрично, постоянно закатывала скандалы на почве ревности, а то и просто так.
Фрэнсис не без оснований чувствовал себя звездой, но именно это мешало ему заработать репутацию серьезного литератора и претендовать на нечто большее, чем коммерческий успех. В то же время ему хотелось не только денег, но и признания профессионального сообщества. Современники считали Фицджеральда позером, легкомысленным и неглубоким. Позднее Хемингуэй убедил их в этом на страницах автобиографического романа «Праздник, который всегда с тобой». И до конца дней Фицджеральд, будучи фигурой скорее драматической, пытался уверить всех в обратном.
После во всех смыслах жаркого лета в Коннектикуте Фицджеральд с Зельдой отправились в свое первое европейское путешествие, а затем в 1921 году переехали в Нью-Йорк, где он приступил к своему второму большому роману, а она готовилась к рождению их единственной дочери, полной тезки отца, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, которую все называли Скотти.
Второй роман, изданный в 1922 году, назывался «Прекрасные и проклятые», описывал трудную жизнь двух молодых талантливых аристократов, обремененных браком. Сюжет перекликался с личной жизнью писателя, болезненно и достоверно воспроизводя многие личные детали. Фицджеральд попался в собственную ловушку – он писал о себе и своем окружении, его собственная бурная жизнь разрушала его и давала ему вдохновение. Некоторые критики считали, что Фицджеральд намеренно эпатировал, не столько экспериментировал со стилем, сколько выражал внутренний протест, противоречие между эмоциональным состоянием и внешним положением вещей.
Он продолжал писать прозу для известных изданий, аналогов современного глянца, но все еще надеялся стать автором музыкальных комедий. Они с Зельдой даже переехали поближе к Бродвею, но это не помогло Фицджеральду стать востребованным драматургом. Пьесы никому не нравились, а политическая сатира «От президента к почтальону» провалилась на этапе читки. Фицджеральд корил себя, был подавлен, все чаще прибегал к алкоголю – уже не для веселья, а чтобы снять напряжение. Примерно в это же время Зельда стала выказывать признаки ментального нездоровья, но странности ее поведения окружающие все еще принимали за эксцентричность.
Роман «Прекрасные и проклятые» был встречен более умеренно, чем дебют, но все еще благосклонно. Одновременно вышел сборник «Сказки века джаза». Фицджеральд экспериментировал с формой, в историях был элемент магического реализма. «Я находился в известном состоянии, характеризующимся стремлением к роскоши, и рассказ был начат как попытка удовлетворения этой тяги с помощью средств воображения», писал автор. Он использовал атмосферу, в которой находились его герои, как подмостки сцены и театральный реквизит – сказывалось неосуществленное желание писать для театра. В коллекцию вошла и необычная «Загадочная история Бенджамина Баттона», идею которой, по словам Фицджеральда, подсказала цитата Марка Твена о том, что «лучшая часть жизни проходит ближе к началу, а худшая – ближе к концу».
Сборник понравился читателям. Вдохновленный его популярностью и не оставляющий попыток прославиться как заслуживающий внимания критиков прозаик, Фицджеральд принялся за новый роман. В Нью-Йорке он написал три главы, а затем в 1924 году прервался на семейное путешествие в Европу.
Фицджеральды отправились сначала в Италию, а затем во Францию. Они жили на Французской Ривьере, отношения уже тогда были натянутыми, супруги много ругались, снова мирились и расходились вновь. Все это время Фицджеральд продолжал писать малую прозу, а с 1924 по 1925 год дописывал и редактировал начатую еще в Америке книгу. Он назвал ее «Великий Гэтсби» – она стала символом «ревущих 20-х», олицетворением периода, который сам Фицджеральд назвал «веком джаза», единолично назначив себя его певцом. «Это был век чудес, век искусств, век излишеств и век сатиры», писал он, порождение этого века, его неотъемлемая часть. Книга, ознаменовавшая переход автора на новый литературный уровень, была тепло встречена критиками – наконец-то признание! – но мало оценена читателями. Продажи не оправдали себя и значительную часть дохода принесла передача прав на постановку и экранизацию. А между тем это был сложный по структуре, скрупулезно прописанный в деталях, литературный шедевр, позднее оказавший влияние на многих мастеров современной американской прозы.
События и атмосферу того времени в романе «Праздник, который всегда тобой» описал друг Фицджеральда, еще один представитель «потерянного поколения» Эрнест Хемингуэй, с которым супруги познакомились в Париже. Созданный им образ соотечественника, довольно противоречивый и легковесный, надолго закрепился в массовой культуре и позже был опротестован исследователями творчества Фицджеральда. До 1926 года он не написал ничего успешного, посвятив свои литературные опыты исследованию жизни эмигрантов. На этом фоне постепенно ухудшалось самочувствие Зельды.
К концу 1926 года Фицджеральды вернулись в Америку и иногда возвращались в Европу. Их отношения становились все хуже, пара скандалила сильнее, чем в молодости, конфликты становились интенсивнее, между ними росла пропасть. Зельда, которая тоже пробовала себя на литературном поприще, решила стать танцовщицей – слава Айседоры Дункан не давала ей покоя. Но занятия балетом подорвали ее здоровье, у нее все чаще случались нервные срывы, которые однажды закончились госпитализацией в специализированную швейцарскую клинику в 1931 году. Ремиссии сменялись рецидивами, после 1932 года до конца дней Зельда провела на лечении – ей диагностировали шизофрению.
Еще один миф о Фицджеральде – его богатство. Супруги тратили деньги значительно быстрее, чем зарабатывали. Баснословных гонораров писательство не приносило. Фицджеральд написал около 160 колонок для Sunday Evening Post и других изданий, но романы, пьесы и сценарии доходным бизнесом не стали. Он был скрупулезным редактором и чутким писателем, но не дельцом – совершенно не умел себя продавать и разумно распоряжаться заработанным. Траты на дорогостоящее лечение сопровождались неудачными попытками Фицджеральда зарабатывать на написании сценариев, ему пришлось вернуться к беллетристике, чтобы оплачивать счета. Коммерческие рассказы по-прежнему кормили лучше, чем попытки оставить след в большой литературе.
Четвертый большой роман «Ночь нежна» Фицджеральд опубликовал в 1934 году. Книга провалилась – ее не оценили критики и не приняла публика. Череда неприятностей продолжалась. Деньги закончились, Фицджеральд, страдающий алкоголизмом, зарабатывал мало и нерегулярно, Зельда уже больше никогда не вышла из больницы, а четырнадцатилетнюю Скотти пришлось отправить в интернат. Несмотря на это, Фицджеральд вел с дочерью активную переписку, пытаясь влиять на ее взгляды и образования.
В 1937 году ему все-таки удалось заключить контракт с «Метро-Голдвин-Майер» на написание сценариев. Это был «золотой век» Голливуда. Тогда у многих молодых писателей случился прорыв, Фицджеральд добился возможности готовить экранизацию «Трех товарищей» Ремарка. Впоследствии имя писателя указали в титрах, но сам сценарий был значительно переработан.
В это же время он завел роман с колумнисткой и писательницей Шейлой Грэм. Но параллельно ездил на восток страны в больницу к жене. Запои учащались. О нем говорили, как о ненадежном авторе, хотя Фицджеральд продолжал писать статьи и эссе для журнала Esquire, в очередной раз потерпев крах в качестве сценариста. Все это время он писал роман «Последний магнат», который так и остался неоконченным – 21 декабря 1940 писателя не стало. Причиной смерти объявили инфаркт. Зельда пережила мужа на восемь лет – в 1948 году она погибла при пожаре в больнице.
Рассказы и новеллы, написанные в последние годы жизни, как и не снискавшая успеха книга «Ночь нежна», были во многом автобиографическими. Многие из них вошли в посмертные сборники, вышедшие в 1945 и 1951 году. Коллекции, составленные из рассказов разных лет, представляли собой своеобразную летопись литературной жизни Фицджеральда – от гремящих, бурлескных 1920-м к депрессивным, тяжелым 1930-м. По этим кратким историям можно проследить не только хронологию короткого «золотого века» джаза, но и ухудшение морального состояния самого писателя. От легкой иронии он перешел к сарказму и драме. Фицджеральд жалел, что его романы и пьесы недостаточно оценены широкой публикой, а между тем его малая проза снискала большую популярность после смерти автора – многие литераторы считали себя последователями его манеры.
Фицджеральд был безупречным стилистом, писателем с идеальным авторским слухом, который позволял ему в тонкостях передать натужное веселье и тревоги поколения, метко обозначенного Гертрудой Стайн как «потерянное». Эти молодые люди, прожившие свой короткий век между двумя мировыми войнами, интуитивно чувствовали крах американской мечты, смещение акцентов, грядущую катастрофу. Богатый и знаменитый, разочарованный и подавленный, медленно погружающийся в алкогольную меланхолию за полгода до смерти Фицджеральд писал своему редактору: «Погибнуть так бесповоротно, так несправедливо, а я же кое-что сделал, и немало! Даже и сейчас не так уж часто встретишь в американской прозе вещи, на которых вовсе нет моего отблеска, – пусть совсем немножко, но я ведь был своеобразен».
Анастасия Шевченко
Великий Гэтсби
Глава первая
В пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени нейдет у меня из головы. «Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, – сказал он, – вспоминай, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю».
Вот и все, что он мне сказал, впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословьем, и потому я понял: отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений – привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хоть она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Обладатель не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я их откровений отнюдь не искал и нередко, едва поняв по некоторым безошибочно узнаваемым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность; ведь интимные исповеди молодых мужчин или, по крайней мере, выражения, в которые они облекаются, как правило, отдают плагиатом либо основательно замутняются очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений – значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец и не без тщеславия повторяю я: что краеугольное качество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну.
Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундаментом крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира: желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застывал по стойке «смирно», а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби, тот, именем коего названа эта книга, – Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по непрерывной череде удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее, обостренная восприимчивость к посулам жизни; он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в десяти тысячах миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура», – она была поразительным даром надежды, романтической готовности ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете, Гэтсби оказался человеком замечательным – это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, – она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам наделенных куцыми крыльями людей.
Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Каррауэи – это подобие клана; согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в пятьдесят первом, отправивший кого-то взамен себя на Гражданскую войну и основавший оптовую торговлю скобяным товаром, возглавляемую ныне моим отцом.
Двоюродного дедушку мне видеть не довелось; предполагается, однако ж, что я похож на него, – доказательством служит довольно топорной работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получила название Мировой войны. Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что, и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь не уютным центром вселенной, но ее неказистой окраиной – и потому я надумал поехать на Восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами, вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и наконец постановили: «Ну, что же, д-да», сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение. Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной двадцать второго я отправился на Восток – навсегда, как я полагал.
Разумнее всего было подыскать жилище в городе, однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал видавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному. У меня была собака – во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбежала, – старенький «Додж» и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости.
День-другой мне было одиноко, но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня.
– Не скажете, как попасть на Уэст-Эгг? – сокрушенно осведомился он.
Я объяснил. И продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством: я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу.
В то утро, под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной киносъемке, ко мне вернулась привычная уверенность: с летом жизнь начинается заново.
Мне предстояло прежде всего столь многое прочитать, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные с золотом, похожие на только что отчеканенные монеты, обещая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе – в один год написал даже для «Йель-Ньюс» несколько весьма напыщенных и тривиальных передовых статей, – и теперь собирался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов – «широко образованным человеком». И это не праздная ирония – в конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце.
Случай распорядился так, что дом я снял в одном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном, бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на восток, – здесь среди прочих причуд природы имеется два необычных геологических курьеза. В двадцати милях от города во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд – а это самое обжитое в Западном полушарии морское пространство, – вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям «яиц», разделенных бухтой, каковую местные жители с учтивой снисходительностью именуют «заливом». Подобно колумбовым, совершенной овальностью эти «яйца» не отличаются, оба слегка приплюснуты со стороны «залива», однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера.
Я жил на Уэст-эгг, бывшем, как бы это сказать… менее фешенебельным, чем Восточное, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух островов. Дом мой стоял на самой оконечности «яйца», не более чем в пятидесяти ярдах от Пролива, и был затиснут между двумя огромными дворцами, которые сдавались за двенадцать, а то и пятнадцать тысяч в сезон. Возвышавшийся справа, колоссальный по каким угодно меркам, был, на деле, имитацией нормандского Hótel de Ville[2]2
Городской особняк (фр.). – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть] – с фланговой башней, новизна которой просвечивала сквозь реденькую бородку юного плюща, мраморным бассейном и сорока с лишком акрами лужаек и парков. То была обитель Гэтсби. Правильнее сказать, поскольку знакомство с мистером Гэтсби я свел не сразу, то была обитель джентльмена, носившего эту фамилию. Мой же дом представлялся бельмом на глазу, однако бельмом маленьким и потому его проглядели, а я получил возможность наслаждаться видом на Пролив и на кусочек одной из лужаек моего соседа. Утешительная близость к миллионерам – и всего за восемьдесят долларов в месяц.
На другом берегу «залива» посверкивали выстроившиеся вдоль воды белоснежные дворцы фешенебельного Ист-Эгг, и начало истории того лета пришлось, по сути, на вечер, когда я отправился туда, чтобы пообедать с мистером и миссис Том Бьюкенен. Дэйзи приходилась мне троюродной племянницей, а Тома я знал по университету. Кроме того, сразу после войны я провел с ними два дня в Чикаго.
Муж Дэйзи, обладатель множества физических достоинств, был одним из самых мощных тайт-эндов, какие когда-либо играли в футбольной команде Нью-Хейвена – фигурой масштаба, в некотором роде, национального, одним из тех, кто в двадцать один год достигает таких, пусть и до крайности узких, но высот, что дальнейшая их жизнь приобретает привкус поражения. Семья Тома была несосветимо богата – даже в колледже его безудержное мотовство порождало множество нареканий, – ныне же он покинул Чикаго ради Востока с размахом попросту ошеломительным: перевезя, к примеру, из Лейк-Фореста целый табун пони для игры в поло. Трудно представить, что человек моего поколения может быть богат настолько, чтобы позволить себе подобную роскошь.
Что привело их на Восток, я не знаю. Они прожили, без какой-либо на то причины, год во Франции, а после их словно вихрь какой-то носил по местам, где богатые люди играют в поло и упиваются обществом друг друга. Это последний переезд, сказала мне по телефону Дэйзи, однако я ей не поверил – читать в ее сердце я не умел, но чувствовал, что Том так и будет носиться по свету, выискивая без особой веры в успех драматическую взвинченность какого-то невозвратимого футбольного матча.
Оттого и случилось, что теплым ветреным вечером я отправился на Ист-Эгг повидать двух давних знакомых, которых почти не знал. Дом их оказался изукрашенным даже пуще, чем я полагал, – то был глядевший на «залив» праздничный, красный с белым особняк георгианской колониальной поры. Лужайка начиналась от пляжа и на протяжении четверти мили взбегала к парадной двери, перепрыгивая через посыпанные толченым кирпичом дорожки, огибая солнечные часы и горевшие множеством красок сады, – и наконец, когда я достиг особняка, вспорхнула яркими виноградными лозами по его боковой стене, словно не сумев приостановить свой бег. Фасад прорезала череда французских окон, распахнутых в теплый ветреный послеполудень и сиявших отражениями золота, а на парадной веранде стоял, широко расставив ноги, одетый для верховой езды Том Бьюкенен.
Он изменился со времен Нью-Хейвена. Ныне это был крепкий тридцатилетний мужчина с соломенными волосами, довольно жестким ртом и высокомерной повадкой. На лице его главенствовали светившиеся надменностью глаза, которые сообщали Тому вид угрожающе подавшегося корпусом вперед человека. И даже дамская щеголеватость наездницкого наряда не способна была скрыть огромную мощь его тела – казалось, что икры Тома, неимоверно напрягая шнуровку, до отказа наполняют поблескивающие высокие ботинки, а когда он поводил плечами, видно было, как под тонкой тканью сюртука ходят колоссальные бугры мышц. То было тело, способное на огромные усилия, – жестокое тело.
Голос Тома, резкий хрипловатый тенор, лишь усиливал создаваемое им впечатление вздорной капризности. В голосе Тома Бьюкенена звучала – даже когда он обращался к тем, кто ему нравился, – нотка покровительственной презрительности, и я знал в Нью-Хейвене немало людей, которые его на дух не переносили.
«Я, в отличие от вас, настоящий мужчина, да и посильнее вашего буду, – казалось, желал сказать он, – однако из этого не следует, что я всегда прав». Мы состояли в одном тайном студенческом обществе, и, хотя близкими друзьями не стали, мне всегда казалось, что Том неплохо ко мне относится и испытывает смутное желание произвести на меня приятное впечатление, не поступившись, однако ж, своей вызывающей и какой-то тоскливой резкостью.
Несколько минут мы беседовали, стоя на залитой солнцем веранде.
– Недурственным я здесь обзавелся жилищем, – сказал он, окидывая неспокойным взглядом свои владения.
Он развернул меня кругом и обвел широкой плоской ладонью открывавшийся с веранды вид, охватив этим жестом притопленный в землю итальянский парк, пол-акра темных роз, которые наполняли воздух язвящим ароматом, и покачивавшуюся у берега тупоносую моторную яхту.
– Все это принадлежало Демэйну, нефтедобытчику. – Он снова развернул меня, учтиво, но резко. – Пошли в дом.