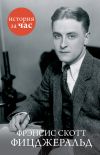Текст книги "Ночь нежна"

Автор книги: Френсис Фицджеральд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XVI
Проснулась она поостывшей, пристыженной. Красавица, увиденная Розмари в зеркале, нисколько ее не утешила, но лишь пробудила вчерашнюю боль, а письмо от возившего ее прошлой осенью на йельский бал молодого человека, пересланное матерью и сообщавшее, что сейчас он в Париже, ничем не помогло – все казалось ей таким далеким, ненужным. Выходя из своего номера на мучительное испытание, которым грозила стать встреча с Дайверами, она чувствовала, что ее словно пригибает к земле двойное бремя бед. Впрочем, все это было спрятано под оболочкой, такой же непроницаемой, как та, под которой укрылась Николь, когда они встретились, чтобы съездить на примерки и пройтись по магазинам. Правда, слова, сказанные Николь по поводу робевшей продавщицы, послужили Розмари утешением: «Очень многие уверены, что люди питают к ним чувства куда более сильные, чем оно есть на деле, – полагают, что отношение к ним если и меняется, то лишь промахивая из конца в конец огромную дугу, которая соединяет приязнь с неприязнью». Вчерашняя не знавшая удержу Розмари с негодованием отвергла бы это замечание, сегодняшняя, желавшая по возможности умалить случившееся, приняла его всей душой. Она преклонялась перед красотой и умом Николь, но также изнывала – впервые в жизни – от ревности к ней. Перед самым ее отъездом из отеля Госса мать заметила, словно бы между делом (однако Розмари знала: именно этим тоном она и высказывает самые значительные свои суждения), что Николь поразительно красива, из чего с непреложностью следовало, что о Розмари такого не скажешь. Розмари, лишь недавно получившую право считать, что она вообще что-то собой представляет, это не так уж и волновало, собственная миловидность всегда казалась ей не исконной ее принадлежностью, а приобретенной, примерно как владение французским. Тем не менее в такси она приглядывалась к Николь, сравнивая ее с собой. В этом восхитительном теле, в губах, то плотно сжатых, то ожидающе приоткрытых навстречу миру, присутствовало все, что требуется для романтической любви. Николь была красавицей в юности и будет красавицей, когда кожа еще туже обтянет ее высокие скулы – немаловажный элемент прелести этой женщины. В юности Николь была белокожей саксонской блондинкой, теперь волосы ее потемнели, отчего она стала еще и прекраснее, чем прежде, когда они смахивали на облако и превосходили ее красотой.
Такси шло по рю де Сен-Пер.
– Вот здесь мы жили когда-то, – сообщила, указав на один из домов, Розмари.
– Как странно. Когда мне было двенадцать, мы с мамой и Бэйби провели одну зиму вон там, – и Николь ткнула пальцем в отель на другой стороне улицы, прямо напротив дома Розмари. Два закопченных фронтона взирали на них – серые призраки отрочества.
– Мы тогда только-только достроили наш дом в Лейк-Форесте и потому экономили, – продолжала Николь. – По крайней мере, экономили я, Бэйби и наша гувернантка, мама же просто путешествовала.
– И мы тоже экономили, – отозвалась Розмари, понимая, впрочем, что слово это имеет для них разное значение.
– Мама вечно осторожничала, называя его «маленьким отелем»… – Николь издала короткий, обворожительный смешок, – …вместо «дешевого». Если кто-то из ее чванливых знакомых интересовался нашим адресом, мы никогда не говорили: «Это такая захудалая нора в кишащем апашами квартале, спасибо и на том, что там вода из крана течет…» – нет, мы говорили: «Это такой маленький отель…» Притворяясь, что большие кажутся нам слишком шумными и вульгарными. Знакомые, естественно, сразу же нас раскусывали и рассказывали об этом всем и каждому, но мама говорила, что наш выбор жилья показывает, как хорошо мы знаем Европу. Она-то, конечно, знала – мама родилась в Германии. Другое дело, что ее матушка была американкой и вырастила дочь в Чикаго, отчего и мама стала скорее американкой, чем европейкой.
Через две минуты они встретились с остальной их компанией, и Розмари, вылезавшей из такси на рю Гинемер, напротив Люксембургского сада, пришлось снова собирать себя по частям. Они позавтракали в уже словно разгромленной квартире Нортов, глядевшей с высоты на простор зеленой листвы. Этот день, казалось Розмари, совсем не похож на вчерашний… Когда она оказалась с Диком лицом к лицу, взгляды их встретились – как будто две птицы коснулись друг друга крылами. И все выправилось, все стало чудесным, Розмари поняла, что он понемногу влюбляется в нее. Счастье забурлило в ней – словно некий насос принялся накачивать в ее тело живительный поток эмоций. Спокойная, ясная уверенность вселилась в Розмари и запела. Она почти не смотрела на Дика, но знала: все хорошо.
После завтрака Дайверы, Норты и она отправились на киностудию «Франко-американские фильмы», где их ожидал Коллис Клэй, ее молодой нью-хейвенский знакомый, которому она успела позвонить. Уроженец Джорджии, он придерживался до странного прямолинейных, даже трафаретных взглядов, которые исповедуют южане, получающие образование на севере страны. Прошлой зимой Розмари сочла его симпатичным, – они даже подержались за руки в автомобиле, который вез их из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, – ныне Коллис показался ей пустым местом.
В просмотровой она сидела между ним и Диком, и пока механик устанавливал в проекционный аппарат бобину с «Папенькиной дочкой», администратор-француз суетился вокруг Розмари, старательно подделывая американский сленг.
– Да, люди, – сказал он, когда выяснилось, что в аппарате что-то заело, – опять у нас бананов нет.
Но тут погас свет, послышался щелчок, стрекот, и, наконец, она осталась наедине с Диком. В полутьме они обменялись взглядами.
– Розмари, милая, – прошептал он. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно поерзывала на другом конце ряда, Эйб судорожно закашлялся, высморкался; потом все успокоилось, и картина началась.
Вот она – вчерашняя школьница – рассыпавшиеся по спине волосы неподвижны, как у керамической статуэтки из Танагры; и вот она – ах, какая юная и невинная – продукт любовных забот ее матери; и вот она – живое воплощение всей недоразвитости ее страны, вырезающей из картона очередную куколку, чтобы потешить свое пустое, достойное шлюхи воображение. Розмари вспомнила, как чувствовала себя в этом платье, – особенно свежей и новенькой, под свежим юным шелком.
Папенькина дочка. Такая лапуленька, такая храбрулечка – и страдает? Ооо-ооо, сладенькая-распресладенькая, но не слишком ли сладенькая? От ее крохотного кулачка бегут без оглядки стихии похоти и порока; да что там, сам рок приостанавливает шествие свое; неминуемое становится минуемым; силлогизмы, диалектика и рационализм в полном составе – все отлетает от нее, как от стенки горох. Женщины забывают о ждущей их дома грязной посуде и плачут, даже в самом фильме одна плакала так много, что едва не вытеснила из него Розмари. Плакала по всей стоившей бешеных денег декорации, и в обставленной мебелью Данкена Файфа[18]18
Данкен Файф (1768–1854) – американский мебельный мастер.
[Закрыть] столовой, и в аэропорту, и на яхтовых гонках, которые и мелькнули-то на экране всего два раза, и в метро, и, наконец, в ванной комнате. Но Розмари взяла над ней верх. Мир покушался на тонкость ее натуры, на ее отвагу и стойкость, и Розмари показала, чего может стоить борьба с ним, и лицо ее, еще не обратившееся в подобие маски, было и вправду столь трогательным, что в промежутках между бобинами к ней устремлялись чувства всех, кто сидел в зале. Во время одного такого перерыва включили свет, и после всплеска аплодисментов Дик совершенно искренне сказал ей:
– Я попросту изумлен. Вы наверняка станете одной из лучших наших актрис.
Затем «Папенькина дочка» пошла снова: настали времена более счастливые, Розмари воссоединилась с папенькой в последней очаровательной сцене, из которой попер столь очевидный отцовский комплекс, что Дик содрогнулся от жалости ко всем психиатрам, которым доведется увидеть эту жуткую сентиментальщину. Экран погас, зажегся свет, наступила долгожданная минута.
– Я договорилась еще кое о чем, – объявила всей компании Розмари, – о пробе для Дика.
– О чем?
– О кинопробе, их как раз сейчас снимают.
Наступило ужасное молчание, затем послышался сдавленный смех не сумевших сдержаться Нортов. Розмари смотрела на Дика, до которого не сразу дошел смысл ее слов, – в первые мгновения лицо его подергивалось, совершенно как у озадаченного ирландца; и она поняла, что ошиблась, пойдя со своей козырной карты, хоть и не заподозрила еще, что карта наверняка будет бита.
– Мне не нужна никакая проба, – твердо заявил Дик, а затем, окончательно уяснив ситуацию, весело продолжил: – Я не смогу оправдать ваши надежды, Розмари. Киношная карьера хороша для женщины, но, боже ты мой, меня-то чего ради снимать? Я – пожилой ученый, с головой потонувший в семейной жизни.
Николь и Мэри стали наперебой уговаривать его – иронически – не упускать такую прекрасную возможность; они вышучивали Дика, немного обиженные на то, что им попозировать перед камерой не предложили. Однако Дик закрыл эту тему саркастическим выпадом в адрес актеров.
– Строже всего охраняются врата, за которыми ничего нет, – сказал он. – И может быть, потому, что люди стыдятся выставлять напоказ свою пустоту.
Сидя в такси с Диком и Коллисом Клэем, – они решили подвезти его, а потом Дик собирался заехать с Розмари в один дом на чаепитие (Николь и Норты принять в нем участие отказались, потому что им требовалось покончить с каким-то делом, которое Эйб откладывал до последнего), – Розмари укорила Дика:
– Я думала, если проба удастся, взять ее с собой в Калифорнию. И может быть, если бы она там понравилась, вы приехали бы туда и сыграли в моей картине главную роль.
Сказанное ею совсем доконало Дика.
– Все это, конечно, мило, но я предпочел бы просто увидеть вас на экране. Вы – едва ли не лучшее, что я на нем видел.
– Великая картина, – сказал Коллис. – Четыре раза ее смотрел. И знаю в Нью-Хейвене паренька, который смотрел двенадцать раз – как-то аж в Хартфорд ради нее поехал. А когда я привез Розмари в Нью-Хейвен, засмущался и не решился к ней подойти. Представляете? От этой девочки у всех ум за разум заходит.
Дик и Розмари обменялись взглядами, им хотелось остаться вдвоем, но Коллис этого не понимал.
– Давайте я провожу вас до нужного вам места, – предложил он. – А потом поеду к себе в «Лютецию».
– Лучше уж мы вас туда подвезем, – ответил Дик.
– Да мне так проще будет. И не составит никакого труда.
– Полагаю, все-таки будет лучше, если мы подвезем вас.
– Но… – начал было Коллис; и тут до него наконец дошло, и он завел с Розмари разговор о том, когда ему удастся снова увидеть ее.
В конце концов он, уязвленный выпавшей ему ролью третьего лишнего, покинул такси, приняв напоследок мину мрачного безразличия. И до обидного скоро такси остановилось у дома, адрес которого назвал водителю Дик. Он тяжело вздохнул:
– Идти – не идти?
– Мне все равно, – сказала Розмари. – Как захотите, так и сделаем.
Дик поразмыслил.
– Я-то, можно сказать, обязан пойти туда, – она хочет купить у моего знакомого несколько картин, а ему позарез нужны деньги.
Розмари пригладила волосы, пришедшие за несколько последних минут в слишком уж недвусмысленный беспорядок.
– Ладно, зайдем минут на пять, – решил Дик. – Боюсь только, эти люди вам не понравятся.
Наверное, они скучные и заурядные, предположила Розмари, или вульгарные и вечно пьяные, или нудные и назойливые – в общем, такие, каких Дайверы стараются избегать. Она была решительно не готова к тому, что ей предстояло увидеть.
XVII
Дом на рю Месье был перестроенным когда-то дворцом кардинала де Реца, однако во внутреннем его убранстве не осталось никаких следов прошлого – да и настоящего, каким его знала Розмари, тоже. Сложенная из камня оболочка дома содержала, скорее, будущее, и оттого человек, переступавший порог, если его можно было назвать так, и попадавший в длинный вестибюль, сооруженный из вороненой стали, позолоченного серебра и несметного числа обрезанных под какими угодно углами зеркал, ощущал что-то вроде удара электрическим током, резкую встряску нервов, противоестественную, как завтрак, состоящий из овсянки и гашиша. Ощущение это не походило на те, что получаешь в залах Выставки декоративного искусства, – здесь ты оказывался не перед экспонатом, а внутри его. Розмари овладело отчужденное, псевдоэкзальтированное чувство выхода на сцену, и она мигом поняла, что его испытывает каждый, кто здесь находится.
А находилось здесь человек тридцать, преимущественно женщин, словно изготовленных по образцам, сработанным Луизой М. Олкотт или мадам де Сегюр[19]19
Луиза Мэй Олкотт (1832–1888) – американская писательница, автор романа «Маленькие женщины»; графиня Софья де Сегюр, урожденная Ростопчина (1799–1874) – французская детская писательница.
[Закрыть]; и все они передвигались в этой декорации с такой осторожностью и аккуратностью, с какими наши пальцы собирают с пола зазубренные осколки разбитого бокала. Ни о ком из этих людей в частности, ни обо всей их толпе нельзя было сказать, что они чувствуют себя в этом доме господами – подобно тому, как владелец произведения искусства может ощущать себя его полноправным господином, сколь бы загадочным и непонятным оно ни было; ни один из них не понимал назначения этой комнаты, поскольку, раскрываясь перед ними, она превращалась во что-то совсем другое; существовать в ней было так же трудно, как идти по отполированному до блеска эскалатору, для этого требовались качества, присущие уже упомянутым пальцам, – качества, которые и определяли, и сковывали движения большинства тех, кто сюда попадал.
Люди эти разделялись на две разновидности. К первой относились американцы и англичане, которые провели всю весну и лето в загуле, и теперь их поведением правили порывы, имевшие происхождение чисто нервическое. В определенные часы дня они были очень тихи и как будто спали на ходу, а затем вдруг словно с цепи срывались, учиняя ссоры, скандалы и совращения. Вторую, назовем ее эксплуататорской, составляли своего рода приживалы; это были люди сравнительно трезвые и серьезные, имевшие жизненную цель и не желавшие тратить время на всякого рода баловство. Им удавалось худо-бедно сохранять в этой обстановке уравновешенность, если здесь и наличествовал какой-либо «стиль» (помимо новизны в устройстве освещения), то задавали его они.
Этот Франкенштейн единым махом проглотил Дика и Розмари, сразу же разлучив их, и Розмари обнаружила вдруг, что обратилась в лицемерную маленькую особу, говорящую писклявым голосом и нетерпеливо ждущую, когда придет режиссер-постановщик. Впрочем, все вокруг до того походило на птичий базар, что положение Розмари не казалось ей более несообразным, чем чье-либо еще. Ну и полученная ею выучка тоже давала о себе знать, и после череды полувоенных поворотов, перегруппировок и марш-бросков она обнаружила, что предположительно беседует с опрятной, гладенькой девушкой, обладательницей милого мальчишечьего личика, хотя на самом деле внимание ее было приковано к разговору, который велся в четырех футах от нее, рядом с подобием стремянки, отлитым из пушечной бронзы.
Там сидела на скамеечке троица молодых женщин. Все высокие, худощавые, с маленькими головками, причесанными как у манекенов, – во время разговора эти головки грациозно покачивались над темными английскими костюмами, напоминая то цветы на длинных стеблях, то головы кобр.
– О, представления они устраивают прекрасные, – сказала одна низким грудным голосом. – Практически лучшие в Париже, и я – последняя, кто стал бы с этим спорить. Но в конечном счете… – она вздохнула. – Эти фразочки, которые он повторяет и повторяет… «старейший обитатель, заеденный грызунами». Смешно только в первый раз.
– Я предпочитаю людей, у которых поверхность жизни не так гладка на вид, – сказала вторая. – А она мне и вовсе не по душе.
– На меня они никогда большого впечатления не производили, и свита их тоже. Зачем, например, нужен окончательно перешедший в жидкообразное состояние мистер Норт?
– Об этом и говорить нечего, – сказала первая. – И все же, признай, он – самый обаятельный из всех известных тебе людей.
Тут только Розмари сообразила, что разговор идет о Дайверах, и все ее тело свела судорога негодования. А стоявшая перед ней девушка, словно сошедшая с плаката – накрахмаленная голубая рубашка, яркие голубые глаза, румяные щечки и очень, очень серый костюм, – продолжала говорить что-то и уже приступила к попыткам подольститься к Розмари. Девушка упорно отгоняла прочь все, что могло встать между ними, поскольку боялась, что Розмари не разглядит ее, отгоняла, пока между ними не осталась лишь завеса робкой шутливости, и тогда Розмари ясно разглядела девушку и никакого удовольствия не испытала.
– Может быть, мы позавтракаем, или пообедаем, или нет, позавтракаем – через день-другой? – упрашивала девушка. Розмари поискала глазами Дика и нашла рядом с хозяйкой – разговор с ней он завел, едва придя сюда. Взгляды их встретились, Дик легко кивнул, и в этот же миг три кобры заметили Розмари; их длинные шеи мгновенно вытянулись к ней, все трое нацелили на нее откровенно придирчивые взгляды. Розмари ответила им взглядом вызывающим, давая понять, что слышала их разговор. Затем она избавилась от своей назойливой визави, попрощавшись с ней вежливо, но отрывисто – в манере, которую только-только переняла у Дика, – и направилась к нему. Хозяйка – еще одна рослая, состоятельная американка, беззаботно выгуливавшая всем напоказ, как собачку, богатство своей страны, – осыпала Дика бесчисленными вопросами насчет отеля Госса, в который, по-видимому, хотела заглянуть, однако пробить броню его нежелания отвечать на них так и не смогла. Появление Розмари напомнило ей о забытой ею роли распорядительницы, и она, оглядываясь по сторонам, спросила: «Вы знакомы с очень, очень забавным мистером…» Взгляд ее обшаривал толпу в поисках человека, который мог бы заинтересовать Розмари, однако Дик сказал, что им пора. И они сразу же вышли, переступив через невысокий порог, в неожиданное прошлое, лежавшее за каменным фасадом будущего.
– Что, ужасно? – спросил Дик.
– Ужасно, – послушно согласилась она.
– Розмари?
– Да? – благоговейно мурлыкнула она.
– Мне страшно жаль.
Розмари вдруг затрясло от звучных, мучительных рыданий. «Есть у тебя носовой платок?» – спросила она, запинаясь. Однако времени на проливание слез не осталось, и они, теперь уже любовники, жадно набросились на оставшиеся у них быстрые секунды, а между тем за окнами такси выцветали зеленые и кремовые сумерки и сквозь тихую пелену дождя начали проступать, словно в дыму, огненно-красные, газово-голубые, призрачно-зеленые рекламные надписи. Было почти шесть часов, улицы наполнялись людьми, поблескивали бистро, и, когда машина повернула на север, мимо них проплыла во всем ее розоватом величии площадь Согласия.
Наконец они взглянули друг дружке в глаза, и каждый пролепетал, как заклинание, имя другого. Два приглушенных имени повисели в воздухе и стихли медленнее, чем другие слова, другие имена, чем звучащая в сознании музыка.
– Не знаю, что на меня нашло этой ночью, – сказала Розмари. – Бокал шампанского? Никогда себя так не вела.
– Ты просто сказала, что любишь меня.
– Я люблю тебя – этого не изменишь.
Вот теперь можно было поплакать – и она поплакала немножко в носовой платок.
– Боюсь, что и я люблю тебя, – сказал Дик, – а это не лучшее из того, что могло с нами случиться.
И снова прозвучали два имени, и любовников бросило друг к дружке, как будто само такси качнуло их. Груди Розмари расплющились, так крепко она прижалась к нему, губы ее, незнакомые, теплые, стали общим их достоянием. Они перестали думать, испытав почти болезненное облегчение, перестали видеть; они только дышали и искали друг дружку. Оба пребывали в ласковом сером мире мягкого похмелья усталости, где нервы стихают пучками, точно рояльные струны, а иногда вдруг потрескивают, как плетеные стулья. Нервы столь обнаженные, нежные, конечно же должны соединяться с другими, уста к устам, грудь к груди…
Они еще оставались в самой счастливой поре любви. Прекрасные иллюзии касательно друг дружки наполняли их, огромные иллюзии, обоим казалось, что взаимное причащение их происходит там, где никакие другие человеческие отношения значения не имеют. Оба полагали, что пришли туда невероятно невинными, и привела их череда совершенно случайных событий, столь многочисленных, что в конце концов оба вынуждены были признать: мы созданы друг для друга. И пришли они с чистыми руками – или так им представлялось, – проскочив под знак «движение запрещено» из простой любознательности и любви к тайнам.
Однако Дик прошел этот путь быстрее; они еще не достигли отеля, как он переменился.
– Сделать мы уже ничего не можем, – сказал он, чувствуя, как в душу его закрадывается страх. – Я люблю тебя, но это не отменяет сказанного мной прошлой ночью.
– Сейчас это не имеет значения. Я просто хотела, чтобы ты полюбил меня, – и если ты любишь, все хорошо.
– К несчастью, люблю. Однако Николь не должна узнать об этом – даже заподозрить ничего не должна. Нам с ней придется и дальше жить вместе. В определенном смысле это важнее, чем само желание совместной жизни.
– Поцелуй меня еще раз.
Он поцеловал, но сразу выпустил ее из рук.
– Николь не должна страдать, она любит меня, и я люблю ее, ты же понимаешь.
Она понимала – таково было одно из правил, которые она понимала очень хорошо: нельзя причинять людям боль. Розмари знала, что Дайверы любят друг друга, для нее это было исходным предположением. Но полагала, что отношения их довольно прохладны, похожи скорее на любовь, что связывала ее с матерью. Когда люди уделяют столько внимания посторонним – не указывает ли это на отсутствие сильных чувств между ними?
– И я говорю о настоящей любви, – продолжал Дик, догадавшись, о чем она думает. – О действенной – она гораздо сложнее того, что я мог бы о ней рассказать. Из-за нее и произошла та дурацкая дуэль.
– Как ты о ней узнал? Я думала, нам удалось скрыть ее от тебя.
– По-твоему, Эйб способен хранить тайну? – с язвительной иронией осведомился Дик. – Сообщи ее по радио, опубликуй в желтой газетке, но никогда не доверяй человеку, выпивающему больше трех-четырех стаканчиков в день.
Она рассмеялась, соглашаясь, все еще прижимаясь к нему.
– Теперь ты понимаешь, меня связывают с Николь отношения сложные. Она не очень сильна – только выглядит сильной. И это основательно все запутывает.
– Ой, давай ты расскажешь об этом потом! А сейчас поцелуй меня – люби меня. И я буду любить тебя, и Николь никогда не узнает об этом.
– Милая.
Они высадились у отеля, Розмари пропустила Дика вперед, чтобы любоваться им, обожать его. В поступи Дика ей чудилась настороженность – словно он вернулся сюда, совершив какие-то великие дела, и теперь спешит навстречу новым. Организатор приватных увеселений, хранитель богато изукрашенного счастья. Шляпа – само совершенство, тяжелая трость в одной руке, желтые перчатки в другой. Розмари думала о том, как хорошо все они проведут с ним эту ночь.
Наверх поднимались пешком – пять лестничных маршей. На первой площадке остановились, чтобы поцеловаться; на второй она повела себя осмотрительно, на третьей еще осмотрительней. На полпути к следующей – их ожидали еще две – остановилась, чтобы легко чмокнуть его на прощание. И по его настоянию спустилась с ним на один марш, и они провели там целую минуту, а после все вверх, вверх. Наконец, прощание. Две руки, протянутые над диагональю перил – пальцы их встречаются и расстаются. Дик пошел вниз, чтобы сделать какие-то распоряжения на вечер, – Розмари вбежала в свой номер и уселась за письмо к матери, стыдясь того, что совсем по ней не скучает.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?