Текст книги "Сенсация по заказу"
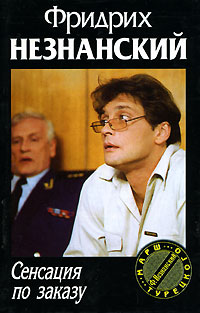
Автор книги: Фридрих Незнанский
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава четвертая
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА СЛЕДОВАТЕЛЕМ СМАГИНЫМ СВИДЕТЕЛЯ КОЛЫВАНОВА:
Вопрос. Когда вы последний раз видели вашего соседа Белова?
Ответ. Вчера и видел. Живой был.
Вопрос. Расскажите подробней, как это произошло.
Ответ. За спичками я к нему зашел, вот как. Закончились у меня. А кушать-то, известное дело, надо. А плиту как зажечь? Даже зажигалки дома не нашлось. Колька, подлец, это мой младший, с пацанами убежал картошку печь и захватил на всякий случай и спички, и зажигалку. Вот жена и рассвирепела. А я только со смены был, устал как черт. Слесарь я. Я есть вообще не хотел, на работе перехватил, я ей так сразу и сказал. А она…
Вопрос. Белов выглядел уставшим? Озабоченным? Чего-нибудь опасался?
Ответ. Да нет вроде… Как обычно был. Ну мы ж не каждый день видимся, я не знаю наверняка какой – такой, а какой – эдакий.
Вопрос. Какие у вас с ним были отношения?
Ответ. Нормальные. Не скажу, что не разлей вода друзья. Я ж понимал, что неровня ему. Научный человек, что тут сделаешь. Но разговаривали иногда. Подолгу.
Вопрос. О чем?
Ответ (пауза). Об этом… о природе мироздания, вот. Это он так говорил. Говорил мне: мы с тобой оба люди верующие. Ты в христианском смысле, а я – в научном. Только вот времена поменялись, и нынче я в этом самом, говорил… ну в не в порядке, в общем.
Вопрос. Это почему же он не в порядке?
Ответ. Я так понимаю, что в научном деле все по полочкам должно быть. Вот как у меня в мастерской – инструменты. А Феликсович, он фантазер был. Какой уж там порядок (смеется.) Да и какие мы верующие? Я в церкви сроду не был, даром что крещеный, а уж про него вообще молчу.
Вопрос. Вы знали, что у Белова есть пистолет?
Ответ. Не знал, ей-богу! Это кто угодно скажет. Вот жену спросите… И жаль, что не знал! Я такие штуки ужасно люблю. С Колькой моим младшим в тире часто торчим. И вообще… Я еще с отцом на охоту ходил. И в армии…
Вопрос. Когда вы заходили попросить спичек, у Белова дома был кто-нибудь?
Ответ. Чего не знаю, того врать не буду. Дальше прихожей я же не двинулся.
Вопрос. Не слышали посторонних голосов в квартире или шума – в то время, когда Белов с вами разговаривал?
Ответ. Не помню… Нет. Не было такого. Вопрос. Как вы думаете, отчего Белов покончил с собой?
Ответ. Женщины у него не было, вот беда. Вопрос. Что вы имеете в виду? Его бросила женщина?
Ответ. Да какое там?! Вообще бабы не было – я ж говорю. Сколько мы здесь живем, считай, уже полтора года, как переехали, ни одной юбки я с ним не видел. Это кого хочешь доконает. А ведь он в нормальных кондициях был. Здоровый, в сущности, мужик. Одногодок мой.
Вопрос. Ошибаетесь. Белов был старше вас на четыре года.
Ответ. Правда, что ли? А как выглядел… Так, может, без баб и лучше?
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА СЛЕДОВАТЕЛЕМ СМАГИНЫМ СВИДЕТЕЛЯ МАЙЗЕЛЯ:
Вопрос. Когда вы последний раз видели Белова? Ответ. Позавчера.
Вопрос. То есть больше чем за сутки до его гибели?
Ответ. А во сколько он… умер? Будьте любезны, сообщите мне время.
Вопрос. Отвечайте по существу вопроса. Когда вы последний раз видели Белова по отношению к тому моменту, когда вместе с Колывановым обнаружили его труп?
Ответ. Действительно, выходит, больше чем за сутки. Сегодня – понедельник. В воскресенье мы не виделись. Но в субботу разговаривали. Сначала по телефону, а потом встретились в Лаборатории. У нас не разрешена одна техническая проблема, и я предложил Антону Феликсовичу посмотреть вариант моего решения.
Вопрос. И в воскресенье не виделись?
Ответ. Нет. Я же сказал, что нет. Молодой человек, зачем вы переспрашиваете то, что уже зафиксировано?
Вопрос. И по телефону вы с Беловым тоже не разговаривали?
Ответ. Постойте-ка… Нет, я же был с внуком на рыбалке, какой телефон? Я не беру с собой телефон на рыбалку. Это все знают и могут подтвердить.
Вопрос. Извините, а кто – все?
Ответ. Ну… наши сотрудники.
Вопрос. Сотрудники лаборатории, в которой вы работали вместе с Беловым?
Ответ. Да.
Вопрос. Как вы думаете, отчего Белов покончил с собой?
Ответ (пауза). Это… такая трагедия… Я не знаю, что вам сказать. Мне нечего ответить на этот вопрос.
Вопрос. Вы подозреваете кого-нибудь в причастности к гибели Антона Феликсовича Белова? Ответ. Его убили?!
Вопрос. Следствие разберется. Отвечайте на заданный вопрос.
Ответ. К сожалению, мне нечего сказать.
Вопрос. У Белова были враги?
Ответ. Смотря что вы под этим понимаете. В научной сфере – да. Но скорее, тогда не враги, а противники. Для большого ученого, теории которого активно обсуждаются, это в порядке вещей. Но я не думаю… Да нет! Просто не представляю себе, чтобы кто-то мог пойти на такой шаг… нет, это просто немыслимо. Это заслуженные ученые, кандидаты и доктора наук, академики.
Вопрос. Не хотите ли вы сделать какое-либо специальное заявление следствию? Ответ. Я? Нет.
На этом месте допрос заканчивался, и на этом же месте Турецкий задумался. Почему Смагин задал Май-зелю такой вопрос? Такой формальный и такой серьезный? Видимо, у него были основания, ведь все прочие вопросы и Колыванову, и Майзелю он задавал очень по делу, за исключением отдельных мелких промахов. Толковый парень, Турецкий в нем не ошибся. А какие могли быть основания? Майзель вел себя так, что дал повод заподозрить в знании дополнительных обстоятельств дела? Выражение лица? Интонация? Или Смагин что-то заметил? Или просто интуиция?
Может быть, Смагин рассуждал так. Колыванов свидетельствовал, что покойный Белов был с головой погружен в работу. Значит, кому же больше знать о его жизни, как не коллеге, который к тому же обнаружил тело Белова – пришел к нему домой. Вполне может быть…
Турецкий прочитал также допросы профессора Колдина и научного сотрудника Лаборатории Ляпина, но тут информации было еще меньше, чем у Майзеля, который хоть тело-то нашел.
Колдин заявил, что не верит в естественную смерть своего шефа, но ничем подкреплять это высказывание не стал. Ну с ним еще предстояло встретиться. Ляпин вообще был ни рыба ни мясо.
Еще допрошены были две женщины-лаборантки и сторож. Сторож в момент убийства спал в Лаборатории, а обе лаборантки находились в Москве, ездили оформлять документы на какое-то оборудование. Сказать всем троим оказалось нечего. Сторож даже не знал, как Белова звать по имени-отчеству, а лаборантки, похоже, пребывали в состоянии, близком к шоку, и отвечали односложно. Никого не подозревали и ни о чем не догадывались.
Турецкий прочитал заключение баллистиков. Потом медицинское заключение. Потом отдельное мнение медика Кондрашова. Это был ординатор местной больницы с большим стажем, которого лемежская милиция регулярно привлекала для экспертных показаний (об этом была приписка Смагина, а инициатива – оперуполномоченного старшего лейтенанта Ананко). Кондратов был согласен с экспертом-криминалистом, который ссылался на патологоанатома. Кондрашов вполне однозначно полагал самоубийство.
Итак, три профессиональных в медицинском плане человека квалифицировали суицид. Турецкий мысленно поставил галочку в этом месте.
Еще были протоколы с показаниями трех соседей (Лебедюк К. К., Самосин Н. В., Захарова К. А.), которые ничего не видели и не слышали, а о Белове отзывались исключительно положительно – в том смысле, что дома он толком и не бывал, а когда бывал, то обычно его было не слышно и не видно (в отличие, кстати, от Колыванова – на это особо указали Лебедюк и Захарова).
Ну и в довершение всего – рапорт опера, старлея Ананко. Тут информации было вообще ноль целых ноль десятых, потому она вся перекрывалась тем, что уже рассказал следователь Смагин, и тем, что прочитал Турецкий в других показаниях. Хотя с опером стоило побеседовать лично, оперы бумагу не любят, но ушки у них на макушке и глаза где надо.
ДНЕВНИК БЕЛОВА
«…Сегодня в Лаборатории мы закончили важную часть работы. К-р! Принесет ли он пользу? Пользу в моем понимании этого слова…
Бог есть любовь? Возможно. Безусловно то, что человек жаждет любви и жаждет быть любимым. Человек в познании мира всегда шел двояко. Желание сохранить чувство любви в любой ситуации рождало понимание высших законов. Оно рождало пророков и мессий. Заповеди, оставленные ими, их информационное поле сохранялось века и тысячелетия, оплодотворяя культуру народов и цивилизаций. Следование этим заповедям, духовные практики, оставленные великими, рождали поколения духовных лидеров, без которых любое государство постепенно вырождалось. С их помощью формировались общечеловеческие мораль и этика, идеология, правовые нормы. Все это рождало общественные и точные науки. Любому экономическому укладу предшествуют глубинные теоретические концепции. Одновременно познание шло через накопление опыта. Классификация явлений окружающего мира, сравнение, анализ, эксперименты и опыты вели к развитию способностей, интеллекта. И те, кто не ограничился этим, шли дальше: к духовным целям и принципам.
Религия рождала науку. Наука создавала системное понимание мира. И затем, по мере развития, все более тяготела к религии, что в конечном счете приведет к их объединению в рамках нового мировосприятия, где они будут не исключать, а дополнять и взаимно обогащать друг друга. И такое познание было свойственно любому процессу развития!
Итак, очередной этап пройден. В такие минуты я часто вспоминаю, что мой отец был врачом. У него была любимая фраза: «Люди славили мудреца за его любовь к ним, однако, если бы они не сказали об этом, мудрец так и не узнал бы, что любит их». Уж не знаю, откуда он ее выудил, только повторял бессчетное количество раз. Отец лечил так, как мало кому удавалось. Впрочем, он говорил на старый манер: врачевал. По своему духу и темпераменту он, конечно, гораздо больше был ученым, нежели врачом. Отец всегда оставался самим собою, и его никогда не покидала тяжесть ответственности – она была для него тем же, что для наших тел – земное тяготение, которое заставляет мускулы совершать усилия, постоянно напрягаться, преодолевать тяжесть тела, но без которого жизнь была бы немыслимой.
Хорошо помню, как я ушел со второго курса физмата и занялся биологией. (Отец уже умер и не знал об этом.) Это новое решение, принятое с такой же головокружительной быстротой, с какой я принимал предыдущие, было попыткой проникнуть в смысл основных ценностей жизни и хоть немного искупить свою вину перед отцом, – попыткой запальчивой и наивной, поскольку я не имел понятия о том, что, собственно, такое профессия врача. Но хотел приблизиться к ней! Оправдать меня может лишь то, что я окончил факультет и в то же время не оставил главной своей цели…
У каждого есть прошлое, при воспоминании о котором начинает бешено колотиться сердце. То, что долго делало тебя счастливым. То, что, по твоему твердому убеждению, должно было продолжаться вечно. Нет ничего труднее, чем перестать принимать прошлое за настоящее. И, избавившись от иллюзий, начать полноценно жить своей подлинной жизнью.
Помню, как, двадцатидвухлетний, я шел по улице. Всюду царила возбужденно-торопливая атмосфера вечера выходного дня. А я плыл сквозь этот бурлящий поток, невозмутимый, безучастный, равнодушно наблюдая, как люди выходят из магазинов, нагруженные свертками, вскакивают в ожидающие их машины, идут в кинотеатры, гуляют в скверах… Но все это меня уже будто не касалось. В этот самый день я первый почувствовал сильнейшее отчуждение, я понял, что радость жизни для меня больше неведома, радость, счастье, надежда для меня будут в другом – в непрерывном поиске, находках и разочарованиях. Когда Томас Алва Эдисон изобретал нить для лампы накаливания, он перепробовал тысячу разных способов, и все они оказались неудачными. Тогда он сказал: я испробовал тысячу неверных способов. Теперь всего лишь осталось найти один правильный. И он нашел его…»
И это все? – изумился Турецкий. Это даже дневником нельзя назвать. Ни дат, ни временных отбивок. Это нечто гораздо меньшее… или большее, как знать? Может быть, это кусок какого-то научного манифеста. А может, просто отрывки рефлексии ученого на досуге.
Запись была сделана в общей тетради с зеленой обложкой старого советского образца. Турецкий внимательно пролистал ее, нет ли чего между страниц. Увы. Тогда он просмотрел, как тетрадь скреплена. Ага, ну конечно. Оказалось, страницы вырваны. Турецкий посчитал: в 64-страничной тетрадке их было 56.
Это уже кое-что!
Похоже на мотив убийства?
Если только знать наверняка, что эти восемь страниц содержат нечто архиважное. А почему нет, если они предваряются такими гуманитарными рассуждениями об эволюции науки?
Потихоньку раздражаясь, он позвонил Смагину:
– Олег, ну где ты там? Пропуск на тебя уже заказан. Ты должен сидеть на Большой Дмитровке, рядом со мной. По правую руку. Потому что слева я никого не терплю.
– Сейчас приеду, Александр Борисович, – сказал Смагин отнюдь не виноватым голосом, скорее веселым. – Только-только от своего начальства оторвался. Громы и молнии.
– Понял, подробности можешь опустить. Турецкий спросил о допросе Майзеля, о последнем
вопросе профессору.
– Мне показалось, у него что-то есть на уме, – сознался Смагин. – Трудно сказать наверняка. Вы его увидите, сами поймете. Он так разговаривает… Он очень, как это сказать… двусмысленный. В отличие от того же Колдина, у которого все черное или белое. Очень интеллигентный и… колючий…
Смагин приехал в Генпрокуратуру через полчаса.
Турецкий посадил его в своем кабинет и дал первое задание: проанализировать «дневник» Белова и сделать заключение, насколько его автор был предрасположен к суициду.
– Александр Борисович, это невозможно! – взмолился Смагин. – Тут жалких три странички! И совершенно ни о чем!
– Это тебе так кажется, – прищурился Турецкий. – Отвечая на звонки, можешь представляться моим именем. Запомни ключевой ответ на все возможные вопросы – надо говорить: сейчас я не готов вам это сказать.
– Вы серьезно?! – Смагин, и так не слишком решительно усаживавшийся в кресло Турецкого, невольно приподнялся.
– Вполне. – Турецкий похлопал себя по карманам – все было на месте – и взял портфель.
– А если позвонит ваша жена?
– Вот это будет интересно, – признал Александр Борисович.
Турецкий отправлялся в Лемеж, на встречу с Колдиным.
Точнее, в Дедешино. Это была первая странность.
Георгий Сергеевич Колдин не захотел ехать в Москву, и даже более того, категорически отказался встречаться в Лаборатории и не стал объяснять почему. Он сказал, что рядом с Лемежем есть небольшое село Дедешино, и там, в крайнем доме, его будет легко найти, есть вывески со всех сторон – уютный трактирчик. Можно поговорить, мешать никто не будет… А кто должен мешать, спрашивается?
В салоне машины летала бабочка. Турецкий открыл все окна, но она тыкалась только в лобовое стекло. Турецкий остановил машину и помог насекомому обрести свободу. Потом поехал дальше, весьма довольный собой. Он тоже чувствовал себя свободным, особенно после московских пробок.
Лемеж Турецкий проскочил не глядя, бывал здесь неоднократно, а вот Дедешино внимание привлекло, там сохранились остатки усадебного комплекса князя Голицына – два небольших флигеля, часть парка и пруд. Ехать и дальше по такой красоте было просто глупо, захотелось потоптать немного родную землю. Турецкий остановил машину, вылез и зашагал под тенистыми деревьями, такими обычными в маленьких местечках и такими милыми сердцу, особенно если ты родился и всю жизнь торчал не здесь, а где-нибудь в дурацком мегаполисе… Он шел дальше – к последнему дому, по дороге, которая ползла в гору, а там круто спускалась под уклон между гладко срезанными пшеничными полями. Хорошо бы бесконечно бродить по всем этим местам и просто вертеть головой по сторонам, подумал Турецкий. На краю деревни он увидел обещанный трактир.
Кроме них с Колдиным, посетителей не оказалось. Официанты тоже не отсвечивали. Колдину было лет сорок. Крупные руки. Большие глаза, увеличенные толстыми стеклами очков.
– Александр Борисович?
– Георгий Сергеевич? Пожатие рук.
Перед Колдиным на столе лежала кожаная папка, на ней – сборник детективов Рекса Стаута.
– Что это? – спросил Турецкий, просто чтобы с чего-то начать разговор. – Овладеваете дедуктивным методом?
– Нет, – не смутился Колдин. – Просто люблю Стаута. Читали? Эти Гудвин и Вульф – настолько колоритная парочка, что, не будь их, большинство дел, которые они расследуют, могли бы показаться совсем скучными. Меня занимает, что в отличие от многих своих коллег по ремеслу Вульф и Гудвин – отчаянные лентяи, и взяться за очередное дело их вынуждает только опасно сократившийся счет в банке.
Турецкий улыбнулся:
– Боюсь, нам их методы не помогут.
– Почему? Нет, я понимаю, – Колдин постучал пальцем по книжке, – это к реальной жизни отношения не имеет, но все же…
– Ваш толстяк Вульф интуитивно догадывается о том, как все произошло, верно? И все дальнейшее действие сводится к тому, чтобы раздобыть необходимые подтверждения.
– А разве наши правоохранительные органы действуют не так же? – с вызовом спросил Колдин.
Турецкий молча пожал плечами.
Колдин вынул из книги несколько листов бумаги и протянул Турецкому. Это было распечатанное на принтере письмо Белова:
– В деле этого нет. Посмотрите.
«Гена, прости, что не предупредил тебя раньше. Но я беспокоился о работе и, зная, как тебя раздражает малейшее отвлечение от дела, не рискнул рассказать, что на самом деле происходит вокруг нашей Лаборатории. Сейчас, однако, замалчивать эту ситуацию больше нельзя, потому что на работе-то она как раз и может отразиться. От меня требуют продать к-р, и требуют уже давно. Я отказываюсь, как ты понимаешь…»
Турецкий поднял глаза на Колдина:
– Что такое этот к-р?
– Потом объясню. Читайте.
– Да скажите сейчас, велика ли разница?
– К-р – это компьютер, у нас там в нем… – Кол-дин слегка запнулся, – в общем, буквально все.
Турецкий кивнул и продолжил чтение.
«…Мне перекрывают кислород. В этот процесс вовлечено уже много людей. Ты должен знать их, потому что это наша страховка…»
– Вот вам и страховка. Колдин сосредоточенно кивнул.
«1. Глава администрации города.
2. Некий бизнесмен из Москвы, мне он представлялся как Иванов, по-моему, криминальный тип. Говорит, что он представляет интересы людей науки. А под пиджаком кобура. Нелепость какая…
Я чувствую, что ситуация стала нездоровой.
С другой стороны, хорошо, что тебя здесь сейчас нет, может быть, когда ты получишь письмо, я найду выход, и все устаканится. Грешным делом, я не уверен, что у нас крепкий тыл.
Веришь ли, впервые за много лет одолела бессонница. У меня было несколько способов занять свои мысли, когда я лежал без сна. Я представлял себе речку, в которой мальчиком удил рыбу, и мысленно проходил ее всю, не пропуская ни одной коряги, ни одного изгиба русла, забрасывая удочку и в глубоких бочагах, и на светлеющих отмелях, и караси иногда ловились, а иногда срывались с крючка… Потом я мог представить себе, как, повзрослев, охотился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть. Сколько же мне понадобилось времени, чтобы понять, что, когда собака учует перепела, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, не то перепела вспорхнут все разом. А все почему? А все потому, что я не желал слушать ничьих советов. Мне казалось, что со мной звери и птицы будут вести себя совсем не обязательно так, как со всеми. А почему нет?!»
Снова лирика. Он был поэт, этот Белов. Странно, что стихов в дневнике не оставил. Спросить у Колдина про дневник? Нет, пока не стоит. А Колдин тоже непрост. На столе лежит папка и потрепанный детектив. Важные для него документы он держит в книжке.
Турецкий поднял на Колдина глаза:
– И что это такое? На какой черт мне эти записки охотника?
– Не понимаете?
– А что я должен понять? – Турецкий закурил, поискал взглядом пепельницу, встал, взял с соседнего столика блюдце. – Как надо охотиться на тетеревов?
– Перепелов вообще-то. Но ведь в этом все дело! Это же все как раз и объясняет!
Турецкий посмотрел на Колдина с некоторой опаской. Ему приходилось встречать людей из мира науки и одновременно же – явно не от мира сего. Если с Кол-диным окажется так же – напрасная потеря времени. Хотя почему же напрасная? Прокатился-то он с удовольствием. Места тут чудесные. Можно опять же на Истринское водохранилище заглянуть… Да и в Леме-же, говорят, озеро есть хорошее…
– Вы не понимаете? – с сожалением констатировал Колдин. – В этом же вся соль! Это как раз и свидетельствует о том, что письмо от Белова. Это его суть, его генезис – никогда не использовать уже «заточенные» алгоритмы решения. Потому он и добился таких оглушительных результатов, что много лет делал все вопреки официальной логике науки!
– Слушайте, – сдерживая раздражение, сказал Турецкий. – Особенности научного метода вашего гениального друга меня не очень волнуют!
– А жаль, кстати, – сказал Колдин.
– Давайте к делу, а?
– Так это же дело и есть. В письме он говорит, что от него требуют продать результаты последних исследований!
– Когда пришло письмо?
– Две недели назад. Но прочитал я его только неделю назад.
– Объясните мне, как это получилось?
– Очень просто. У меня есть два электронных адреса. Один я использую для оперативных нужд, второй, так сказать, стратегический. Заглядываю в него нечасто.
– Значит, Белов отправил вам письмо на «стратегический»?
– Именно.
– Жаль, что письмо электронное, – вздохнул Турецкий.
– Вы сомневаетесь, что его написал именно Антон? Думаете, это я сварганил?
– Так ведь электронное письмо на почерковедчес-кую экспертизу не отправишь.
– Но оно пришло из его почтового ящика!
– Ну вы как маленький, ей-богу. Как будто при большом желании и умении туда нельзя было забраться. Задача для хакера средней руки.
Колдин задумался. Потом сказал:
– В письме есть обороты речи, характерные для Антона Феликсовича.
– Это тоже ничего не доказывает, – вздохнул Турецкий. – Ну ладно. Давайте забудем о моих сомнениях и займемся фактами, изложенными в письме. Насколько они соответствуют действительности?
Вместо ответа Колдин подвинул Турецкому следующий лист. Это был ксерокс газетной или журнальной статьи.
«С завидной регулярностью в средствах массовой информации возникает „биолог“ Белов, труды которого не находят понимания среди биологов. Впрочем, ясно почему. Речь идет о совершенно очевидном шарлатанстве. Белов нашел, что лазером является сама ДНК человека. Между тем достаточно владеть физикой в объеме средней школы, чтобы понять очевидную вещь – при поперечном размере ДНК излучение будет дифрагировать в 2 пи стерадиан, так что ни о каком лазере речи быть не может! Теперь он, видите ли, заявил, что стоит на пороге создания биокомпьютера…»
– Нет, дальше я читать не могу! – возмутился Турецкий. – Я и школьной-то физики не помню! Для меня все это – китайская грамота. Может, сжалитесь, переведете? – Турецкий осекся, заметив авторство статьи: С. М. Кубасов, председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН.
Колдин, конечно, отметил его взгляд.
– Чего вы испугались? Да мало ли академиков на земле русской? Кубасов – просто выживший из ума старый сами знаете кто.
– Маразматик?
– Можно и грубее.
Турецкий вспомнил, что нечто подобное говорил и Гордеев.
– Ну-ну, вам виднее, – со скепсисом пробормотал он.
А Колдин продолжал:
– Помнится, в конце сороковых генетику вообще объявили лженаукой и продажной девкой капитализма. И кто это делал среди прочих? «Народный академик» Трофим Лысенко. Слово «ген» тогда стало ругательным в генетике. А мы, русские, в то время лидировали в этой важнейшей области знания! Последствия этого разгрома оказались таковы, что страна лишились многих блестящих научных умов, и мы отстали. А Запад в этом направлении бурно развивается – во-первых, открытие двойной спирали ДНК Уотсоном и Криком в 1953 году и Нобелевская премия им же в 1963 году, затем последовало открытие генетического кода, и Нобелевские премии посыпались как из рога изобилия, но не на наших ученых. В конце пятидесятых президент США Эйзенхауэр в одном из своих выступлений бросил презрительно, что СССР отстал от Запада в молекулярной биологии на двадцать пять лет.
– Спасибо за экскурс в историю. Объясните мне вот что. Ведь, как я понимаю, всякий научно-исследовательский институт или лаборатория находятся в ведомстве Академии наук, того или иного ее направления. Верно? Что вы молчите?
– Верно-то верно, да не совсем, – неохотно сказал Колдин.
– То есть фактически вы сами по себе? Частная лавочка?
– Мне не нравится такое определение.
– И все же. Кому принадлежит ваша Лаборатория? Государству? Частным лицам?
– А что такое? – обозлился вдруг Колдин. – Это в советские времена Академия наук, как и все прочие научные и учебные учреждения, была поставлена под жесткий партийно-административный контроль! Директору нужно было иметь специфические таланты, чтобы в этих условиях обеспечивать сколько-нибудь продуктивную научную работу своим сотрудникам. Нужно было уметь взаимодействовать с партийными инстанциями и КГБ!
– Я жду ответ, – напомнил Турецкий.
– Вас интересует материально-техническая база?
– Да.
– Вы наивный человек. Она чего-то стоит, конечно, но это меркнет по сравнению с теми возможностями, которые давали открытия! Вы ждете ответ? Пожалуйста! Да, наше имущество принадлежит, точнее, принадлежало одному человеку.
– Белову?
– Белову.
– Как это произошло?
– В советские времена Антон Феликсович работал в Серпухове, в НИИ биофизики. Этот институт Академии наук СССР был замечательным учреждением. Он отличался от многих других институтов широтой тематики. Это объяснялось самим характером науки – биофизики, включающей все: от математической теории изменения численности биологических популяций и принципов работы мозга до рентгенографического исследования структуры мышечных белков. Это была большая – около тысячи сотрудников – научная республика. Государство! Институт биофизики отличался от большинства других академических институтов именно этим республиканским демократизмом. А потом… Потом все рухнуло.
– Когда именно?
– В начале девяностых. Да и не только у нас. Белов ушел из Серпухова и создал свою Лабораторию. По камешку, по кирпичику. Это целиком и полностью его детище. Нашел и увлек компетентных сотрудников. И деньги на оборудование доставал сам. Между прочим, явление само по себе уникальное. Его в Японию постоянно звали. В Европу…
– Но он был патриот, – продолжил мысль Турецкий.
– Что, в такое трудно поверить?
– Почему же? Пока все так и выглядит.
– Оно не только так выглядит, оно так и было. И тем более Лаборатория Белова – уникальное явление, а нынешние ученые – либо седобородые маразматики, либо молодые шарлатаны.
– Хотите сказать, фундаментальной науки в России больше нет?
– Александр Борисович, задавайте конкретные вопросы.
– Задаю. Что такого замечательного создал лично профессор Белов и его институт в частности?
Колдин помолчал, вид у него был несколько удивленный.
– Вы действительно не знаете?
– А должен? – уже скрывая раздражение, спросил Турецкий.
Колдин укоризненно покачал головой:
– Я думал, вы как-то подготовитесь… В советские времена органы разбирались в нашей работе. Ну да ладно. Белов создал паперфторан.
– Па… как?
– Паперфторан.
– И что это такое? Философский камень? Вечный двигатель?
– В некотором роде. Это плазма. Заменитель крови.
– Разве такое возможно? – удивился Турецкий.
– Все когда-то становится возможным.
– Тогда объясните мне подробней, что это такое, его папер…
– Еще в шестидесятые годы появились сообщения об идее американца Генри Словитера, предлагавшего создать насыщенные кислородом воздуха эмульсии перфторуглеродов в качестве дыхательной среды и возможных кровезаменителей. В 1966 году Лиленд Кларк поместила мышь – как рыбу – в аквариум, наполненный перфторэмульсией. И она там жила – мышь, конечно, а не Кларк. В густой тяжелой белой жидкости концентрация кислорода была столь большой, что погруженные в нее мыши могли некоторое время «дышать» ею вместо воздуха. Жидкость заполняла легкие, и содержавшегося в ней кислорода оказывалось достаточно, чтобы поддерживать их жизнь. Мыши делали судорожные движения, заглатывая и выдавливая из легких эмульсию. Погибали они не из-за недостатка кислорода, а от утомления мышц грудной клетки – тяжело качать густую жидкость. В 1968 году Роберт Гей-ер осуществил тотальное – стопроцентное – замещение крови крысы на перфторэмульсию. Крыса осталась живой. В 1969-м разработкой перфторэмульсионных заменителей крови занялись американские и японские исследователи.
– Хватит, – замахал руками Турецкий. – Если на Западе так давно до этого докопались, то в чем же научный подвиг вашего коллеги?
– Ни до чего эти тугодумы не докопались, – с обидой объяснил Колдин. – После первых сообщений о возможностях перфторуглеродных эмульсий наступило затишье. Однако внезапное исчезновение из научной литературы новых направлений, как правило, означает их переход в ранг секретных. В общем, в конце семидесятых по «специальным каналам» правительство СССР получило сообщение о проводимых в США и Японии работах по созданию кровезаменителей на основе перфторуглеродных эмульсий. Сообщение взволновало. Стало очевидным стратегическое значение этих исследований. «Холодная война» была в разгаре. Перенасыщенные ядерным оружием «сверхдержавы», США и СССР, не могли исключить возможность его применения. При любой войне, и особенно при ядерной, жизнь уцелевшего в первые секунды населения и войск зависит не в последнюю очередь от запасов донорской крови. Переливание крови в этих случаях должно быть массовым. Сохранение донорской крови – чрезвычайно сложное дело. Многие могучие научные лаборатории и институты заняты этой проблемой. Долго хранить кровь все равно не удается. Даже в мирное благополучное время донорской крови не хватает. Но и этого мало. Донорская кровь часто заражена вирусами. Случаи заболеваний гепатитом в результате переливания крови все более учащались. А тут на мир надвинулся СПИД. Мысль, что от всего этого можно избавиться посредством безвредной, незараженной, лишенной групповой индивидуальности, не боящейся нагревания перфтор-углеродной эмульсии, воодушевляла. И правительство поручило Академии наук решить эту проблему. Серпуховскому институту была обещана любая помощь. В работу было вовлечено около тридцати различных учреждений. Параллельно и независимо аналогичные исследования начали в Ленинграде и в московском Институте гематологии и переливания крови.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































