Текст книги "Июль, июль, август"
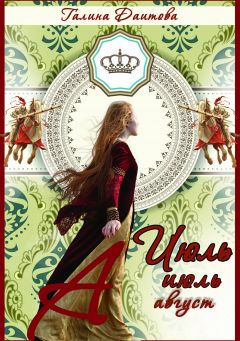
Автор книги: Галина Даитова
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Это ваша жена, Робин? Да?– тихо спросила я, перебив его, не выдержав внезапной, странной муки сопричастности чужому горю, так неожиданно ворвавшемуся в мою любовную безмятежность…
Я осеклась и виновато взглянула на Робина – он уже был в дверях.
– Да,– ответил он издалека.– Если теперь про нее можно так сказать.
– Вы… вы зря уехали тогда,– крикнула я ему вслед.– Надо было остаться. Уходить всегда хуже, чем оставаться.
– Остаться?– Робин снова шагнул ко мне из разинутой дверной пасти.– И зачем остаться?
Два огонька от одной свечи, тихо горевшей у меня в руках, застыли в его почти невидных из-за темноты глазах.
– Зачем остаться?– повторил он, глядя поверх моей головы.– Чтобы терпеть ее упреки? Она одна умеет делать так – молчать, скосив глаза в сторону… Или еще запрется у себя и сидит там у окна, не гася свечку ночь напролет… А с утра выйдет с поджатыми губами и снова весь день молчит… А в глазах – темнота какая-то, и в этой темноте не видно ничего – только лес и ворота, ворота и дорога, дорога и лес…
Я отвернулась. Что-то непонятное большой и смутной тенью прошло мимо меня. Я поежилась и покосилась на Робина:
– Ну пусть упреки,– сказала я в сторону,– пусть что угодно, лишь бы вместе. Это самое главное, что вместе, – ведь вы вправду любили ее…
– А если не вправду? – перевел на меня свой темный взгляд Робин. Из двух свечей там не осталось ни одной.– А если я изменил ей? Да так, чтобы она сама узнала об этом! Чтобы наверняка узнала, как я переспал с одной из ее служанок…
– Пере… пере-что?– я стукнулась головой о кроватную спинку.
– Ничего,– он вышел из комнаты, хлопнув дверью.
– Боже мой, боже мой!– я покачивалась, сидя на кровати и сжав ладонями виски.– Видимо, я что-то не то сказала, что-то не то! И пусть тогда Робин простит мне это, ведь влюбленные – такие, как я – ничего не понимают, ничего не знают и не помнят, кроме своей любви…
Я сидела и думала, как бы мне к этому привыкнуть – к тому, что я опять влюблена. И можно ли вообще к этому привыкнуть? Я надеялась, что можно, только вот пока еще непонятно, как.
Я вспомнила о Робине, который только что вышел… Или вышел три дня назад. Мне стало немного стыдно от того, что я могу быть так безмятежна и так… да, кажется, так счастлива, когда кругом столько печальной, нерадостной жизни, столько горя, может быть, столько войны… Но даже слово «война» перестало казаться мне страшным, оно лишилось того грозного смысла, каким наполнено было раньше, оно вообще перестало быть наполненным хоть каким-нибудь смыслом – как, впрочем, и все остальные слова, удаленные от моей любви… Война стала казаться мне маленькой, размером с носовой платок и даже еще меньше, мельче и ничтожнее. Она превратилась для меня в почти несуществующую малость. Точно такой же малостью стали люди – чтобы обратиться к ним, рассмотреть их, надо было приложить такое усилие, что у меня не всегда хватало на это воли. Например, бедный Робин был мал, как горошина – не знаю, заметил он это или нет по тому, как я щурюсь каждый раз, глядя на него, и всё равно с трудом его различаю, оборачивая голову только на звук его голоса, тоже неясного. Я не видела его лица и почти не понимала его слов, обращенных ко мне, но трудилась его замечать ради него самого – ради своего былого к нему уважения. Я говорю «былого», потому что теперь я, признаться, довольно плохо представляла себе, что такое «уважение» – такой же бессмысленный набор звуков из прошлой жизни… Еще немножко, еще несколько дней – и я, чего доброго, действительно начну забывать и путать слова и мысли из-за незначительности и ненужности для моей Любви того, что стоит за ними:
– Госпожа Августа,– спросят меня.– Что прикажете сегодня на обед?
– На обед?– почешу я лоб.– Пожалуй, немножечко… хм… как это… уважения. Да, только смотрите, не пересолите всё это, как в прошлый раз.
– Слушаюсь. А чего изволите на ужин?
– Ничего. Вечером я уезжаю навестить Мариусову сестру Роззи в Мюрццушлаг. Скажите… этому… как его… кучеру, чтоб запряг мне… чтоб запряг… ну, вы знаете… чтоб запряг войну. И пусть покормит ее хорошенько – доехать быстрее в Мюрццушлаг до вечера…
На миг я вдруг ужаснулась самой себе, собственной бессердечности. Маленький Робин, маленький мир, маленькая война… И вернувшийся на короткое время рассудок сказал мне, что я безвозвратно и гибельно впадаю в любовное оцепенение, в тяжелое и сладкое любовное небытие.
Еще неделю назад я, помнится, плакала… О, как я плакала! Я горевала о чем-то… Нет, о ком-то. О ком-то. Слезы из меня лились такие едкие от горя, что кожа на щеках сморщилась, как кожура финика… По ком же я тогда так плакала? Ах, да. Убили брата Мариуса, Филиппа… И я плакала. Помню еще, мне очень было жаль Карлу, Филиппову жену, которая не выдержала горя и сошла с ума – она билась об стену так, будто хотела размозжить себе голову… Старая Хелена была там же, она удерживала Карлу, и та покусала ей руки… Господи, как легко бросить всё это! А тем более ради любви. Как хороша любовь по сравнению со всем этим!
И забывая о Филиппе, о Карле, о Бернане и других, я, конечно, не предаю их. Конечно, нет… Конечно, да! Ну и что? Им и со мной, и без меня одинаково плохо. И будто мне легко было забыть их! Я, может, о них вовсе и не забывала – вот думаю же я о них теперь. Думаю о них, о безногом Бернане, которому ядром оторвало обе ноги, о пропавшем без вести Мариусе, о… обо всех! Я думаю о них, будто не о чем мне больше думать!.. А как трудно мне о них думать, кто бы знал!
И если меня спросят когда-нибудь, почему же я всё-таки забыла о них, я скажу… я скажу… Что же я скажу?.. А кто будет спрашивать? Кому есть до меня дело? Никто не будет спрашивать!.. Хотя, например, Бог. Да, он может… Как же я сразу о нём не вспомнила… Сначала он вынет у меня из сердца мое сладкое любовное блаженство, которым, как длинной серебряной иглой, недавно кольнул мне душу… И что я скажу ему? Ах, не всё ли теперь равно, что я скажу! А может, сказать всё как есть? Сказать, что… что женщина не предавшая – женщина не любившая. Сказать? Никто ему, наверное, так не говорил, он удивится или рассердится. Любовь – это особая, отравленная сладким ядом восторга, воли и всемогущества, разновидность смерти. Это потеря мира, его забот, его тяжести, его печалей – ведь наш мир именно таков. Потерян мир – потеряна неизбежная и неостановимая боль существования в этом мире… О, как я плакала тогда, и слезы были такие жуткие, как финики… Спасибо тебе, господи, за то, что ты придумал нам любить. Любовь – маленькая смерть, смерть ненавсегда – да и не моя смерть, а мира. Какого-то там мира! Ну и в чем же здесь грех? В чем, Боже, грех? Скажи мне, если сам знаешь!
– В чем грех?– переспросил Робин.
Я вздрогнула. Он стоял рядом. Я не видела, как и когда он вошел. Я уже третий день перебирала пух в старых перинах, притащенных Мартой с чердака. Я сидела прямо на полу, подогнув под себя ноги, и не торопясь, день за днём, шевелила пальцами слежавшиеся перья, пересыпая их из одной пригоршни в другую и раскладывая возле себя маленькими неподвижными холмами. Я сидела здесь уже третий день, дышала пылью, чердаком и старыми перьями, и эта моя работа не двигалась ни туда, ни обратно – только пух стал поскрипывать у меня на языке. Я сидела, думала и не заметила, что, наверное, стала говорить вслух. В голове моей от долгих дум как-то, видимо, истерлась перегородка между словами и мыслями, и мысли стали сами собой стекать на язык…
– В чем грех?– повторил Робин, поскрипывая шагами по рассыпанным перьям, как по снегу. Он остановился у окна и, обернувшись, глянул на меня через плечо.– Уж конечно, не в том, что никто еще добровольно не вернулся из любви в мир, что всех пришлось вытаскивать. Каждого! Без исключения. Грех в том, что ради блаженного отдыха небытия все слишком легко убивают в себе мир. Женщине не надо мира, если у нее есть любовь. Но если такое случается с мужчиной – то жизнь его, конечно, делается невыносима: он знает, что мира не может не быть, но понимает, что мир ему не нужен…
Я даже не знаю, когда Робин ушел – я не заметила и этого. Я поняла, что он ушел, только когда увидела, что невысокая перьевая вьюга от его шагов стихла… Стук в дверь совершенно оглушил меня.
– Войдите!– крикнула я.
– Госпожа Августа, вас спрашивают.
– Кто спрашивает?– удивилась я.
– Я,– и, отодвинув от двери Марту, ко мне вошла, или даже почти ворвалась нежданная – негаданная…
– Госпожа Розамунда Мюрццушлаг,– пожав плечами, запоздало объявила Марта и ушла, прикрыв за собой дверь.
Вид Роззи так меня озадачил, что от удивления видеть ее перед собой сейчас и здесь я вдруг снова вернулась в прежний мир: комната, в которой я сидела среди куч старых желто-бурых перьев, сделалась неожиданно большой, как, наверное, и была когда-то; потолок перестал давить мне на глаза, и я вздохнула свободно – стены расступились, и впервые за много дней, пока я тут находилась и ждала возвращения Оскара Легница, мысли в ушах смолкли – их заглушил громкий, взволнованный голос Роззи:
– Августа, скажи ради бога, где Робин,– хватая меня за руку, сказала она.– Мне говорят, что его нет…
– Его нет,– кивнула я.– Но он, кажется, вернется к вечеру…
– К вечеру – это слишком поздно!– воскликнула Роззи.
– Ничего не могу с этим поделать,– вздохнула я, и тут же потолок стал приближаться ко мне, и стены надвигались, и рос мой мир, уменьшая одновременно их мир, где Роззи с красными от слез глазами делалась всё меньше и неразличимее…
Как-то, видимо, почувствовав моё к ней равнодушие, она порывисто приблизилась ко мне и стала трясти меня за плечи:
– Августа! Сегодня утром сбежал Иво!
Я с трудом стала вспоминать, кто такой Иво. Я перебирала массу крошечных, как горох, людей, рассыпанных в моей безразличной ко всем ним голове, но никак не могла решить, какой горошине принадлежит это имя и почему ради этой горошины другая, чуть побольше, так плачет и кричит передо мной, не давая мне покоя…
– Сбежал Иво?– переспросила я, всё еще не вспомнив никакого Иво, или, может, вспомнив сразу двоих Иво и досадуя на то, что мне мешают быть влюбленной – а это не такая уж и легкая работа, чтобы вот так вот, непонятно и грубо, прерывать ее…
– Сбежал!– плакала возле меня Роззи.– Он оставил записку. Прочти.
–Записку?– ужаснулась я, и такое вдруг отчаяние накатило на меня от того, что мне придется читать чью-то записку и вспоминать, что значат слова в их записке и что мне делать после того, как я прочту эти слова…
– Не могу найти!– Роззи дрожащими руками обыскивала свое платье, а слезы тихо катились по ее мокрым ввалившимся щекам.
Наконец, не найдя записки, она так разрыдалась, что отошла к окну, захлебнувшись слезами. Там она и стояла, нелепо втянув голову в плечи.
– Он ушел на войну,– говорила она.– Так там было написано: «Ушел на войну защищать вас, страну и короля». Он так написал.
И Роззи стала ходить по комнате туда-сюда, а вернее, метаться, как зверь в клетке. И глядя на это лихорадочное метание, от которого у меня сразу заболели глаза, я вдруг вспомнила, кто такой Иво. Наконец-то, слава богу! Коробочка мыслей из моей головы с тихим, но вполне ясным щелчком раскрылась… На дне коробочки мыслей лежала моя прошлая жизнь в том строгом и неприкосновенном виде, какой я и оставила её лежать там за ненадобностью в тишине и спокойствии со времени отъезда милого Оскара Легница… Я вздохнула с некоторым облегчением оттого, что вспомнила Розиного Иво…
Только сначала в памяти ясно, до последней черточки, до крошек свиной колбасы на воротнике, почему-то возник Яков Эйзенерц.
– Да вот хотя бы Роззи, сестра Мариуса,– сказал он, потянувшись за новой бутылкой, которую предусмотрительный Мариус отставил от него подальше на другой край стола.– Августа! Подай-ка мне вон того вина… Да, вон того. Из левого погреба. Это вино привез еще сам Баррет Лепек из своего первого испанского похода… Ну так вот… Роззи… На ее плечах держится весь дом – она кормит и обстирывает всю их ораву, ходит за старухой Хеленой, утирает носы всем этим детям, которых в их доме черт-те-сколько нанесено… И что при этом? Другая бы на ее месте давно махнула бы на себя рукой во всей этой суматохе и неразбери-что-чье… Превратилась бы в этакое домашнее корыто… А она – нет. Вот никто никогда не видел, чтобы она хныкала – ну, знаете, как любят это делать все бабы без исключения: хныкать, ворчать, поскуливать… Напротив, она всегда весела, и с ней приятно перекинуться парой слов – обо всем она судит с такой простотой и твердостью, которую вообще было бы трудно ожидать в женщине. У нее есть свое собственное мнение по любому – решительно любому! – вопросу. Но она не носится со своим умом, как кошка с больной лапой, подобно прочим женщинам, которые желают сверкать своей образованностью, да и сверкают ею, как таз – помоями… Она умеет себя держать, и видно, что когда-то она знавала лучшие времена, чем теперь, да и, прямо скажем, лучшее, чем теперь, общество… Нет, я не понимаю, Робин, почему ты до сих пор не знаком с Роззи? Она бы тоже пришлась тебе по душе, я уверен. Жаль, что ты не бываешь у Мариуса в Мюрццушлаге – Мариусова мать готовит отличный грог! Мариус, уговори Робина заехать к вам; что он всё время сидит в своей дыре, как сыч? Если б не мы – то и говорить бы, наверное, разучился…
Я мельком глянула на Робина – тот ничего, сидел вполне невозмутимо в своем любимом кресле с ножками, обкусанными собакой, и неторопливо потягивал вино, слушая болтливого Эйзенерца с обычным своим вниманием, которое развязывало Эйзенерцу язык получше любых расспросов.
– Но, ты знаешь, есть и у нее недостаток,– продолжал Эйзенерц, прищелкнув пальцами.– Хотя для женщин это вполне обычное дело, но для нее – нет, совсем не годится. По-моему, она блудлива.
Робин налил себе еще. Мариусу, подумав, тоже, хоть его бокал и был почти полон.
–Вот с этим я еще не вполне разобрался,– говорил Эйзенерц, покручивая свой ус.– Вроде бы явных признаков нет, да и не ходит к ней никто. Но, с другой стороны, не дает мне покоя этот ее ребенок – шустрый такой растет мальчишка… Я об Иво. Она родила его просто так и сама по себе, понимаешь? Где-то жила при каком-то непонятно каком муже, потом вернулась в семью уже натяжеле и, представь, так поставила дело, что никто и слова ей не сказал, бровью никто не повел – будто так и надо. Я спрашиваю – они молчат да отмахиваются. Мне до сих пор и не понятно, чей это бегает мальчишка… А я так думаю, что если уж случился один раз грех – то и еще случится. Рано или поздно, в какой бы строгости она себя ни держала. Это надо знать женщин!.. Налей-ка, Августа, мне еще вон из той бутылки… и побольше. Нет, лучше давай мне всю бутылку целиком, чтобы не таскать в рот наперстками… С одной вдовой, которая жила по соседству от меня, была почти такая же история… Августа здесь? Да ушли же ее куда-нибудь, Робин. В самом деле! Прямо как со связанным языком сидишь! Ну или, знаешь, выдай ее, наконец, замуж. И то будет слава богу! Неужели ты снова отказал нашему славному Мариусу? Да ты скотина после этого, Робин. Не обижайся, конечно, но ведь это так.
– Она сама так решила, Эйзенерц,– ответил Робин.– И вообще, не твое это дело.
– Она сама так решила! Смешно это слышать! Кто еще, посуди сам, будет два раза свататься за нее? Да и даже один раз кто будет? Уговори ее как-нибудь, если уж ты считаешься тут за её дядьку. Баррет Лепек был бы тебе за это чертовски благодарен! Или ты хочешь, чтобы она просмолилась в старых девах и стала твердой и шерстяной, как корабельный канат?
– Нет, этого я не хочу,– терпеливо ответил Робин…
…Когда Роззи проходила по комнате мимо меня, то своим подолом она размахивала все перья, разложенные мной по кучам старости: старые, не очень старые и совсем ещё ничего, которые можно будет пустить на новые перины… Ветер, который вырывался из-под юбок Роззи, был горячим и пыльным. С её каблуков слетали скорлупки грязи, а чулки – я видела, сидя на полу – были надеты наспех, как попало, перекручены-переверчены… От того, как Роззи металась по комнате туда-сюда, на дырах с её чулок разошлась старая штопка…
А ведь в тот вечер, когда зашёл разговор о Роззи, Эйзенерц напился очень сильно… Да, точно. Я впервые видела, чтобы он напивался так сильно… Хотя, конечно, он стал много пить за последнее время. Мариус с Робином взяли его за ноги и отволокли на кровать, где я прикрыла его портьерой, которую он сам и сдернул, вцепившись в нее по дороге… Оказавшись на кровати, пьяный Эйзенерц натужно захрапел, открыв рот, куда свешивались его мокрые усы…
…Да она всё здесь перевернёт мне вверх дном!
Я неприязненно глянула на Роззи снизу вверх и осторожно, двумя руками, медленно отгребла самую молодую по старости перьевую кучу к стене, подальше от неё – я потянулась, чтобы причерпнуть все перья, легла на бок, и так вот, лёжа, потихоньку оттаскивала пригоршни перьев от ветра из-под Роззиных юбок…
…-Не надо позволять ему так напиваться,– задумчиво сказал Робин, глядя на заходящегося в свисте, клекоте и храпе Эйзенерца.
– Я думаю, он пьет с горя,– ответил Мариус.– Судя по всему, он мертвецки влюблен в свою Роззи.
– А она?
– А что она! Она – как всегда: вынимает ему душу по кусочкам, вытягивает из него жилки и крутит их, как ей нравится, вряд ли вообще это замечая. Поэтому-то он сегодня и напился, а вчера делал Роззи предложение руки и сердца – ни того, ни другого она не приняла. Он, конечно, стал у нее допытываться, почему, отчего и зачем – ты же знаешь этого зануду!
– И что?
– Ну, в конце концов Эйзенерц добился разъяснения, которое его повергло в страшное горе, но одновременно и успокоило: она его не любит. Но завтра он решил идти допытываться дальше. Я хотел было его отговорить: «Если она сказала тебе, что не любит тебя, то разве мало тебе этого?» Он, конечно, уперся: «Просто «не люблю» и «люблю другого» – это разные вещи», – «Конечно. Вроде того, как просто быть мертвым и быть уже закопанным в землю…» Но всё без толку. Ты же его знаешь.
– Что ж, жаль. Он был бы ей хорошим мужем.
– Мужем? Он? Ты шутишь, пожалуй.
– Нет. Вот из таких-то, как Эйзенерц, и выходят вполне честные и ручные мужья, если за них с умом возьмется какая-нибудь достойная женщина. Какой твоя Роззи, несомненно, и является.
– Но ведь у нее,– мягко сказал Мариус, глянув на Робина,– уже есть муж.
– Был, ты хотел сказать,– Робин закрыл рот грохотавшему в храпе Эйзенерцу.– Но ведь он скверно с ней обращался, не так ли? Эйзенерц уверен, что тот даже поколачивал ее.
– Насколько я знаю, ничего подобного не было. Да и не могло быть.
– Всё равно. Если старый муж оказался плох, то почему бы бедной женщине, которой пришлось с ним несладко, не завести себе новую семью, новых детей – всё это хозяйство, без которого ей, как видно, плохо приходится?
– Вот как?– медленно выпрямился Мариус.
– Тем более, что прежний её муж, я слышал, умер.
– Интересная новость…
– Можешь передать эту новость своей сестре. Должно быть, она будет рада.
– Но послушай, Робин…
– Так и передай,– перебил он Мариуса.– Я сам, конечно, с ним не встречался, но люди рассказывали. Завтра же, как вернешься, скажи ей об этом. Тогда, может быть, она будет поласковее с нашим Эйзенерцем… Она свободна, как все вдовы. Жизнь прошлая осталась позади. Раз уж ее муж умер, то она вольна в своих чувствах точно так же, как вольна отныне в своих поступках. Так и передай, Мариус. Скажи ей, чтоб она была счастлива, ведь теперь она – никому-никто.
– Я-то, конечно, передам, но, Робин…
– Вдовы не должны опасаться за будущее, оглядываясь на своё прошлое. Умершему они отдали всё сполна.
– Ясно,– сказал Мариус, нахмурившись.
– Августа,– обернулся Робин ко мне.– Останься, прошу тебя, здесь и позови нас, когда он, может быть, очнется…
…– Он ушел на войну. Он так и написал. «Ушел на войну защищать вас, страну и короля». Что же теперь делать!
Роззи в сотый, а может, и в тысячный раз повторяла это. Слова её были назойливы и лезли в уши, как мухи. Я подумала, может сказать ей, что Робин обещал вернуться только завтра… Тогда она уйдет, наконец, отсюда и не станет его ждать. Как жаль, что я сразу так ей не сказала…
– Иво – это всё, что у меня осталось!– снова услышала я.– Я даже представить не могу, куда он мог направиться… Надо попросить Робина, чтобы он послал людей по пяти разным дорогам… Какой глупый мальчишка!
– Да, глупый мальчишка,– повторила я только затем, чтобы что-то сказать… Я вспомнила, кто такой Иво, но вспомнив это, так устала, что тут же забыла что-то другое. Или всё-таки сказать ей, что Робин вернется только завтра? Конечно же, она уйдет!
– С Иво в дороге может случиться беда – сейчас так опасно на дорогах – толпы нищих, бродяг, дезертиров, погорельцев и неизвестно кого еще! Он пропадет… Ему всего двенадцать лет, и он пропадет…
Я тихо, незаметно, но довольно крепко заткнула себе уши, надавив на них ладонями, чтобы больше не слышать ни одного слова о пропавшем Иво, потому что каждый звук, вырывавшийся из горла этой мечущейся возле меня женщины, казался мне хрипом какой-то хищной, страшной птицы – из тех больших неистребимых птиц, которые кружат над полем, неподвижно расставив несущие тень и темень крылья… Каждый такой хрип причинял мне почти ощутимое страдание – так начинал меня мучить мир, с грубой навязчивостью дергая меня за плечи… И почему я не могу сказать ей, что Робин вернется завтра? Всего три слова – «Робин. Вернется. Завтра» – и она уйдет, оставит меня в покое…
– Он так и написал, Августа! Что же теперь делать? Иво – это всё, что у меня оста…
Нет, поздно. Если теперь я скажу ей, что Робин вернется завтра, то она не поверит мне. Она спросит, почему же я сразу не сказала, что Робин вернется завтра… Она заподозрит что-нибудь, она останется, чтобы выяснить всё наверняка – сегодня он вернется или всё-таки завтра… Да, она останется – скажу я ей про завтра или не скажу… Я болезненно поморщилась оттого, что мне приходится нынче терпеть всё это. И тут спасительная коробочка старых, давно отслуживших, но, слава богу, еще не выброшенных мыслей в моей голове снова щелкнула, распахнувшись, и…
– Да, так и написал, Августа! Я боюсь подумать, что же с ним может случиться в доро… Ему всего двена… Послал людей… Так опасно на доро… сейчас так опа… дезертиров… неизвестно кого!
…и бал в Мюрццушлаге выпрыгнул мне в зажатые уши… Да, бал в Мюрццушлаге, почему бы и нет, в самом деле?
– Я боюсь подумать, что же с ним может случиться в доро…
Да-да, бал в Мюрццушлаге по поводу нашей с Мариусом помолвки, иначе я, ей-богу, сойду с ума слушать всё это… Сначала всё хотели устроить здесь, в Лепеке, но наши соседи, прознав, что мой жених – безродный Мариус из полуразвалившегося нищего Мюрццушлага, на пир не явились. Тогда мы погрузили всё, что было приготовлено, на четыре телеги и отправились в Мюрццушлаг. Все, кроме Робина…
– Что же теперь делать? «Ушел на во…» Так и написал… Глупый мальчи…
Нет уж, мы погрузили всё, что было заготовлено, и отправились в Мюрццушлаг. Там праздновать умели, и нашу помолвку праздновали долго, весело и так шумно, что…
– Ему всего двена…
…долго, весело и так шумно, что распугали криками всех ворон с дырявой крыши Мюрццушлага, и те, потревоженные, в недоумении кружились над поющим и трясущимся домом, так и не решаясь опуститься на дрожащие балки. Когда у них устали крылья, они, вздохнув, попадали на землю и там сидели, поджав клювы и огрызаясь на лающих собак, недобро поглядывая на них черными газами, а потом переводя взгляд на сияющий всеми огнями дом…
У нас по главной зале плясали пары, обнимая друг друга за сытые бока… Бернан играл на старой скрипке, которая визжала простуженным голосом непонятные и резвые песни… Мариус два раза поцеловал меня под крики набежавших гостей. Они принялись так смеяться и хлопать в ладоши, будто на их глазах совершилось бог знает какое редкое и удивительное событие. Филипп не удержался и тоже поцеловал невесту, за что немедленно получил шутливую затрещину от своей жены.
Это так развеселило всех, что подвыпившие гости принялись с хохотом и криками целоваться кому с кем получится и кто кому куда попадет… Получилась галдящая куча. В этой визжащей неразберихе досталось даже Хелене пара поцелуев, и она долго отфыркивалась, усмехаясь и утирая щеки большим, как простынь, платком. Хорошенькой Карле пришлось совсем туго – желающие обняться с ней сшибались возле нее лбами и целовались, промахиваясь, друг в друга. Когда же Карла, хохоча, придумала спастись от них, вскочив на стол, им достался от нее только ее кружевной чепец – он был весь сырой от улетевших мимо поцелуев… Щеки Карлы горели безумным весельем, а Филипп издалека грозил ей кулаком, но тоже смеялся, тоже смеялся…
Другие девушки, увидав, как ловко Карла сбежала от поцелуев, тоже вслед за ней стали запрыгивать на стол, сбрасывая вниз глиняные миски… Тут Бернан снова взялся за свою щербатую скрипку, и начался танец, самый визгливый и бешеный из тех, что когда-либо затевался и придумывался на таких вот сборищах. Девушки плясали на столе, отбивая каблучками дробь по гулкому дубу, а парни вились вокруг, и каждый из них крутился то так, то эдак, стараясь подобраться к своей подружке, чтобы суметь схватить ее за ножку, не лишившись при этом зубов. Всего через пару минут плясуны уже были порядочно побиты каблучками танцующих девушек, но это совсем не умерило их пыл, а даже наоборот – кавалеры всё с большей напористостью атаковали стол. Ну а юбки девушек – парадные, яркие, накрахмаленные до хруста – становились при этом всё короче и короче. В руках гогочущих охотников за поцелуями оставались лоскуты с рваными краями, которые тут же засовывались в карман или прикалывались к шляпе, покуда там еще оставалось место… Иногда кто-нибудь, дурачась и закатывая глаза, прикладывал тряпицу к сердцу, но тут же отбрасывал лоскут прочь, чтобы с веселой яростью броситься к столу за окончательной победой. Еще несколько минут – и весь пол был усыпан разноцветными лоскутками – белыми, желтыми, красными, полосатыми… Они лежали, как опавшие листья, то и дело подхватываемые, словно ветром, буйной пляской несущихся в неостановимом хороводе ног… Пола становилось всё меньше и меньше – лоскутки падали сверху, кружась, с тихим треском, еле слышным сквозь общий хохот и визг. Отодравшего самый большой лоскут приветствовали дружным воем, а потерявшую – таким улюлюканьем и рукоплесканьями, что зазевавшаяся девушка прятала лицо в ладони, глядя сквозь растопыренные пальцы, как радуются там, внизу, этой добыче… Потом девушки проталкивали свою подружку-разиню в середину своей стайки, и всё продолжалось опять… Танец между тем становился всё азартнее – по мере того, как юбки делались короче и короче, им было всё легче взлетать вверх, взметаться, задираться, вздергиваться и взбиваться… При этом охотникам снизу отрывались такие горизонты, что они просто бесились от восторга, и всё ярче вспыхивали их глаза… Но лоскутный дождь постепенно прекратился – юбки танцовщиц стали так коротки, что теперь до их края дотянуться было почти невозможно. Зато поймать и поцеловать голую ножку оказалось гораздо легче, чем это мечталось вначале. Танец продолжался, и лодыжки девушек, а потом уже и коленки, стали розоветь от частых поцелуев… Ладно бы розоветь! У некоторых, особенно нерасторопных плясуний, которые попадались в руки ревущих внизу охотников гораздо чаще, чем прочие, коленки сделались прямо-таки пунцовыми от стыда за частые поражения. Впрочем, неизвестно, что для девушки на столе было приятнее – ускользнуть или попасться. Башмачки девушек сверкали искрами, вычищенные до блеска мужскими усами. Но для танцующих внизу поцеловать башмачок стало уже, конечно, слишком мало… И совсем скоро круглые вертлявые коленки девушек стали поблескивать точно такими же опасными бликами. А потом Хелена вдруг остановила это премилое развлечение, отобрав у Бернана смычок и закричав, что сейчас будут подавать сладкий пирог. Но многие, очень многие, были недовольны её вмешательством и даже рассержены… Чтобы снять девушек со стола после этого лоскутного танца, разгоряченные вином и весельем кавалеры один за другим потянулись подставить девушкам свои плечи. Покачивающиеся от усталости танцорки в растрепанных юбках, торчащих задорно и нелепо, как перья купающихся в песке птиц, столпились на краю стола, защебетали друг с другом, тесно сблизив головы, быстро и озорно поглядывая на ждущих внизу мужчин и, наконец, решились. Они садились на подставленные плечи – осторожно, немного боком – а кавалер почтительно придерживал свою долгожданную ношу за дымящиеся башмачки. Чтобы не нарушить это хрупкое равновесие, девушки упирались локотками в очумелые и всклокоченные кавалеровы затылки… Тут Бернан снова добрался до смычка – кривого, со щербиной, полулысого и злющего – и Хелена даже руками всплеснуть не успела, как снова пошла потеха! Парни с девушками на плечах пустились в пляс. Чтобы удержаться на всём скаку и не свалиться вниз, девушки схватились за неуемных своих кавалеров, а те уже от всей души подскакивали, топали, приседали и кружились по зале – да всё с таким непременным расчетом, чтобы цепляющаяся и визжащая подружка почувствовала бы себя напрочь лишенной былой спеси и важности. И вскоре кавалеры так закружили и закрутили растрепанных девиц, что те, спасая свои жизни, беззащитные от этого внезапного буйства, с писком и криками, но от всей души сдались, наконец, на милость победителей и обвили кавалеров кто руками, а кто и ногами – так, конечно, было гораздо надежнее… Наконец, Бернан смилостивился над визжащими девицами и заиграл более медленную и плавную мелодию. Хотя, конечно, и эту с вывертами, с всхлипами, непутевую… Затеялся новый танец, и затеялся из непрекращающегося старого. Девушки – одна, за ней другая, потом третья, ну а после все остальные – капризно поджали исцелованные ножки, и кавалеры закружили их над землей, бережно и крепко обняв руками долгожданные талии и храня на своих плечах доверчиво щебечущие пальчики. Девушки плыли в медленном качании танца, не касаясь башмачками пола – ни одна! Кавалеры терпеливо и блаженно несли их – скрип, скрип, скрип… Слышался только размеренный топот тяжелых мужских сапог и башмаков по лоскутному осеннему полу, и ни один женский каблучок не нарушал этого тяжеловесного топанья своим легким стуком. Послушаешь – как будто идет рота солдат: раз – два – три, раз – два – три… Идет, приплясывая, как прихрамывая, от одинокости, как неуклюжести. Но вот поднимешь взгляд повыше – а в руках у каждого, как букет, брошенный победителю, девушка в охапке, и головка ее – то склоненная на плечо, то на грудь, а то – у самых губ… Танец стал тем, чем и должен был рано или поздно стать – обниманием. Кто-то еще делал вид, что танцует, но уже немало женских башмачков опустились вниз и крепко уперлись в пол, чтобы удобнее было целоваться… Хелена снова всех разогнала, снова отобрала Бернанов смычок, замахнулась строго, чтобы вроде как изломать его об колено, но тут же улыбнулась, вздохнула и передумала, отдав смычок мне… Я повертела его в руках – десятки глаз следили за мной, а я не знала, что с ним делать – с этим внезапно врученным мне жезлом танцев и веселья. Бернан сверкнул белозубой улыбкой и вынул из-под скамьи новую скрипку – побольше, побелее да и поленивее. На все гулянки он всегда брал с собой три скрипки: «Одну пропью, другую сломаю, а третью украдут…» Снова затеялся танец. Меня окружили смеющиеся пары, и я черным смычком, оставшимся у меня в руках, указывала, кому с кем идти танцевать. Тут же было решено, что я так и буду повелевать, а меня все будут слушаться, как главную на празднике… Когда я угадывала и соединяла в пару двух влюбленных, их счастью не было конца, словно не на танцах смычком, а в церкви распятьем их благословили… Когда я заставляла плясать вместе невлюбленных, а еще хуже того, разбивала из-за этого влюбленные парочки, то их возмущению не было конца. Они потешно кривили друг другу обидные рожи, отворачивались друг от друга, иногда шутя колотили один другого по бокам, а иногда поплевывали друг на друга с таким забавным презрением, что окружающие, глядя на них, покатывались со смеху… Одним повелительным взмахом своего кривого жезла я прекращала эту пытку и милостиво разъединяла мучающихся, отослав даму к другому кавалеру, а кавалера – к другой даме, возможно, впрочем, еще более нежеланной… Так я очень ловко тасовала и смешивала пары, скорая на расправу и безжалостная, как и всякий бог любви. Время от времени я давала потанцевать вместе влюбленной парочке – и не было зрелища более умилительного, когда, наконец, влюбленные соединялись друг с другом после всех мытарств и скитаний. Они разыгрывали целый спектакль о своей долгожданной встрече, пуская в ход и поцелуи, один горячее другого, и самые нежные и бурные вздохи… Впрочем, блаженство их, конечно, не длилось долго, потому что я очень скоро разбивала счастливую парочку, ловко замешивая своим смычком путаницу и неразбериху из всех этих маленьких любовей, расставаний, ревностей и встреч. Я чередовала всё это и месила как повар, готовящий особое блюдо, которое должно всех порадовать, и мне нравилось играть свою роль – роль вершительницы судеб, пусть даже танцевальных и кратких. Забава эта надолго всех захватила, потом я передала смычок Мариусу, а сама, улучив момент, выскользнула прочь…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































