Текст книги "Музей Совести. Роман-притча"
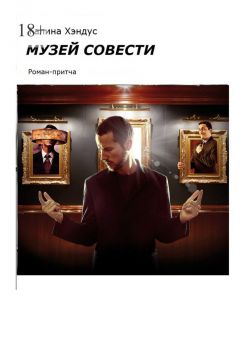
Автор книги: Галина Хэндус
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Три тарелки горячего супа.
Три тарелки жидкого счастья.
Это как «Золотая Кладовая» в Галерее драгоценностей Эрмитажа – непередаваемо и восхитительно! Если бы я только мог, то уже давно отдал бы все сокровища за тарелку супа! Все. Но хорошо, что это произошло сейчас. Сокровища остались целы, и есть я больше не могу. Двинуться – тоже. Меня окутало облако безмерного счастья. Я был сыт и свободен. И даже недоумение по поводу того, насколько мало нужно человеку для счастья, не посетило мою кружащуюся в хороводе лёгкого сытого опьянения голову.
Чувства, посетившие меня после обеда, во взрослом мире называются эйфорией. Для меня это обозначало полёт. Мне хотелось обнять земной шар тонкими руками, поднять вверх и играть с ним, как с мячом, подбрасывать и вновь ловить. Летать над ним, вокруг него, пока он в полёте. Мне казалось, что это он, наш земной шар, – маленький, а я – большой и мы с ним поменялись ролями. Я чувствовал в себе бурлящую силу, бушующую энергию, бесконечную радость.
Совсем не помню, как мы добрались до дома Николая Львовича – он пригласил меня в гости к себе на Садовую, а я с удовольствием принял приглашение.
Мы сидели в большой уютной комнате, он рассказывал о своей жизни.
Жена моего нового знакомого, Ольга Николаевна, умерла десять лет назад. В день своего пятидесятилетия она, пошатнувшись на пороге дома, упала и застыла. Инфаркт. Сердце не выдержало ежедневной борьбы за выживание, нехватки еды, зависти коллег. Она, как и муж, работала преподавателем. Только не рисования, а музыки. Чувствительное сердце хрупкой женщины не смогло ни понять, ни принять разящей пропасти между романтикой искусства и жестокой реальностью. Неожиданная, нелепая и трагическая смерть. Обычная – для нашего времени.
О себе Николай Львович говорил скупо. Ждал вопросов, которые у меня пока не накопились. Счастье и любопытство несовместимы. Впрочем, объяснения моего нового знакомого были так подробны, что основная информация отложилась у меня в голове достаточно ясно.
Николаю Львовичу исполнилось в этом году шестьдесят лет, он вышел на пенсию. Которой катастрофически не хватает даже на более или менее регулярное питание.
Поэтому он не без удовольствия, но, скорее, по нужде, подрабатывает частными уроками рисования. Ученики, хотя и приносят какой-никакой доход, – дело нерегулярное и хлопотное. Поэтому в свободное время, которого у него более чем достаточно, рисует картины.
И это у него неплохо получается в силу профессии.
Да и кое-каким талантом Бог не обидел. Вот картины и продаются.
Не часто и не много, но всё же. Капает – и то хорошо.
Тем и живёт.
Детей у них с Ольгой Николаевной не было. Жаль, конечно, но, видимо, так распорядилась судьба. Они мечтали усыновить ребёнка, но не подвернулось случая. То одно, то другое, да и работа – оба преподаватели, всё время в школе. Годы улетели, прошлого не вернёшь. Зато у него есть хорошая соседка Лариса Малышкина. Молодая женщина, очень отзывчивая и приветливая, что сегодня встретишь не часто. Помогает, когда он болеет: купит лекарства, приготовит, напоит чаем.
– Ну вот, пожалуй, и всё. Теперь ты можешь себе представить, кто я. А ежедневные мелочи и детали не столь уж важны. Так я думаю.
Наступила моя очередь откровенничать. Но что рассказать? Короткая жизнь беглеца уложилась в несколько предложений. Родители погибли, когда мне было шесть лет. Они даже не увидели, как я пошёл в первый класс. В восемьдесят девятом убили бабушку. Тогда мне только исполнилось четырнадцать. Я остался один, меня определили в детский дом, из которого я через неделю сбежал. С тех пор живу в Эрмитаже. Вернее, жил. И хотя жизнь эта совсем не проста, не жалею ни об одной прожитой секунде. Вот, собственно, всё.
– Как с тех пор? Неужели за два года тебя ни разу не поймали? Никогда бы не подумал, что даже в таком бесконечном огромном дворце, как Эрмитаж, можно прожить незамеченным два года. Чудеса! Ты просто какой-то невидимка!
– Два года? Не может быть! Какой сейчас год? Какой месяц? Неужели мне исполнилось шестнадцать лет? В сентябре у меня день рождения. Это я знаю точно…
Реальность быстро опустила меня с заоблачных высот, где я находился последние пару часов, резко и больно грохнула о землю. Два года добровольного заточения! И чудо – не быть пойманным. Два года жизни в параллельном мире без радости общения, без друзей, знакомых. Но теперь, после глотка свежего воздуха, у меня другие планы относительно дальнейшей жизни. Теперь я точно не вернусь в музей. Лучше уж на улице. Не хочу больше быть запертым в четырёх стенах. И даже если эти стены расписаны золотом, а под ногами – мрамор, старинный паркет и ковровые дорожки.
– Ах, как ты отстал от жизни, – сокрушался Николай Львович после короткого повествования. – Тебе непременно нужно наверстать эти годы. Непременно. Восстановить то, о чём ты забыл за бесконечно долгие недели и месяцы без людей, без информации, без учебы. Приобрести новые знания, необходимые сегодня. Но каким образом? Как же тебе помочь? Тебя обязательно заберут обратно в детский дом, если только узнают о твоём существовании. И оставят там до твоего совершеннолетия. Возможно, ещё дольше. И вряд ли чему толковому обучат и научат. Бедный мальчик! Горе, горе…
Николай Львович негромкими причитаниями напомнил мне бабушку, а я задумался над его словами. Ни за что я не согласился бы вновь попасть в ненавистный детский дом. Но и вернуться в Эрмитаж – тоже. Вдохнув за его стенами чистый воздух, свежий ветер, движение жизни, мне ни в коем случае не хотелось опять оказаться в золотой клетке. Загазованные улицы города стали мне сейчас намного милее и роднее.
Хотелось – жить.
Жить полной жизнью. Ступать без оглядки. Ходить по оживлённым улицам.
Бегать по парковым дорожкам. Разговаривать с кем угодно и о чём угодно.
Учиться новому, вспоминать подзабытое. Кричать во весь голос от радости наступившей свободы. Ловить взгляды других людей и прямо смотреть им в глаза…
Из мелькающих вразброд мыслей вывел меня голос нового знакомого:
– Не печалься, Антон. Выход есть всегда. Со своей стороны могу предложить единственное, что имею, – поделиться жильём. Места здесь для двоих достаточно, если чуть потесниться. Позднее придумаем что-нибудь другое. Как-нибудь устроимся. Если, конечно, захочешь здесь остаться. Это только твоё решение.
Хозяин просторной комнаты в тридцать квадратных метров обвёл рукой жилище. Посмотрел внимательно на меня. Быстро добавил, будто извиняясь:
– Кормёжка у меня немного получше, чем в Эрмитаже. Горячий ежедневный суп гарантирован. И чай с бубликами. К тому же я могу тебя кое-чему научить. Ты же понимаешь, как это важно для твоего будущего. Скажем соседям, что ты – мой родственник. У нас на площадке три квартиры, и люди хорошо знают и меня, и мою жизнь. Они могут, конечно, не поверить. Но лучше такая невинная ложь, нежели они узнают твою настоящую историю. За то, что я приютил у себя незнакомого подростка, меня могут обвинить в бог знает каких грехах. Нам обоим этого не надо. Люди бывают злы и завистливы, и – не на каждый роток накинешь платок. Подумай. Если согласен, завтра пойдём купим тебе одежду. И придумаем для соседей подробную легенду. А теперь я провожу тебя в ванную комнату. Нижнее бельё и рубашку возьмешь пока мои. Остальное – завтра. И даже если ты не захочешь остаться у меня, одежду всё равно получишь новую. Как небольшой подарок для новой жизни.
По мере того как Николай Львович знакомил меня со своими планами, сердце, захлопнувшееся в жёсткие створки новых страхов, начало постепенно оттаивать. Конечно, я согласен! Мне было всё равно, как меня назовут – сыном, дальним родственником, племянником… Главное – я смогу остаться здесь, в доме, с людьми. Могу учиться, разговаривать, выходить из дома и возвращаться, спрашивать и получать ответы, чувствовать если уж не любовь, то хотя бы внимание и заботу. Иного варианта на сегодня для меня не существовало.
Несмотря на лучезарное настроение, трудно было поверить в счастье, свалившееся на меня. За один только день я пережил столько положительных эмоций, сколько не переживал за последние два года. Взяв из рук моего благодетеля и полубога стопку с чистым бельем и полотенцем, я отправился в ванную комнату. Закрыл за собой дверь, разделся и сел в наполненную водой и душистой пеной ванну. И вдруг удивлённо замер. Оказывается, моё подросшее тело и скисшая от одиночества голова забыли не только слово «суп», но и слово «мыться». Из мыльной, приятно пахнущей воды отчётливо проступал неприятный резкий запах давно не мытого тела. Пена в ванне через минуту куда-то исчезла. Осела вниз грязными хлопьями.
Мыло! Как долго я не держал в руках большой, целый и новый кусок пахучего мыла. Не маленькие обмылки, лежащие в туалетных комнатах Эрмитажа, а настоящее белое мягкое мыло. Сразу вспомнились наша с бабушкой ухоженная квартира и моя чистая постель. Отголоски старой жизни волной поднялись к горлу, сжимая его клещами обиды, и мне стало стыдно за себя, сегодняшнего. За грязную воду, в которой сидел. За грязное тело.
Чтобы и дальше не раскваситься, пришлось быстро освободить слив ванны и выпустить из неё осевшую на дно грязь. Затем я наполнил её свежей горячей водой, в которую опять с удовольствием окунулся. Как, оказывается, приятно – быть чистым. Вспомнилось забытое чувство тела, лежащего в горячей воде. Забытое чувство мальчишеской детской радости от еженедельного купания в ванной. От одних только воспоминаний мне стало намного лучше. Я окунулся в своё прошлое, в забытое счастливое детство.
Мои мечтания были прерваны неожиданным стуком в дверь. Николай Львович спросил, всё ли со мной в порядке. Ведь я сижу в ванной уже больше часа.
Быстро пролетевшего времени я совсем не заметил. Оно исчезло, как исчезают в вечности несколько счастливых минут. Успокоив хозяина дома и немного поплескавшись напоследок, я обтерся мягким полотенцем, натянул чистое, приятно пахнущее бельё и вернулся в комнату.
После горячей ванны глаза слипались. Голова отказывалась думать о чём бы то ни было. Внутри разливалось тепло от ощущения вновь найденного дома. Чистоты. Сытости. Покоя и уюта. Пусть только на сегодня. На короткий миг. На завтра загадывать не буду, иначе вернётся боязнь будущего. Бояться мне совсем не хотелось, я мечтал о том, чтобы сегодня продолжалось вечно.
В комнате меня ждала застеленная свежим бельём узкая кушетка. Путаясь в длинных, сползающих вниз пижамных штанах хозяина комнаты, я не лёг, а радостно упал на жёсткую постель с настоящей простынёй, настоящими одеялом и подушкой. Как в прошлой жизни. Жизни с бабушкой Алиной. И эта постель показалась мне намного лучше и мягче царских кроватей Эрмитажа, где я частенько ночевал.
Не помню, как уснул, но проспал я долгих пятнадцать часов. Не просыпаясь, без сновидений и нервных тревожных вздрагиваний. Пятнадцать часов – на одном боку. Пятнадцать часов – вытянувшись во весь рост на свежей простыне. Пятнадцать счастливых и спокойных часов. Как раньше, в детстве.
Проснулся я от запаха свежего хлеба, который настырно лез в нос и щекотал ноздри. Полежал, купаясь в сладком, тревожащем душу запахе, подумал, что всё ещё сплю. Покачался с закрытыми глазами в грёзах, чтобы прогнать или переждать невольное видение, невольный соблазн. И только через долгие минуты сомнений и страха медленно открыл глаза. Сердце радостно ёкнуло – запах хлеба был настоящий. Не из сна. Из моей сегодняшней жизни. Значит, вчерашний день мне не приснился. Он – был! Со вчерашнего дня наступила новая жизнь. А сегодня она началась с солнечного утра и запаха еды.
Как хорошо быть дома!
Растрёпанный со сна, я сел на кушетке, свесил ноги и уставился на сидящего у стола хозяина комнаты. Он молчал и с улыбкой смотрел на меня. И вот:
– Доброе утро, Антон! Ты можешь привести себя в порядок и присоединиться ко мне. Завтрак давно готов. Я выпил только чашку чая – ждал, пока ты проснёшься.
Уговаривать меня не пришлось – запах еды и домашней обстановки кружили голову. Из ванной я появился через две минуты – этого времени хватило, чтобы ополоснуть лицо и натянуть старенькие спортивные штаны, выданные мне взамен моих, грязных. Зубы я чистить отвык, да и зубную щётку мне пока никто не предложил.
Завтракали мы с Николаем Львовичем по-царски: на столе стояли корзиночка с белым хлебом и тарелка с варёными яйцами. Масло в металлической мисочке и малиновое варенье в банке дразнили забытыми запахами. Это был лучший завтрак в моей жизни за последние два года. Пир для глаз и желудка. Я скрывал нетерпеливую дрожь в пальцах, когда брал еду. Старался есть медленно, но это получалось плохо – сказывались пережитые полуголодные годы.
– Ты не торопись, ешь помедленней и, главное, жуй хорошо, чтобы живот не заболел, – добро посмеивался Николай Львович, плохо скрывая за усмешкой жалость к изголодавшемуся подростку.
Запили мы это счастье целым литром чёрного обжигающего горячего чая. Из пакетиков. Чай, оказывается, намного вкуснее холодной воды из-под крана. Даже этот горячий вкус я почти забыл. Для меня возвращение в нормальную жизнь было сродни прилету с экзотической Луны на родную Землю. Как это неожиданно прекрасно – вернуться после долгого путешествия в прошлую размеренную жизнь. Знакомиться с ней вновь. Открывать старое-новое, забытое-найденное.
После завтрака мы пешком отправились в магазин одежды. Неприятно опять влезать в старую одежду, но другого выхода не было. Приходилось мириться с временным неудобством, которое, впрочем, особых волнений не доставляло – я чувствовал рядом человека, на которого можно положиться. Которому можно доверять.
Наше путешествие к магазину готовой одежды неожиданно прервалось – по пути мы завернули в парикмахерскую. Для меня длина волос не являлась чем-то из ряда вон выходящим – я всегда любил длинные волосы. Носят же девочки длинные волосы. И женщины. Так почему только они? Но Николай Львович имел другое мнение. Мне он просто сказал, что в моём положении нельзя сильно отличаться от других людей – жить спокойнее, когда не выделяешься из массы.
Он оказался прав – парикмахера от моей причёски взяла оторопь.
– Что ж тут удивляться: мальчик готовится к роли бродяжки. Роль в фильме не главная, но важная. Видите – у него и наряд соответствующий. И даже пахнет по-настоящему, как будто только что из-под моста сюда забрёл. Фильм выйдет – мы вас обязательно пригласим. Специально зайдём. А пока подстригите, пожалуйста, его волосы покороче – режиссёру такая длина не нравится. Зря отращивали. Немного преувеличили. Везде и во всём нужна мера. Вы же понимаете…
Как оказалось, у Николая Львовича был замечательный острый ум и добрый юмор. Парикмахер, недоверчиво окинув нас взглядом, вздохнул и взялся за ножницы.
Наш дальнейший путь от парикмахерской до магазина готовой одежды я прошагал, не уставая крутить головой по сторонам. Всё казалось новым, необычным, загадочным. Мир стремительно менялся, пока я был заперт в четырёх стенах Эрмитажа. Антоша Глебов за два года вырос. Но и мир вокруг него разительно изменился. Теперь мне, подросшему и повзрослевшему, нужно подстраиваться под него. Потому что мир ни под кого подстраиваться не будет. Он велик и силён. Бесконечен и вечен. Он собирает под своей крышей всех нас, живущих на земле. И каждый из нас решает – удобно ли ему под его крышей. Под его защитой. Мне – удобно! Альтернативы для меня не существовало.
Два года, что я жил среди музейных экспонатов и интересующейся искусством публики, сегодня дали о себе знать весьма отчётливо. Оглянувшись вокруг, я увидел, что даже внешний вид обычных петербуржцев очень изменился.
Какие-то новые цвета. Новые фасоны одежды. Спортивные шапочки.
Изменилась звучащая со всех сторон речь. Появились необычные, незнакомые мне слова и выражения. Изменилось то, на что я раньше никогда не обращал внимания – движение тел.
Мимика. Выражения лиц и глаз.
Многое казалось странным.
Одежда. Обувь. Аксессуары. Витрины. Заголовки. Названия.
Всё – другое. То, и не совсем то одновременно.
Родное и чужое. Знакомое и незнакомое. Притягивающее и отталкивающее.
Непонятное и загадочное. Миг – в минуте и минута – в миге.
Я был здесь, среди людей и бесконечно далеко от них. Закрытый в собственном мире. Переступить через его порог я пока не мог. Страх сделать что-то неправильно и тем самым выдать себя, удобно пристроился у меня на плече. При любом резком движении он то ударял меня тяжёлым ботинком в область сердца, то отвешивал подзатыльник так, что дёргалась голова. Сегодня он чувствовал себя намного комфортнее, чем я. Страх, как невидимый паразит, облепил мою кожу. Я знал, что он – мой враг, пытающийся затянуть всего меня в свой кокон. Облепить ненавистью и агрессией. Задушить липкими объятиями. Не дать поднять головы. Отобрать свободу дышать и двигаться. Я вовремя разгадал, что мне мешает насладиться вновь обретённой свободой, и с этим знанием чувствовал себя немного спокойнее. Но только – чуть-чуть.
Выйдя из магазина, одетый не в самое дорогое и красивое, но – новое и чистое, я почувствовал себя тоже принадлежащим сегодняшнему дню. По крайней мере, внешне.
Причёска – как у всех. Одежда – тоже. Моего размера, обычных тёмных тонов. Как у всех.
Это были отчётливые внешние проявления однородности. Внутренне же так быстро перестроиться оказалось намного сложнее. Этого я пока не мог.
Не знал, как.
Не знал, с чего начать.
Время. Только теперь я остро почувствовал его приход, его существование, его бег. Мне хотелось если уж не повернуть его вспять, то ненадолго остановить.
На несколько часов, недель, месяцев.
Притормозить. Прислушаться. Присмотреться. Попробовать на вкус. Цвет. Соответствие.
Я вступал в новую для меня, незнакомую жизнь, навстречу которой приготовился широко распахнуть объятия. Не один. С моим старшим другом, Учителем и Наставником.
Глава 8 Обманный лик смерти
Соседка Николая Львовича, тихая и приветливая Лариса Малышкина, поверила нашей тщательно составленной легенде о моём возникновении в их квартире и приняла меня таким, каков я есть. После долгих размышлений – и с моего согласия – мы объявили Антошу Глебова поздним внебрачным сыном Николая Львовича Кудрина. Случается и такое в жизни мужчин. Придумал это, конечно же, не я. Но версия о появлении сына настолько перекликалась с темой моей любимой картины о возвращении блудного сына, что я принял легенду чуть ли не с восторгом.
Соседка работала бухгалтером в какой-то частной фирме. Жила без мужа. Воспитывала двух девочек-школьниц, Свету и Настю. Нашей жизнью она почти не интересовалась: забот у работающей матери с двумя детьми было предостаточно, но по имени-отчеству к себе обращаться тотчас запретила.
– Не хватало ещё – по отчеству! Не такая уж я и старая, да и не твоя учительница. По имени общаться на общей кухне намного проще. Антон – Лариса.
Она стала меня называть по-взрослому, полным именем – Антон, скорее всего, из-за моего роста. При нашей разнице в возрасте в восемнадцать лет я был выше её ровно на голову.
Соседки уходили из дома рано утром. Лариса отводила девочек в садик и школу, расположенные рядом, всего за два квартала от дома, потом спешила на работу. Их уход для меня был всегда незаметным – я просыпался в восемь утра, к этому времени квартира пустела. И вновь наполнялась женскими голосами после шести. Лариса, забежав после работы за продуктами, забирала Свету из продлённой группы, Настю – из садика. Этот режим мне был прекрасно знаком – я так же, как старшая Света, ходил раньше в продлёнку. Бабушке Алине было спокойнее, если домашние задания я делал в школе под контролем учительницы.
Передо мной и Николаем Львовичем лежал целый день до вечера, который мы тратили с пользой. За первую же неделю пребывания вне стен Эрмитажа я узнал массу полезного о мире, в котором мне предстояло осваиваться. Узнал о готовящемся переименовании страны.
Странно, но факт: я родился в СССР – стране, которая почти умерла, а теперь мне предстояло жить в России, растворившейся более семидесяти лет назад в красном терроре и возрождающейся сегодня из пепла.
Меня потрясли невиданные и непонятные мне реформы. Скачущие, нестабильные цены, к которым я, собственно, не имел никакого отношения, потому что не держал в руках денег.
Меня шокировала информация о росте преступности и бродяжничества в моём городе, в моей стране. О повальной нищете. Недостатке еды. Агонии социалистического строя. Увядании культуры. Впервые я услышал незнакомое слово «олигарх». Непонятное слово «инфляция». Загадочные слова «пиар», «тренд» и другие, похожие на них чужеродностью, никак не укладывались в замороченной новой жизнью голове.
Николай Львович обрадовался моему согласию остаться у него. Уже на второй день совместного проживания он откровенно признался, почему сделал это. Почему захотел заботиться обо мне. Пригласил к себе домой. Взял ответственность за меня, совсем незнакомого ему человека.
– Тебе уже шестнадцать. Ты не ребёнок. Почти мужчина. Совсем не глуп. Многое понимаешь. И у тебя редкий талант художника – его я сразу увидел при нашей первой встрече в Эрмитаже. Ты сможешь рисовать намного лучше всех тех, кого я знаю. А знаю я многих. И талантливых, и не очень. Не думай слишком хорошо о моём поступке. Но и плохо не думай. Я самый обычный человек, и взял тебя к себе не только из-за твоего бедственного положения или таланта. Но еще и потому, что вдвоём выжить в наше переходное время намного проще. Я не пью. Не курю. У меня есть небольшая пенсия. Её недостаточно для жизни даже одному. Но я работаю. Пишу картины и продаю. Даю уроки рисования. А теперь хочу попробовать сделать из тебя настоящего большого художника. Мастера. Я хороший учитель. Ты – толковый ученик. Вместе у нас должно получиться. Помогая сегодня тебе встать на ноги и обрести хорошую профессию, я надеюсь, что завтра ты поможешь мне. Завтра, когда я состарюсь и не смогу работать. Вот я и подумал, что неплохо бы нам держаться вместе. Мы нужны друг другу. Тебе сейчас не просто понять мои мотивы. Попробуй просто поверить мне. Ты же видишь, что мир вокруг нас полон не только добра и света, но злобы и насилия. Не надейся, что в тревожное для страны время кто-то поможет тебе достичь гармонии в жизни. Это парадокс. Даже в стабильные времена всё нужно добывать самому.
Самому приводить окружающее тебя пространство в порядок.
Строить собственную жизнь.
Свой успех.
Своё будущее.
Своё счастье.
В этом случае помощь и поддержка всегда пригодятся.
– Вы, наверное, хорошо знали мою бабушку, Алину Михайловну Глебову?
– Нет. С чего ты взял?
– Она мне тоже говорила, что нужно всегда соблюдать порядок. В жизни. В душе. На письменном столе. Ещё она говорила, что люди за окнами нашего дома закутаны в коконы ненависти. Поэтому и жизнь такая хаотичная, злобная, беспорядочная.
– Она права, твоя бабушка. Но разве она не говорила тебе, что не все ходят с ненавистью в душе. У меня нет такого чувства. У нашей соседки Ларисы и её девочек – тоже. И у тебя с бабушкой совсем другая гармония жизни. Ты добр. Именно поэтому ты сейчас со мной, здесь, а не в детском доме или на улице. У нас с тобой всё получится. Абсолютно в этом уверен.
С его словами ко мне пришло чувство возвращения домой. Присутствия бабушки. Её тепла. Её мудрости.
Не согласиться с Николаем Львовичем я не мог. И пусть я не всё понял из его спокойных и мудрых слов, но обрадовался, что так сложилось. Мне хотелось как-то отблагодарить его за щедрость. Но единственное, на чём он настаивал, выполнить пока не сумел.
Он просил называть его папой или отцом – как мы оба решили, по нашей легенде, для конспирации. А я не мог переступить через себя. Даже для моей безопасности. Мне нужно было время привыкнуть к разом изменившейся жизни. Время созреть до непростого для подростка слова. Время для того, чтобы назвать чужого мужчину именем близкого человека, которого любил и буду всегда любить. Имя отца, который дал мне жизнь. И этого времени у меня было достаточно. Оно теперь текло вместе со мной, не убегая вперёд, но и не оставаясь позади.
Николай Львович оказался таким же замечательным учителем, каким была моя бабушка. У него доставало терпения объяснять мне любой неправильный штрих, движение, неверно положенную тень. Я нервничал, стараясь быстрее наверстать упущенное и вспомнить то, что когда-то учил, но за годы одиночества подрастерял. Мне казалось, мой учитель ждёт от меня быстрых успехов и сердится за то, что у меня не всё получается так, как бы ему хотелось.
А он, напротив, убеждал меня в обратном:
– Не торопись и не нервничай, сынок. Ты не на соревнованиях по бегу. Живопись требует не только талантливого видения, но и терпения, выдержки. Задержи дыхание, отойди от мольберта, посмотри на свою работу взглядом не художника, а придирчивого зрителя. Тогда быстрее увидишь то, что нужно для полноты и завершения картины. Быстрая мазня забудется через два дня. Я ожидаю, что ты будешь писать работы, достойные долгой жизни. Вот тогда я свою миссию посчитаю выполненной. У нас с тобой есть время и цель, к которой оба стремимся. Мы хорошо понимаем друг друга, а это в совместной работе – самое главное.
Ежедневные занятия живописью доставляли нам необычайную радость. Через несколько месяцев работы без праздников и выходных мне пришла в голову идея написать портрет бабушки. Хотелось чаще вспоминать о ней в моей новой домашней обстановке, видеть её лицо, а у меня не было даже её фотографии. Не осталось ни одной вещи из прошлой жизни. Как будто у меня не было ни дома, ни родителей, ни детства. Мне очень хотелось иметь какой-нибудь амулет, фото, картинку, напоминающие о том, что в моей жизни были родные люди, которые растили меня, любили, радовались вместе со мной. Мне так не хватало их любви.
– Не хочу тебя отговаривать и разочаровывать, но тебе ещё рано приступать к таким сложным работам, – остановил меня Учитель и Наставник. Эти имена для него я придумал сам, потому что они отражали истинную суть наших с ним отношений. Эти имена были данью моего глубокого уважения к Николаю Львовичу. – Мы попробуем сделать следующее. Через полтора года тебе исполняется восемнадцать. И ровно пять лет со дня смерти твоей бабушки. Давай соединим две даты. Одну радостную, другую печальную. Этим ты сделаешь большой подарок нам обоим. А к наброскам к портрету приступишь не раньше, чем через год. Пойми, сынок, тебе нужно не столько улучшить технику, сколько подрасти душой до большой серьёзной работы. Почувствовать краски жизни и смерти. Вникнуть в их суть. Окунуться в их непростую гармонию.
– Всегда думал, что жизнь – разноцветна. Но не знал, что у смерти тоже есть краски. Разве она не чёрного цвета?
– Милый мой мальчик! Жизнь и смерть – две стороны одного целого. Без жизни нет смерти. Своим рождением любое живущее на земле существо уже готовит себя к смерти. Через пятьдесят, семьдесят или сто двадцать лет. Приближаясь к закономерному концу, мы впитываем в себя за эти годы и узнаем все краски жизни. Когда твоя душа наполнится до краёв этой палитрой, смерть не покажется тебе чёрной, как видишь ты её сегодня. Потому что ты будешь знать, что за ней тоже есть жизнь. Смерть переливается в жизнь. А за жизнью вновь следует смерть. Это вечный круговорот… Нелегко понять, да?
Возможно, мое объяснение покажется тебе сумбурным. Как художник, ты знаешь, что цвет мы не видим, а ощущаем. Любой цвет при максимальном снижении яркости становится чёрным. Красный. Синий. Зелёный. Любой. У каждого из нас своё, чисто субъективное восприятие цвета. Но даже у самого зоркого человека при уменьшении света любой их этих основных цветов превратится в чёрный.
Люди сами окрашивают жизнь в разные цвета.
Похороны – в чёрный.
Свадьбы – в белый.
Победу – в красный.
В какой цвет захочешь ты расцветить свою жизнь – решаешь сам.
Мне трудно было не согласиться с Учителем. Возражений даже не возникло. Вопросов – тоже. Он был старше. Умнее. Опытнее. Достоин доверия. Все его аргументы я принимал безоговорочно и тотчас.
Мы ежедневно разговаривали о том, что происходит за стенами нашего жилища. Оба понимали, как необходимы мне эти разговоры. Для того чтобы лучше понять пока не очень понятную, а потому ещё чужую мне жизнь. Чтобы быстрее втянуться в её круговорот, обрасти её кожей, вжиться в неё, обрести её дыхание. И перестать вздрагивать, оглядываться, вжимать голову в плечи.
Даже спустя месяцы жизни вне стен Эрмитажа мне до конца не верилось в обретённую свободу, окружающее часто казалось сном. Новая реальность давила со всех сторон, вызывая подчас не радость, а недоумение, неуверенность. Выходить на улицу и гулять в одиночку я уже не так боялся, но откровенно опасался.
Страшился милиционеров.
Пугался часто мелькающих на улицах беспризорных мальчишек.
Робел от длинных агрессивных очередей около магазинов.
Сжимался от мчащихся или еле ползущих машин.
Отворачивался от крикливых женщин.
Убегал от плачущих детей.
Прятался от грозы.
Все эти угрозы внешнего мира вызывали у меня паническую дрожь и отторжение. Спокойным и уверенным чувствовал я себя только дома.
За мольбертом.
С образом рисунка в голове или моделью перед глазами.
С красками и кистью в руках…
Николай Львович попросил моего согласия называть меня Антоша. Из услышанных от меня скупых рассказов он знал, что так звала меня когда-то бабушка. Ему хотелось, чтобы я как можно быстрее смог врасти в новую для меня жизнь. Мне же, в свою очередь, было это понятно и – приятно.
К моему огромному удовольствию, Николай Львович преподавал мне не только рисунок, а, собственно, саму жизнь. Очень внимательно относящийся к любой мелочи, любому изменению настроения, он старался избавить меня от ненужных и напрасных волнений. Заметив моё явно боязливое отношение к миру за стенами квартиры, он открыл мне важную истину. Важнейшую. И потом время от времени о ней напоминал.
– Знаешь ли ты, Антоша, что страх рождается вместе с нами? Человек только появился на свет, а чувство страха у него уже есть. Малыш начинает кричать. Мочить пеленки. Вздрагивать, если над ним наклонилось чужое лицо. А отчего – не понимает по своей малости. Раньше, в животе у мамы, все было просто, понятно и никакой опасности. Здесь же, в новом мире – всё чужое. У младенца восприятие реальности происходит на рефлекторном уровне. Буквально с первого дня появления на свет, наши страхи начинают расти вместе с нами.
Растёт человек – растут его страхи.
Заставляют сторониться людей.
Всё чаще молчать.
Отворачиваться.
Не вмешиваться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































