Текст книги "Дочки, матери, птицы и острова (сборник)"
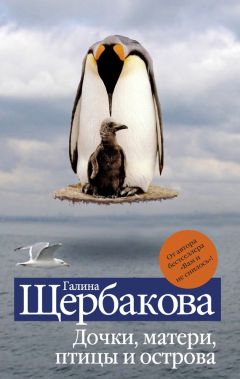
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Эмилия, или Благая весть от Ефима
«Добрый день, Анна, Николай и Михаил! Кажется, я наконец нашел, что искал. Я пошел поиском по леспромхозам, где работали заключенные. Господи! А где они не работали? В общем – следов никаких. Никто об ученом Домбровском слыхом не слыхивал. Такое у вас отечество, дорогие. Но я упрямый. Пошел искать любителей-краеведов, любителей-ботаников, любителей кладбищ. Вот уж чем вы, друзья мои, богаты, так это любознательными сумасшедшими. По каждой теме их миллион. Но опять же… Народ они неорганизованный, кучкуются не всегда, друг другу не доверяют. Одной человеческой жизни мало, чтобы на них только глазом глянуть. Я дал в газетах леспромхозных районов объявление (платное), что ищу любые следы ученого-ботаника Домбровского за деньги в валютном исполнении. Дал свой адрес. Из всех леспромхозов пришла информация, что он был именно там. Я усложнил задачу: „Ищу данные о смерти Домбровского“. Пошел новый селевой поток, пожиже первого, но все же. Зарезали урки. Застрелили вертухаи. Повесился на сосне. Умер от воспаления легких. Живет в такой-то деревне под Котласом. Последнее было занятно. И я поехал в деревню. Действительно, есть там древний дед Домбровский. И все остальное совпадает тоже. Имя, год рождения. Но он такой же Домбровский, как я Юлий Цезарь. Урка. Бежал. Заблудился. Нашел в лесу трупы убитых. Снял с одного более или менее целую одежку и пошел дальше. Поймали. Уже не как урку, а как Домбровского – по номеру на той самой одежке! Но ведь того расстреляли! За бузу на лесоповале. На месте ребят положили и бросили – зима, голодный зверь съест человеческое мертвое тело. Пока с уркой разбирались, началась финская. И уже тогда начинались инициативные, самопальные штрафбаты – посылали первыми по болотам, по минам заключенных, которых там как грязи. Ну, и попал туда лже-Домбровский. Войну всю прошел. Выправили ему документы по учетной карточке. Так и живет до сих пор. „Какая разница, – говорил старик, – с какой фамилией помирать? Правда, тут у меня вышла стыдная вещь. Дочь его меня нашла. Кинулась на грудь: „Папочка! Папочка! Я Эмилия! Я Эмилия!““»
Я замираю на этих словах. Откуда я знаю этот призыв вспомнить и признать? Сигнал ведь из моей жизни. У меня такое было. Мне ли удивляться перекрестьям?
Я уже была замужем, Мишку собирала в школу. Девяносто второй год – цены запредельные. По талону покупала школьную форму. Фломастеры – в туалете «Детского мира». Набегалась, как гончая собака. Звонок в дверь. Старик в опорках. Я одной рукой придерживаю дверь, а другой роюсь в кармане куртки, где должны быть мелкие деньги. Мне стыдно сразу за все. За собственные поиски мелочи, за него, как дошел до жизни такой, за эту страну, которую, как и время, не выбирают для жизни и смерти. И тут слышу: «Доча, доча. Это я, папа».
Значит, это он поощрял меня учиться, гладя по голове? А я уже знала, что он уходит, видела опрокинутое мамино лицо. Его лица в тот миг я не помню. Помню остро, как час тому назад гул «Детского мира», другое.
Я маленькая, уписанная, стою на крыльце, оно огромное (три ступени), а внизу на низких чурбачках сидят мама, бабушка, еще кто-то и красивый, в косоворотке мужчина. Я тяну к нему руки. И он хватает меня легко, нежно, мокрую после сна девчонку и поднимает вверх, но мне не страшно, мне радостно, потому что нельзя бояться на его руках – он папа.
– Ты не можешь этого помнить, – говорит моя мама, – тебе было три года. Ты еще писалась в штаны.
Я не сопротивляюсь. Я соглашаюсь, что мне это приснилось. Иначе я должна маме сказать о своем восторге от папиных рук, о колотящемся от любви сердце. Три года – это хороший возраст для будущих воспоминаний.
И я распахиваю дверь. Нет, в этом нечистом старике нет даже крупицы от молодого и сильного красавца. Хотя сколько ему лет? Не больше шестидесяти. Но что я знаю о скорости его жизни? Ничего. Он виновато сидит в кухне. Не хочет есть – не голоден. Во мне кончилась трехлетняя девочка, и я уже вся киплю: зачем пришел, как смел?
– Мама умерла, – говорю я.
– Знаю. Я был в Калязине. Там мне и дали твой адрес. Я сидел. За растрату.
– Прямо оттуда? – спрашиваю я.
– Через Калязин. Захотел на тебя посмотреть. Еду в Липецк. Там у меня была семья.
– Сколько ты сидел?
– Десять. Полный срок. Как особо опасный.
– Сейчас я поищу тебе одежду и обувь, – говорю я. – Нельзя в семью возвращаться в таком виде.
В дверь звонит Мишка.
– Это мой сын, – говорю я, – идет в первый класс.
Мальчик осторожно смотрит на нищего старика.
– Иди к себе, – говорю я ему. Он уходит испуганно и растерянно.
Я выношу брюки, пиджак, водолазку и полуботинки:
– Примерь в ванной.
Пока он там возится, я объясняю Мишке, что этот старик – старый знакомый моей мамы. Попал в переплет.
– Это как? – спрашивает сын.
– Ну, значит, попал в очень неприятную ситуацию. Сейчас он переоденется и уйдет.
Отец выходит из ванной и выглядит еще хуже, чем было. Несовпадение вещей и человека. Все ему велико, все на нем болтается. Подошла только обувь.
– Ужас, – говорю я. – Но хотя бы чисто.
Он просит веревку, чтобы подтянуть и подвязать брюки, я даю ремень. Водолазка скрывает неприличные гармошки вокруг талии. Вместо пиджака я отдаю ему свою вязаную кофту на пуговицах. Она впору, а то, что пуговицы не на той стороне, так это, как я понимаю, ему без разницы. Говорить нам не о чем, есть он отказывается. Я сую ему пятьдесят рублей.
Все! Почти через сорок лет встреча не может быть другой. А через шестьдесят с хвостиком у Эмилии?.. Изначально другой сюжет. Другое прошлое.
Оказывается, я исчезла на несколько минут. Опять я в мутной реке времени, и рыбы влажными губами покусывают мне тело. Тюрьма русскому человеку кровница, говорят бесшумные рыбы. Вот в космос взлетели, в Интернет шагнули, в Евросоюз стучим ногой, а она так и стоит с разинутой пастью, кровница, ждет для заглота живых людей. И на тебе, на, возьми очередную порцию, родная ты наша, без тебя мы уже и не Россией будем, а чем-то другим. А нам быть другими нельзя. Мы есть великий русский народ. Бойся нас, Земля, бойся.
Я всплываю тихо. Вижу перед собой письмо и даже слышу голос человека, его писавшего. Он принес мне деньги за сына, а я не убила его топором. Почему я этого не сделала? Тюрьма ведь ждет-поджидает. До меня начинает доходить звук его слов.
«…Я спросил убогого уголовника Домбровского, не знает ли он, куда делась Эмилия. „Сторожиха на нашем кладбище. Я к ней хожу. Она мной не гребует. Чаем угощает“.
Меня тоже угостила. Тебе, Анна, от нее привет. Она помнит тебя, как удлиняла тебе кровать, а спинку отдала пионерам на металлолом. Ах, какая деталь! У нее сторожка теплая, на фундаменте. Дров завались. При сторожке огородик, что-то на нем вырастает. Платят ей какие-то смешные деньги, но добавляют люди за присмотр могил. Я оставил ей денег. Не хотела брать, но за то, чтоб я написал книгу об ее отце, взяла. Она хорошо выглядит для своих шестидесяти восьми. Воздух, лес, тишина. Я не знаю ее молодой, но сейчас в ней видна порода. Ты замечала?»
…Один раз – когда она распустила волосы, но тут же собрала их в пучок. Метле и лопате тоже ведь надо соответствовать. Все мы люди места и времени.
Письмо будто улавливает мои мысли:
«Я желаю вам, чтобы ваш сын не носил как кожу русские комплексы и заморочки. Жить надо гордо, не оглядываясь, что скажут другие. Другие в России всегда говорят о тебе гадости.
Эмилия живет через дорогу от церквушки. Но дорогу эту никогда не переходит. Они с попом, так сказать, идеологические враги. Ты знала, что она неверующая фанатичка?»
…Откуда? – думаю. – Мы с ней говорили о простом. О каше, которая подгорает, как за нею ни следи. О том, что рейтузы рвутся в самом деликатном месте, и уже штопка на штопке. О том, что люди стали совсем без понятия и выбрасывают мусор, не доходя до контейнера. Что звери лучше людей. Но у нее самой никогда не было ни кошек, ни собак. Хотя уличных она прикармливала.
«…У меня с ней разночтений о Боге нету. Я ведь, ты знаешь, поклоны никогда не бил. Но у нее такая точка зрения:
– Есть только Бог мертвых. А Бога живых нет. Столько убиенных, столько погубленных. Значит, Бог мертвых сильнее, и он правит миром. И еще, я думаю, мертвым и там больно и страшно, и одиноко. Никакого рая нет.
Я подумал, слушая, что и как она бормочет: не по плечу была ей тайна рождения. Она вполне сторожиха, а прошлое – чужое и лишнее – мешает ей доживать свой век в согласии с собой. Это как маленький рост не дает тебе дотянуться до высокой полки. Тщишься, тщишься… А может, я зануда. Искал нечто, а нашел ничто. Тень. Но об этом будет интересно писать.
С этими странными мыслями я и покинул Эмилию. Еду сразу в Германию. Туда теща должна привезти жену. Я очень хочу поспеть к родам. Я должен видеть рождение человека. В Россию вернусь с книгой „Россия по имени Эмилия“. Надеюсь, что вашему сыну я смогу быть полезен. Я всегда к вашим услугам.
Ефим Штеккер.
P.S. Чуть не забыл! У лже-Домбровского есть дети. Они уже как бы и не лже, а просто Домбровские, ибо не повинны в грехе отца. Сын – тоже урка, или – интеллигентно – вор в законе, сидит давно и надолго. Дочь всю советскую власть поднимала химию, сейчас инвалид первой группы. Лысая и полуслепая. „Я супротив нее – ого-го. Она совсем рухлядь“, – говорит тот, который лже-. И в голосе его что-то вроде гордости за свое „ого-го“. Есть где-то и внуки. Колосится род краденой фамилии. Матушка Россия по-разному, не всегда изобретательно, а чаще бездарно, заметает следы своих преступлений. Когда-нибудь из Домбровских останется только это семя. Каково? Это я к слову и к размышлению.
Ваш Штеккер».
В моем конце мое начало
Мы дали письмо почитать Мишке.
– Очень интересно, – сказал он, – как роман. Но боюсь, что роман неправильный. Домбровский был глубоко верующим человеком. Он считал, веровал, что все от Бога: земля, леса, поля, реки, цветы, птицы, кузнечики. Потому-то так все и дивно! А то, что в человеческом хозяйстве бардак, так это выбор человека, которому Он дал это право. А каждый выбирает по себе. И если мы живем скверно, это значит, что скверна в нас.
Мы с Николаем держали друг друга за руки и молчали. Я не знала, что сказать, а Николай не говорил, потому что его правда о людях была еще страшнее.
Миша в одиннадцатом классе выиграл международную биологическую олимпиаду, и ему предложили грант – учиться в Америке или Англии. Надо сказать, он растерялся. Не сговариваясь, мы с отцом сказали – поезжай.
– А как же вы? – спросил он тихо.
– Но нас же двое! Не пропадем.
Он выбрал Англию. «Все-таки, – сказал, – на одном куске суши».
– Ну, нет, – засмеялся Николай, – между нами целый пролив.
– Тоже мне пролив, – ответил Миша, – захочу и перепрыгну.
Теперь он учится в Англии. «Коркунов» лежит на антресолях. Валюшка благополучно родила сына. Назвали Давидом. Приезжали всей семьей в Россию. Мы были в гостях. Ефим сказал, что заканчивает роман, в нем ни капли вранья.
– С Богом разобрался? – спросила я.
– Со своим давно. Я не вижу его, он не видит меня. Мы не мешаем друг другу. Я пишу о том, как вы, русские, не можете с ним разобраться. И вечно поминаете всуе.
– Ну, и Бог с ним! – сказала Елена, поднимая рюмку. – Давайте лучше выпьем за маленького Давида.
– И большого Михаила, – добавил Ефим.
И мы сомкнули рюмки.
Он провожал нас к лифту.
– Может, заедешь за «Коркуновым»? – спросила я.
Он не сразу понял, а когда понял, засмеялся, но сказал очень серьезно:
– Друзья мои! Еще не вечер и не конец игры. Как это у Салтыкова-Щедрина или у кого-то еще… Будем годить… Годить будем…
Двери лифта сомкнулись, и боль, слегка взвизгнув, успела за нами. Я чувствовала, как она по-хозяйски располагается во мне, в привычном для нее обиталище. Прошлое не прошло. Оно не прошлое. Оно цветет и плодоносит. Если бы знать, чем. Если бы… Незнание – боль. Боль – часть жизни. Ее большая часть.
Лифт идет сквозь время.
С третьего этажа нам машут в окошко. Из подвала-магазина выходят люди с яркими коробками. Во дворе – никаких следов прошлого. Ни-ка-ких. Зачем тогда оно мне? Ну, скажите – зачем?! Лучший мужчина на земле держит мой локоть. Разве это не самое главное? Самое, самое… – кричу я себе. И почти в это верю…
Чему быть, того не миновать. Что будет, тому и быть. Не дрейфь, трусиха! Вчера и завтра – просто обстоятельства времени. Они даже не главные члены предложения. Главные – ты и он. И сын. Порадуйся, женщина по имени Анна!..
Рассказы
Бабушка и Сталин
Где поп, где приход… Но ничего не поделаешь… Покойница пришла утром к чаю. «Черт-те про кого пишешь, – сказала она мне, – а я тебе никто?»
Она мне кто. Она мне все. Но почему, господи, ты понимаешь это потом, когда уже свои внуки выделывают такие фортели, что, как говорила бабушка, на голову не наденешь?
Начнем с фортелей. Накануне моя внучка закинула чепец за мельницу. В три часа ночи ее папе позвонили снизу ее, внучкиной, квартиры и сказали, что там, наверху, то ли домового хоронят, то ли ведьму замуж выдают. Измученный отец – днем он отвозил своего отца в больницу – позвонил дочери. Та долго не подходила к телефону, а когда наконец взяла трубку, то, не дожидаясь слов, сказала, что у нее тишайшая тишина, а сосед снизу – сумасшедший дурак.
Ну, не стала бы я про это говорить – такое у нас через раз. Но я с этим не могла уснуть, а утром на другой день к чаю пришла бабушка. Ну, где эти пирсинговые, двух-, трехцветные поклонники Мэнсона и где бабушка? А вот сошлись они во мне. И взбутетенили.
Бабушка моя была слегка пьющая и весьма курящая. Она не предавалась пороку открыто и громко, она понимала грех и стыдилась его. Бутылочка с красным или белым перепрятывалась так, что ни дедушка, ни мама, ни я с моими зоркими глазами найти ее не могли. Она прикладывалась к ней, чтоб сделать два, ну три глотка. После этого она открыто для всех брала папиросу, но курила странно, становясь в любое узкое пространство, главное, чтобы в него помещалась спина. Я шла ее искать и находила по струйке дыма, который шел или из стыка сарая угольного и сарая дровяного, или из излома давно треснувшей от молнии толстой липы, или между створками дверей кухни и кладовки.
Она смотрела на меня одновременно насмешливо и грустно. Она понимала мои детские страхи, но одновременно смеялась над малостью их. Она как бы знала о всех моих будущих ночных бдениях, о внучке, которой сам черт не брат, и о всяких моих печалях, идущих потом шаг в шаг по всей жизни.
Моя кроватка стояла в их с дедушкой спальне, и я слышала их ночные разговоры. Не буду напридумывать, хотя очень хочется; девочка, ночь, два старика в постели, скребется мышь, светится щель под дверью, это мама-чтица читает допоздна.
– Ну, и как ты думаешь? – спрашивает бабушка.
– Я не думаю. Спи! Чему быть, того не миновать.
Вот это «чему быть» вбито в мою башку с тех самых пор. И всю жизнь я строю жизнь поперек этой мысли – хочу перехитрить дедушкину мудрость. Но ничто меня не минуло. Ничто! А сопротивление против неизвестного во мне – бабушкино. Дедушка умел стать к тому, что неминуемо, как-то боком, не поперек волне, а вдоль нее. Бабушка же встречала его с молотком и била по голове, неминуемое ярилось, тогда она брала топор или вилы, и оно уже с полным правом шло по ней ногами.
Много раз я видела, как стоят двое с коромыслами на плечах, хохочут, а потом та, что не бабушка, резко плеснув ведрами, срывается с места, как клюнутая в зад, и исчезает. А бабушка величаво доносит ведра до дому, до хаты. Это значило: неминуемое дошло до той, что сорвалась с коромыслом с места.
Победу в войне она отмечала в разломе липы тоненькой песней «Виють витры, виють буйни». Мое музыкальное образование на этом начиналось и кончалось, хотя в дом еще до войны внесли пианино, и оно затаранило нашу крохотную столовую. «Инструмент» – так называли пианино – был, так сказать, символом, как бы теперь сказали, стабильности. Внучка, то бишь я, будет на нем учиться музыке. По бабушкиной логике, человек, играющий на пианино, был как бы уже защищен небесами. Ха! Дядька играл на пианино и скрипке – отсидел полжизни. Мой родной отец, абсолютно музыкальный человек, всю жизнь бегал, как заяц, по стране от догоняющей его власти. Немузыкальным в семье повезло куда больше.
Пианино я не овладела. Конечно, тут можно сказать, что моя первая учительница музыки этим делом занималась по нахальству. Но будем честны: я была плохой материал. Но это уже другая история, хотя нет, как тут не сказать, что наша квартира с «инструментом» (единственным на ближайших улицах) была помечена на двери особым кружочком, и на постой к нам определили немецкого офицера. Он оказался художником, и первое, что сделал, – нарисовал тонкошеего ребенка-птицу с огромными вылупленными глазами, прикушенной губой и чубчиком на лбу. То бишь меня.
– Шо це таке? – возмутилась бабушка. – Наша дытына така хорошенька, а це чорти шо…
И она объявила свою внутреннюю войну всем немцам. И я уже ни на грамм не сомневалась: им несдобровать. Так и было. Сначала под Москвой, потом под Сталинградом, но я до сих пор уверена: поражение их началось на нашем дворе презрением бабушки к их, так сказать, потенциалу.
За неделю до войны мы были с ней в Москве у моей тети Иры, которая жила там и работала. Нас набилось не счесть в комнатке на пятом этаже на Каляевской. Сводная сестра бабушки Лиза – хозяйка комнаты. Ее сын Жорка оканчивал школу и проходил мимо меня, только что окончившей первый класс, как мимо веника. На сельскохозяйственную выставку приехала еще одна сводная сестра, бабушка Шура, сестры не виделись много лет, но, по-моему, не обрадовались друг другу и говорили между собой отрывисто:
– Кофе с молоком?
– Нет!
– Чай?
– Нет!
– А у меня нет ничего другого.
– Я сыта. Спасибо.
Моя тетя Ира снимала угол у своей тетки Лизы. Не одна, с молоденьким мужем Костей. Мне он казался таким красивым, что где-то внутри меня начинался холод, очень сладкий холод, резко переходящий в огонь. Я запомнила это ощущение, оно мне понравилось.
Была там еще приехавшая к Лизе ее мать, вторая жена бабушкиного отца. Когда его раскулачивали, она как-то исхитрилась бежать с дочками. Чего бабушка ей не простила. Кажется, ее звали Дуська. Как мы спали на этих квадратах?.. Но проблемой это не было. Проблемой был туалет. Лизина комнатка была первой в длиннющем коридоре коммуналки. В самом его конце были кухня и туалет. От нас они были как на краю света.
Лиза договорилась с соседями, что Жорик и Костя будут спать на полу в коридоре, потому как мужчины, и больше негде. Матрац загородил путь в длинный коридор, ведущий в туалет. Потому для оставшихся на ночь было выставлено ведро, прикрытое клеенкой.
Я слушала, как журчала наша комната. Бабушки и тетя Ира делали это очень деликатно, как бы между прочим. Баба Дуся мощно и радостно била струей в стенку ведра, получалось, как сильный дождь по крыше. Не пьющая, не едящая Шура вообще не вставала, как и хозяйка. Утром она будила мужчин и выносила ведро до того, как в туалет выстраивалась очередь.
Накануне нашего отъезда бабушка ночью сказала моей тете:
– Чем так жить… Кидай к чертовой матери эту Москву. Мы у себя живем чище.
– Ч-ч-ч-ч! – шептала тетя Ира. – Это временные проблемы.
– Я слышу это от тебя уже три года.
– Ч-ч-ч-ч! – отвечает тетка.
Московская история тут не по делу и даже как бы вопреки. Потому как в споре, где чище и лучше, бабушка потерпела крах. Молодая специалистка Ира была зорче и проницательней. Она перетерпела ведро и прочие казусы. У нее все стало о’кей. И отдельная квартира в центре, и машина к подъезду. Бабушка, слава богу, это успела увидеть и сполна насладиться успехами дочери.
Но она успела и ярко рассказать всем про то, как в Москве писают и сколько стоят в очереди «на посрать».
Пока мы ночью ехали домой, немцы уже отбомбили Киев.
Дальше пошла другая жизнь. Срочно уезжало начальство. Махонький наш городок просто встал от этого на дыбы. Бегство власти было посильнее немецкого наступления. Райкомовские жены мотались по городу в бигудях, собирая у тех, кто рожей не вышел для эвакуации, чемоданы. Одна такая примчалась к нам. Вы же помните, что у нас уже стоял «инструмент», и по одному этому чемодан у нас просто должен был быть. Большой такой, деревянный, с замочками.
– Ой! Ой! Ой! – сказала бабушка. – Откуда у нас чемоданы? Мы ж по курортам не ездим…
– Так вы ж тока-тока из Москвы. Я видела его своими глазами. Вы ж мимо нас ехали на бричке.
– Так он же сломался, – сказала бабушка. – Просто раз – и крышка отвалилась.
– Вы жадная, Николаевна, это все говорят. А время-то какое! Война! Надо помогать друг другу!
– Да что вы говорите? – смеялась ей в лицо бабушка. – Война! Надо же! То-то я смотрю, вас тут как подожгли. И на кого ж вы нас оставляете? – Бабушка слегка подвыла последние слова.
Но дама уже ломилась в соседний дом.
Потом все стихло. Кому надо – уехали. Кому надо – остались. Немцы еще только идут. Но где они, мы не в курсе. Приемники у нас забрали сразу, в начале войны. А время уже шло к осени.
Перед самыми немцами случилась запавшая в душу история. Бабушка прячет маму на чердаке, когда во двор приходит женщина «бить морду» маме. Разведенка мама жила, как я понимала по мере взросления, лихо, поэтому место на чердаке было вполне для нее справедливым. Как справедлив был и гнев оскорбленной жены, что сидит на нашем чурбачке и плачет в крепдешиновую косынку. Бабушка же, спрятав под фартуком руки, говорит ей:
– Да что вы взяли в свою голову, женщина? Зачем моей Вале ваш кобель? Сложите два и два: она и он. Красивая женщина в соку и мужчина, с которым бы даже я, немолодая, на одном гектаре не села бы… А уж такие всякие амуры – это ж какую надо иметь фантазию? Вы, дама, просто Лев Толстой. Люди, говорите, видели? А какие люди? Какие теперь люди вообще? Вы, женщина, не видели людей, вы их уже не застали. А эти, которые такое говорят, шваль. Да будь моя дочь дома, она бы плюнула вам в глаза, я бы даже не успела ее остановить. Но ее, извиняйте, пани, нема. Вона пойихала в деревню, до моей сестры. Та вы йи довжны знать, курдюмовская Ганна. Вона вам тоже плюнула бы в очи.
Мы все знали – переход бабушки с русского на суржик был признаком перемены состояния. У нее были два языка и две формы существования. Русский для женщины, окончившей церковно-приходскую школу и прочитавшей «Анну Каренину». Суржик же означал, что перед вами гарна хохлушка, ничего не кончавшая, но ей это и не надо, потому как черт ей не брат. А «Вий» Гоголя она и без образования знает почти наизусть.
Вернемся к той, что плачет в крепдешиновую косынку, а я качаюсь на качелях, будто мне это неинтересно. Ее выпроваживают учтиво и жалостливо. Следующий за тем поступок меня взмывает вверх, хотя он абсолютно в стиле гарной хохлушки из «Вия». Бабушка ударом ноги сбивает с места лестницу, что ведет на чердак:
– Ты там будэш жыты! Там тэпэр твое мисто!
Испуганная мама согнувшись стоит в чердачной дверце. Лестница лежит на земле. От удара бабушкиной ногой из нее выпали две перекладины. Бабушка же как ни в чем не бывало идет на кухню. Мама смотрит на меня, как на последнюю надежду. Откуда ей знать мои детские мысли? А они у меня путаные. Я хочу спасти маму, но бабушка в моей жизни важнее. Я сто раз могу ослушаться маму, но никогда бабушку, ибо она дом, еда, сказка и ласка.
И все-таки я пыжусь поднять лестницу. Куда мне!
– Будешь сидеть, пока не придет отец! – кричит бабушка матери. – Может, он тебе другое место определит!
У нашей соседки уже скрипнула форточка (так у нас называли калитку), и она смотрит в наш двор.
– Сломалась лестница, а на чердаке Валька, – говорит ей бабушка. – Придет дед, починит, Валька и спустится.
– Я хочу в уборную, – говорит мама.
– Потерпишь.
– Может, возьмете нашу лестницу? – елейно предлагает соседка.
– Ой, спасибо, не надо! Не сдохнем мы без вашей лестницы. Потерпим.
Соседка исчезает. Она больше не выйдет. «Спасибо, не надо» – это же в переводе «Не пошла бы ты к черту», а значит, лучше исчезнуть самой.
– И зачем тебе это кобель сдался? – снизу спрашивает бабушка маму.
– Да не сдался он, не сдался! Приставал сволочь – да, так они все такие…
– Ну, посиди там, подумай, – отвечает бабушка.
Но мама прыгает вниз и растягивает лодыжку. И бабушка бежит через весь город к еврейскому врачу, который еще не знает, что его бросят в шурф просто через два месяца. Его и семью не взяли в райкомовский эшелон эвакуации. Он приходит к нам и делает маме тугую повязку со словами, что «эти ноги еще возьмут свое». Они обсуждают с бабушкой приход немцев.
– Жаль внуков, – говорит врач. – Я слышал, они не щадят никого.
– Ну, они ведь враги, – отвечает бабушка. – А наша власть, она вас пощадила? Ваш лучший ученик Ленина Сталин дал вам место в поезде?
– Это, мадам, уже другая история, – отвечает врач. – Давайте мух отделим от котлет.
– Не буду, – упрямится бабушка. – Спросите у меня, боюсь я немцев или нет? Нет! У меня некого убивать, понимаете? Всех уже убили.
– Не говорите такого при ребенке.
– Пусть только попробуют тронуть ребенка.
Теперь понимаете? Они тронули меня, нарисовав не красавицу и умницу, а тощего вороненка с голодными глазами. Нарисовали – и все у них кончилось. Вся их дурья сила.
Однажды ночью бабушка отвезла внуков доктора на свой «фамильный» хутор, на котором был раскулачен и убит ее отец и старшие братья. У нее там были свои люди, и они таки сохранили внуков доктора. Теперь они живут в Израиле и отмечают каждый день рождения моей бабушки. Был даже момент, когда я напрочь этот день забыла, а они мне напомнили. И мне было стыдно, как никогда в жизни.
Удивительным было то, что в школу, открытую немцами, бабушка меня не отдала, а мама очень хотела.
– Арифметика и география, – говорила мама, – одинаковы при любой власти.
– Не надо ребенка перекручивать. Она живая. Эти немецкие школы кончатся через полгода, ну, через год. А что-то не то в головенку ей бросят.
Я плакала. Я хотела во второй класс. Бабушка не сдалась и сама проходила со мной учебники. Я соображала плохо. Не давалось, к примеру, склонение.
– Что тут трудного? – кричала бабушка. – Ты же говоришь абсолютно по правилам.
Тогда-то я и усвоила: правило в нас сидит изначально, независимо от книг. Просто трудно знаемое обозначить специальными словами. Они бывают очень противными. Творительный, предложный, дательный – такая гадость!
Потом радостно вернулась советская власть, и нас на другой же день выгнали с квартиры. Слезам моим не было предела. Я уже несколько лет с косточки растила в нашем дворе «абрикоску». Деревце было мне уже по колено, и я любила его с какой-то материнской силой, дрожала за него.
Власть райкома вернулась в усиленном составе, так как бывшие оккупированные территории считались местом трудным для партийной работы. И ей, работе, нужны были квартиры. Наши опрятные домики – пять штук – были очень кстати. Нас выперли из нашего кооперативного дома, за который дедушка давно выплатил все, в двадцать четыре часа. Дедушка, бабушка, мама с новым мужем и маленьким братиком и я были выселены в одну комнату квартиры на выселках. Две другие комнаты занимали красивые, статные люди, присланные на восстановление шахт из Винницы. Вот когда я поняла красоту истинной мовы, гортанной, певучей, с сочными согласными и распевными гласными.
Так мы все и жили, вырванные с корнями с насиженных мест. Нашей семье еще было хорошо. Двум семьям из других домов вообще ничего не дали. И люди жили в чужих сараях.
Бабушка разговаривала с винницкой красавицей украинкой Марылей, трогала ее длинные, черные как смоль косы и причитала:
– Детонька моя!
И поила ее козьим молоком.
Коза же была уже обречена. У нас ведь не было двора, не было и выпаса. Беднягу привязывали к огромным столбам электролинии, травы там было чуть, и коза доживала свою обреченную старость. А мне было жалко абрикоску. Я хотела ее навестить, но боялась дороги. Надо было пройти балку, два железнодорожных переезда, стадион и так называемый парк с разбитым Дворцом культуры. Его развалили наши, как электростанцию и некоторые шахты, еще до прихода немцев, чтоб ничего не досталось врагу. Дворец взрывали долго, он не поддавался. В конце концов он рухнул, завалив все насаждения, что вокруг, то же было и с электростанцией. Эти места разрухи считались очень опасными.
Но однажды бабушка сказала: «Пойдем к Чумачке». Тетя Лена Чумачка приняла на постой после выселения наш «инструмент». И мы пошли через весь этот «стыд и срам». В крохотном саманном домике наш «инструмент» выглядел как слон в посудной лавке. Он был нелеп, смущен и обескуражен. Тетя Лена была портниха-надомница. Она умела делать клеш, и шестиклинку, и рукава-фонарики. Но главным ее делом были корсеты из парусины, она их прострачивала так, что не то что лишнего нельзя было съесть, лишнего было не вдохнуть.
Мы еще не вошли во двор, а она уже кричала:
– Приходили тут… Спрашивали, чем мы занимались при немцах!
– И что ты сказала?
– А то и сказала! Они ответили, что никаких фактов нет.
– Ну, гадюки! – ответила бабушка.
А дело было насколько простое, настолько и неразрешимое. С результатом этого дела я ездила поступать в университет и поступила. Это была полстраничная справка, что моя мама была членом партизанского отряда имени Щорса. Смешно сказать, но я хорошо знала это отряд. Трое дядек, мой отчим, мама и эта самая тетя Лена. Я не сразу поняла, чем они занимаются, но когда они приходили к нам, то садились за стол, на который стелилась скатерть и ставилась водка. А из-под стопки постельного белья доставалась баночка шпрот и ставилась посередине. Я так и не знаю, съели ли их все-таки или нет. Баночку потом, после ухода людей, убирали, как и водку. Дедушка в это время ходил по улице, постукивая палочкой, и на голове его была белая фуражка.
А бабушка на крыльце подшивала бесконечный подол бесконечной юбки. Мое место было на качелях.
Мама моя была диверсантка. Она вбивала в шоссе, ведущее на фронт, как потом выяснилось, к Сталинграду, штыри (или как их еще называют?) и этим останавливала поток машин. Ходили они вместе с тетей Леной Чумачкой, у которой после войны жил наш «инструмент». Та стояла на шухере. Что делали другие щорсовцы, я понятия не имею. Но, говорят, были всякие листовки и подрывы немцев в уборных.
Так вот, поход «посмотреть инструмент» ознаменовался знанием того, что райком нового разлива отряд имени Щорса не признает, а факты диверсий приписывает себе. Будто бы коммунисты никуда не уезжали, а прятались в шахтах и били немцев наповал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































